Читать книгу "Свободный человек"
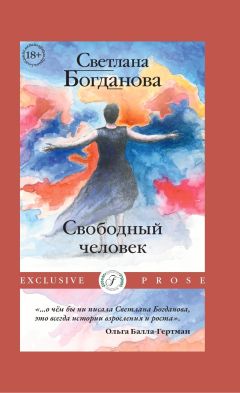
Автор книги: Светлана Богданова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Когда Эдип проснулся, была ночь. Он сел, спустив ноги со своего ложа, но, вместо того чтобы ощутить неприветливую прохладу мраморного пола, его неожиданно окрепшие ступни скользнули по чему-то теплому и податливому. Наклонившись, он понял, что стоит над полом – и как граница, как разделительная черта между его ногами и блеклыми прожилками камня искрится, трепещет прозрачный слой воздуха, не затемненный тенью и никак не сминаемый отныне невесомым его телом. Мягко и легко пройдя по комнате, Эдип остановился и взглянул вокруг. Сейчас он был совершенно уверен, что все, увиденное им, было ему незнакомо. Не под давлением мучительной лихорадки, последние дни помутившей его рассудок, не под расплавляющим все очертания дыханием жары, не под пугающими заклинаниями усталых жрецов – все окружающее изменилось по какой-то непонятной ему причине, но единственным, доподлинно известным ему было то, что оно действительно изменилось – внезапно и бесповоротно. Это уже были не его покои, поскольку стены здесь закруглялись, точно бока глиняного сосуда, углы бесследно исчезли, а окно, еще недавно бывшее квадратным, как и все окна во дворце фиванских правителей, теперь изогнулось и формой своей напоминало узкую продолговатую арку. Вместо обычной решетки его закрывала прозрачная твердая пленка, похожая на искусно отшлифованный кристалл, впрочем, украшенная пестрым орнаментом, в центре которого, среди разноцветных треугольников и кружков, была нарисована печальная женская фигура – Иокаста? – держащая в руках уснувшего дитятю – Эдипа? – оба они, и мать, и ребенок, сидели верхом на осле с огромными карими глазами, подходящими скорее корове; осла того вел старик, лицо его было морщинисто и измученно, Эдипу показалось, что это лицо фиванского пастуха. Эдип подошел к окну и дотронулся до него. На ощупь картинка была ледяной – такой удивительно ледяной, что Эдип быстро отдернул от нее палец и долго дышал на него, отогревая. Осел! Обернувшись, Эдип увидел, что ложе, на котором он только что спал, покрыто серовато-бурой шкурой. Приглядевшись, он понял, то была шкура осла – того самого, на котором Креонт вернулся из Дельф, принеся Эдипу весть, что моровую язву, разразившуюся в его царстве, можно победить лишь узнав имя убийцы Лая, убийцы, уже двадцать лет безнаказанно живущего в Фивах, живущего и не ведающего отмщенья, узнав его имя и изгнав его прочь, в чужие земли. Эта шкура – Эдип сам велел ее не сжигать – хранила на себе карту: составленная неизвестным путешественником, такая карта, в точности отображавшая действительное расположение фиванских земель и соседствующих с ними, а также и неведомых Эдипу царств, городов и островов; карта помогла бы ему в поисках плавучего архипелага, о котором он читал с такой жаждой в своей излюбленной книге.
Наклонившись над шкурой, Эдип снова нашел и Фивы, и Коринф, нашел он и морской берег, и горы и долго сидел, разглядывая каждый изгиб и каждую точку на карте, сидел, пока шкура не окрасилась, не заиграла цветными бликами, скользнувшими сперва по округлым стенам и упавшими затем на ложе – через странный орнамент в окне, скрывавший от бессонных глаз Эдипа наступающий рассвет.
На шкуре отчетливо выделялось странное рыжее пятно – в самой середине проплешины, принятой им за Фивы, и из этого пятна, означавшего, без сомнения, его собственный, Эдипа, дворец, вилась тонкая, будто начерченная лезвием клинка, изогнутая линия, бывшая, конечно же, дорогой, по которой Эдипу следовало идти – в направлении моря.
Не ведая как, Эдип выбрался из сложного и чужого ему здания – то ли храма, то ли дворца. Это был не его дворец, не тот фиванский дворец, чьи коридоры и галереи за долгие годы он выучил наизусть. Здесь ему приходилось бесчисленное множество раз поворачивать, но перед тем останавливаться, прислонившись к тусклой стене и подставив растерянное лицо навстречу метущемуся меж разноцветных окон сквозняку. Эдип раздувал ноздри, по запаху пытаясь определить то место, где заканчивались закоулки и где он смог бы выйти наружу. В конце одного подобного коридора показалось нежное утреннее свечение, и, направившись туда, Эдип через несколько мгновений очутился на улице.
Однако перед ним предстала вовсе не привычная дворцовая площадь, мощенная смуглыми булыжниками, на которой Креонт устраивал своим воинам учения. Все вокруг было голо: деревья, будто во время чудовищного урагана потерявшие свои листья, дорога – обыкновенная, славно утоптанная тропа, однако слишком широкая, замершие вдоль нее небольшие каменные дома с наглухо закрытыми окнами и дверями. Эдип взглянул на небо: оно почти совершенно скрылось за тяжелыми мутными облаками, лишь над горизонтом золотилась чистая полоска зари. Эдип шагнул, и в то самое мгновение, когда у него за спиной остались гулкие переходы, где он только что блуждал, в лицо ему ударил ломкий морозный воздух, небо точно дрогнуло, облака поблекли и натянулись, из них медленно попадали на землю белые мокрые хлопья, видом своим напомнившие Эдипу состриженную овечью шерсть.
Водрузив себе на плечи ослиную шкуру, служившую ему и картой, и накидкой, и ощутив обнаженными руками тепло, он медленно пошел по тропе, с радостью замечая, что ступни его по-прежнему никак не соприкасаются с землей. Он двигался в ту сторону, где, как он чувствовал, шумят холодные волны и откуда струится зовущий и такой знакомый запах соли и лаванды.
*Гера спускается в царство мертвых, – сама Гера пожелала перейти через Стикс, чтобы узнать, чем кончится придуманный ею миф. Она подходит к реке и видит Харона, лицо его серо, под глазами тяжелые кожистые мешки – следствие многовековой бессонницы, он не узнает ее. Своей маленькой проворной рукой он открывает ее таинственно сомкнутые губы и достает из-под ее языка розовую аметистовую бусину – точно такую, какие рассыпала Иокаста, гулявшая по берегу Астерии. Харон не знает ничего ни об Иокасте, ни об Эдипе: он лишь видит перед собой новую пассажирку для своего ветхого судна, он берет себе бусину, ему нравится аметист, оживляющий все в этих скорбных сумерках светлым сиянием, переправа оплачена, и Гера садится в ладью – на паром ли? на движущийся ли мост? на плот, подпрыгивающий при каждом вздохе времени? – садится и отправляется на другой берег. Сойдя там, она протягивает вперед ладони, и, захватив будущее, создает мутную смесь его с прошлым. В эту смесь включено все, там плавают соединившиеся фигурки Эдипа, Тиресия и Иокасты, там растворяются глиняные таблицы, поведавшие потомкам о плавучем архипелаге и развлекавшие предков, явленных на свет позже собственных детей.
Стоя на черном песке и глядя вослед удаляющемуся в ладье Харону, Гера чувствует славную прохладу окружающей ее смерти, она вздрагивает и издает резкий крик – победоносный и испуганный крик новорожденного.
Искусство ухода
Повесть
Посвящается Жене Богдановой
Глава 1
Двери теперь были закрыты, и анфилада существовать перестала. Все для меня потеряло смысл: и катание по кругу на моем тяжелом темно-желтом самокате – через все комнаты, – и наблюдение за танцующей девушкой, обутой в мужские ботинки, на которые сверху были надеты полотерные щетки – по коричневатому блеску паркета, и игры с бабушкой в прятки. Я стал избегать переходить из комнаты в комнату, потому что теперь это можно было сделать лишь через боковой коридор, параллельный моей некогда любимой анфиладе, то есть, в сущности, представлявший собой другую анфиладу, но всегда казавшуюся мне слишком светлой, слишком незащищенной, ибо ее восточная стена была нещадно пробита кем-то в трех местах, и мне, возможно, из-за малого роста либо еще по какой-то другой причине казалось, что именно над этим коридором отсутствовала какая бы то ни было кровля, и мне бывало особенно страшно смотреть сквозь три стекла на движение серых влажных облаков прямо над моей головой.
Теперь все переставили, словно пытаясь навсегда стереть из моей памяти некогда стремительно разворачивавшуюся передо мной перспективу, но я по-прежнему мог представить себе быстрое движение бабушкиных полных ног, колыхавшийся пониже колен подол светлого платья в мелкий цветочек, икры, похожие на две округлые рюмки, эти икры я никогда бы не перепутал с какими-нибудь другими, бабушку я могу бы узнать даже только по ним, – а пара прямоугольных бликов, таких, которые бывают лишь на тщательно чищенной обуви с высокими крепкими каблуками. Даже сейчас я закрываю глаза и вижу, как бабушка твердой энергичной походкой направляется, распахивая одну за другой двери анфилады, вглубь квартиры и говорит своим высоким, немного даже театрально-гулким голосом:
– Фу, духота! Надо непременно устроить ветер!
Увы, комнаты вдруг стали тусклыми, у мебели появился какой-то особенный химически-затхлый запах, как раньше, когда звали двух мужчин в мешковатых синих брюках с маслянистыми пятнами на коленках, и они из маленького тонкого шланга поливали за шкафами и диванами потрескавшиеся от старости плинтусы оранжевой густой жидкостью против жучков. После того как они уходили, появлялся тот самый тяжелый запах, и у меня начинали чесаться глаза, а бабушке особенно часть хотелось «устроить ветер». Спустя несколько дней этот запах исчезал, и в квартире снова привычно воцарялись благоухания сладких цветочных духов и вытекавший из кухни соленый аромат жарившихся котлет.
Каждое утро я просыпался теперь оттого, что дедушка заходил ко мне, в детскую, наклонялся и целовал меня в лоб своими сухими губами – перед тем, как отправиться на работу. Я открывал глаза и видел его удалявшуюся спину – костюм сидел на нем свободно, так, словно был ему великоват – мой дед был высок, но субтилен, издалека, когда я мог разглядеть его целиком, он напоминал мне тонкую длинную кость. Возвращался с работы он вечером, когда мы с бабушкой уже успевали нагуляться, почитать и немного помучить старинный рояль, покоившийся в центре гостиной. В это время я чувствовал себя особенно усталым, и приход дедушки был для меня долгожданным сигналом к ужину и – затем – отправлению спать. Но – странно – ложась в кровать, я еще долго не мог заснуть, мне вдруг мерещилось, что все тело мое превратилось в миниатюрную железную дорогу и что тысячи поездов начинали двигаться по никому не ведомым запутанным маршрутам, меня лихорадило, в голове стоял беспрерывный звон кондукторских колокольцев и стрекот переключаемых стрелок, и голоса двух споривших стариков, сочившиеся в детскую сквозь неприкрытую дверь, сперва звучали резко и раздражающе, а потом вдруг укладывались в общий ритм моего тела и страстно пульсировали на перекрестках зелеными и красными огнями.
По выходным дедушка брал меня с собой гулять в парк. Мне нравилось надевать бежевый фланелевый берет с маленькой петелькой на макушке и особенно шедшие мне темно-коричневые лакированные ботинки – массивные и тупоносые, в каких обыкновенно вышагивали самые дерзкие мальчишки на книжных картинках. Мы бродили по мокрому асфальту вдоль аккуратно постриженных спутанных кустов, иногда садились на скамейку и вели чинные медленные разговоры о птицах или о неизвестных мне сортах хлеба – исчезнувших за несколько лет до моего рождения.
Когда анфилада исчезла, все как-то стало портиться, дедушка брал меня на прогулки все реже, и фланелевый берет вдруг стал мне мал – он туго обхватывал мне голову, и спустя несколько минут на лбу у меня появлялась розовая полоска. Тогда бабушка связала мне шерстяную шапку из толстой белой пряжи, и она мне сразу не понравилась, потому что тут же искусала мне уши и шею, и я расчесал их до красноты в первый же выход на улицу.
Кроме того – и это самое неприятное, – во время наших вылазок в парк к нам в друг стала присоединяться какая-то чужая женщина. Хорошо помню, что она носила длинное вишневое пальто и полусапожки на шнурках. Она немного хромала, и ее хромота не испугала бы меня, если бы я не заметил, что под шелковым чулком ее правой ноги при ходьбе, возле самого уже начинающегося голенища сапога, где ткань сильно натягивалась, беспощадно поблескивала полировка деревянного протеза.
Когда мы встречали ее, она всегда наклонялась и называла меня по имени, и я отчетливо видел, как ее сочный рот огромным, темно-бордовым мотыльком уже готов был упасть на мою холодную от осеннего ветра щеку, и тогда я судорожно отстранялся и натягивал мучительно колючую шапку себе почти на самые брови. Правда, этот воинственный жест не давал никаких результатов, моя обидчица лишь звонко смеялась – однако же несколько искусственно, похоже смеялись по радио старые актрисы, игравшие роли придворных дам или владелиц отправленных под молоток усадеб… Затем она неизменно протягивала мне кулек из грубой серой оберточной бумаги, наполненный полупрозрачными круглыми карамельками, я мстительно разжевывал их одну за другой, клейкая масса забивалась между зубами и натирала мои чувствительные десны, – пока дедушка о чем-то оживленно беседовал с незнакомкой, прохаживаясь с ней под руку мимо той скамейки, где теперь я призван был сидеть в одиночестве и набивать себе желудок этими противными мне сладостями.
По возвращении домой мы с дедом должны были словно забыть о существовании женщины с деревянной ногой и о ее безвкусных, похожих на стеклянные бусины конфетах.
Отныне все чаще я сидел один у себя, в детской и чем-нибудь тихо занимался. Обычно это было рисование. Я полюбил рисовать акварелью – правда, мне не разрешали портить плотную бумагу, хранившуюся в большой картонной папке с широкими белыми завязками, некогда принадлежавшую моей матери. Поэтому я пользовался обычными писчими листами, они вздувались и морщились под действием моей обильно смоченной кисти, разноцветные пятна расплывались и наползали друг на друга, и трудно было разобрать какие-либо контуры и очертания, все превращалось в яростное месиво, поначалу смешившее бабушку и страшно раздражавшее деда.
Между тем я все реже сидел с ними в гостиной – не из любви к одиночеству, но просто из желания не пользоваться лишний раз светлым коридором. Я почти совсем перестал участвовать в их беседах – впрочем, и бесед-то уже никаких не было, все чаще они долго молчали, и если прислушаться, можно было уловить тонкое позвякивание бабушкиных вязальных спиц и густой шелест читаемых дедом газет. Даже когда я ложился спать и множество вагончиков отправлялись по вибрирующим дорогам моих утомленных членов в туманные пункты назначений, я не слышал более спорящих за стеной голосов, и мне казалось, что светофоры на моих путях теперь уже не мигают, а лишь одинокие стрелочники бродят вдоль рельсов и уныло переключают рычажки – наугад, рискуя столкнуть друг с другом встречные составы.
Меня вдруг стала пугать возможность столько бессмысленной и к тому же неизвестно что с собою несущей катастрофы. Я больше не вытягивался на спине, а старался свернуться калачиком и не прислушиваться к щелчкам и гудению в моем теле. Засыпалось мне труднее, пока я не придумал себе другую игру. Теперь я, ложась спать, оказывался помещенным в удобный гамак, привязанный к ветке дерева. Я мысленно начинал раскачивать его, и вместе с ним раскачивался и сам, это ритмическое движение поначалу убаюкивало меня ничуть не хуже железной дороги, но потом вдруг что-то случилось и с моим уютным гамаком, я словно бы потерял над ним контроль, и он несколько раз вдруг неожиданно и быстро переворачивался, а я вздрагивал и понимал, что уже почти заснул, но вот очнулся, да притом еще и с колотящимся сердцем и дрожью в ногах, и мне придется заново усыплять себя.
Вскоре бабушка заболела. Она лежала на кровати бледная, какая-то вдруг высохшая, и тяжело, надрывно кашляла всей грудью. Рядом, на тумбочке, подпрыгивал стакан с лимонным чаем, старый серебряный подстаканник тихо звенел. В то время светлым коридором старались пользоваться как можно реже, чтобы было поменьше сквозняков. Двери во всей квартире закрывались плотнее, в комнате бабушки прочно установился сладковатый анисовый запах лекарств.
Мне разрешили выходить на улицу без взрослых.
Бабушка чаще стала есть сладкое, она внезапно пристрастилась к пирожным и посылала меня почти каждый день в кондитерскую на углу нашей улицы – за покупками. Особенно она стала охоча до восточных сладостей – чай теперь пили с плотным темно– желтым шербетом или с липкой ослепительно-белой косхалвой. Я уже умел неплохо считать в уме и всегда педантично приносил домой сдачу. Я выкладывал влажные от пота, потемневшие, смятые в кулаке бумажки на тумбочку, и бабушка слабым голосом благодарила меня. Она не играла со мной, как прежде, лишь изредка брала в руки какую-нибудь детскую книжку и принималась читать вслух, чтение это длилось недолго, вскоре голос ее срывался, она некоторое время молчала, изумленно обводя непонимающим взглядом комнату, затем разражалась своим ужасным кашлем. Когда она кашляла, щеки ее краснели, а глаза начинали сильно слезиться. Мне было мучительно смотреть, как разрывается от кашля ее рот, как она силится сдержаться, положив себе на колышущуюся от хрипов грудь ладони, в такие минуты я словно бы видел, как все громоздкие вещи, окружающие ее, не дают ей успокоиться, они будто сгрудились вокруг ее больного тела и не позволяют ей дышать. И шкаф, набитый старыми книгами, увенчанный темными резными деревянными шкатулками, в которых хранились разноцветные мотки ниток и груды перламутровых и костяных пуговиц – я всегда с удовольствием их пере бирал, – и тучный дубовый комод, поскрипывающий порой под тяжестью своих льняных накрахмаленных внутренностей, и тумбочка, бережно хранящая на своей поверхности уже высохшие кружки от некогда небрежно кем-то поставленных на нее чашек, и вздрагивающий за серебряными арабесками подстаканника чай с лимоном – все наползало на мою бедную бабушку и жестоко душило ее. Мне хотелось закричать, затопать ногами, заставить неумолимые предметы расступиться, освободить ход для воздуха, отпустить из своих цепких клешней бабушку. Но я чувствовал бессмысленность борьбы, поскольку был слаб, и моя слабость прибавляла мне злости. Я выбегал из ее комнаты и несся по светлому коридору в детскую, в отчаянии пиная каждую дверь ногой и не заботясь о том, чтобы снова их прикрывать. Однажды меня за это отругал дед – он пришел домой и увидел, что все двери распахнуты и на некоторых из них – прямо на белой краске – остался призрачно-серый след моего перепачканного пылью улицы ботинка.
К этому времени мы с дедушкой еще больше отдалились друг от друга, он перестал меня брать с собой на прогулки, чему, впрочем, я был рад: я и так бывал теперь вне дома почти каждый день, когда ходил за сладостями для бабушки, кроме всего прочего, я не жалел о том, что все реже видел женщину с деревянной ногой. Реже – потому как выяснилось, что она работает продавщицей в кондитерской, где я стал завсегдатаем. Она стояла за прилавком отдела, где были выставлены карамель и дешевое печенье, и призывно улыбалась мне всякий раз, как видела, что я направляюсь из другого конца магазина, нагруженный красиво упакованными восточными сладостями, к выходу, я же лишь судорожно кивал ей и выбегал наружу.
Между тем, бабушка разговаривать совсем перестала, она лишь молчала и с нежностью смотрела на меня, когда я спешил исполнить ее мелкие желания, о которых она могла мне поведать только жестами. К моему изумлению, дед вдруг перестал ходить на работу, а однажды утром я проснулся и обнаружил, что взрослые куда-то исчезли и в квартире, кроме меня, никого нет. Я оделся и прошел по светлому коридору – мне почудилось, что там было особенно зябко, затем в гостиную, в кабинет деда – везде мои шаги звучали необычно гулко, словно квартиру покинули не только люди, но и вещи. Затем я заглянул в комнату бабушки. Я сразу заметил странное изменение в обстановке. Все было на своих местах, но я ощутил, что каким-то необъяснимым образом здесь стало свободнее, мебель и мелкие вещицы, громоздящиеся на ней, будто бы отступили от бабушкиной кровати и скромно и печально затихли по углам. Я подошел и сел на покрывало, тщательно разглаженное дотошной рукой сиделки, я пытался понять, что же произошло, но все вокруг хранило молчание, и ни складка, ни морщинка на ткани, ни даже по-прежнему стоящий на тумбочке, но безнадежно остывший чай не желали выдавать своих тайн. Я втянул носом воздух, и, не сдержавшись, при этом всхлипнул: ставший уже привычным запах аниса исчез, и в комнате теперь пахло, как и раньше, приторными духами и пыльным деревом.






























