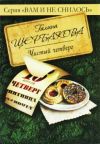Текст книги "Чистый четверг"

Автор книги: Тамара Ломбина
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Степан и Стефания
Рассказ
Зачем он женился на ней?.. Потому ли, что пришло время и родители решили, что ему пора быть женату, а, может быть, потому что она равнодушно отвела от него прекрасные глаза и отвернула надменное лицо польской красавицы? Он бесцеремонно разглядывал ее аккуратное, но простое и явно не новое платье, а когда она, получив разрешение родителей, тихо пошла из комнаты прочь, Степан с какой-то зловещей радостью обнаружил, что она хромоножка. Но даже хромота не делала ее походку неопрятной или уродливой. Была какая-то ломкая грация в ее шаге.
Что больше всего всегда раздражало его в ней? Изысканное имя, которое он сразу же переменил на более привычное для жизни на хуторе. Он стал ее звать Степанидой. Пару раз ее брови взлетели в недоумении вверх, но потом она откликалась на его зов.
А, может, его раздражала ее гордая смиренность? Она ни разу не сказала ему «нет». На все его замечания она реагировала сразу же, с первого слова, и никогда не повторяла ошибки. Где, кто научил ее всем премудростям крестьянской жизни? Воспитывалась она в доме учителя, и было странно, что все ей словно подсказывала интуиция еще до того, как он впадет в привычное раздражение, и она делала, пусть и неумело, но именно так, как это было должно.
Зеркала в доме Степан не держал, он и так знал, что Бог над ним не очень тщательно поработал. Не было, видно, времени у Господа на отделочные работы. Огромная голова на нелепом квадратном теле. Вечно торчащие в разные стороны волосы. Глаза, как два буравчика… Хоть бы рост выручил, но и в этом Господь обделил.
Что же испытывал Степан к своей молодой жене? Можно ли найти определение тому чувству? Ему было больно, ему всегда было больно видеть ее во всей не проходящей ни от тяжелой работы, ни от постоянных родов красоте. Она не полнела от родов, наоборот: после каждых родов она опять становилась хрупкой панной, а в глазах ее, как в родниковом озере, все больше настаивалась загадка ее долготерпения.
Степан был из очень богатой семьи, и ему можно было жить в центре села, но он специально поселился на хуторе. Первый раз так случилось, что первого ребенка Стефания приняла у себя сама, а потом для Степана стало привычным, что она могла вернуться с поля с кулечком их нового ребенка. Он только подходил убедиться, что и в этот раз она опять родила очередного своего ребенка. Дети рождались один за другим, и все были точь-в-точь мать, и Степану казалось, что именно в их глазах он видел какой-то старчески мудрый упрек ему, и он не понимал и не хотел понять, за что.
Дети ее были тихими и странными, как и их мать. Они умели никогда не шуметь, не путались под ногами, как обычные дети, а едва начинали ходить, как тут же принимались помогать матери, понимая ее с полувздоха, полувзгляда.
Нельзя сказать, что ее молчаливость тяготила Степана, он и сам был не болтун, но порой он ловил мимолетный обмен улыбками между матерью и детьми, и такая нежность, и такая боль была в этой тайной связи их, что Степану становилось стыдно, словно он подсмотрел что-то тайное, ему не положенное. Хоть бы один был в него, чтобы у него, как у мужиков – все понятно, грубо, весомо. Так ведь нет, ядрена вошь! Все панычи, все и в крестьянских рубахах хоть сейчас на бал, а не навоз чистить. А и чистили, как миленькие чистили, да еще и сверх того, что нужно, чтобы неповадно было…
Однажды Степан вернулся раньше времени из села, не ждали его, и ему показалось, что он в задумчивости попал не на свой хутор. Из хаты доносилась песня, звуки скрипки. Степан не хотел прятаться и красться к собственному дому, как… Словом, он подошел к окну и увидел, что все семейство, словно умытое солнцем, сидит вокруг матери, а Стах, его старший, играет какую-то тихую, но веселую песню, и они все, мать, и оба сына, и три дочери, поют. Степан затаился и с удивлением увидел, что дети, передавая друг другу скрипку, играли и пели, а Стефания светилась.
Она светилась таким ясным, спокойным и достойным светом, что Степан закрыл глаза и отошел от окна. Он зачем-то вернулся в село, зашел в шинок и первый раз пришел домой пьяный.
И здесь она повела себя так, что ему не в чем было ее упрекнуть: она помогла ему раздеться, уложила в постель.
Степану казалось, все его беды, все его неудачи были связаны с тем, что он когда-то неизвестно зачем женился на этой чужой и непонятной женщине.
Когда в село пришли немцы, это из-за нее он потерял своего старшего сына. Собственно, немцы докучали не более, чем свои, бендеровцы, которые точно так же могли прийти и отобрать последнее, но временами на немцев нападала боязнь партизан, и тогда они лютовали. А Стефания отправилась в село обменять свою единственную нарядную кофту на сахар. Стах узнал, что немцы устроили облаву, и побежал в село, чтобы встретить мать, и в страхе за нее не послушался приказа остановиться и предъявить документ. Все его мысли были заняты ею.
Не велено было немецкими властями хоронить тех, кто ослушался приказа и кого застрелили в тот день. Слава Богу, удалось Степану уговорить полицая Хмару за кусок сала, и им разрешили через три дня ночью забрать и похоронить сына.
Даже тогда она не плакала. Да что тогда, она не плакала никогда. Это на Степана наводило тоску и ужас перед силой ее характера.
Когда после войны по чьему-то наговору их обвинили в пособничестве бендеровцам только за то, что они так же, как и все другие, вынуждены были отдавать последние куски этим лесным людям, она, собирая свой нехитрый скарб в страшную дорогу на дальний север, на поселение, не проронила ни слезинки.
Боже милосердный… Что это была за дорога! Умирали старухи, дети, не выдерживая холода, голода… Она и тут не роптала, не плакала, ей удавалось и среди этого ужаса быть словно только что умытой. А дети, в отличие от иных, не плакали и не просили есть, а молча угасали один за другим. Степан скрипел зубами и рукавом отирал мокрое лицо, а она не плакала. Только глаза ее становились пронзительно синими и бездонными, и смотреть в них было невозможно: океан мировой скорби не вместил бы в себя всей боли, какая была в них. Одного сына привезли они с собой на север живым. А вскоре родилась их последняя дочь.
Тут уже, на севере, совсем было отнялась нога у Стефании, но вскоре она поднялась и все-таки стала ходить, волоча левую ногу. Как бы ни было ей трудно, всю работу и по дому и в огороде продолжала делать. Степан не считался с ее хромотой. Спокойно, неумолимо требовал от нее выполнения всех домашних дел. И в те редкие минуты, когда она вдруг позволяла себе прилечь, он находил ей работу, и она безропотно поднималась и, все больше волоча ногу, молча выполняла все, что было нужно.
Дети выросли незаметно, времена изменились. Степан как-то заговорил о том, что можно вернуться домой, на Украину, но Стефания спросила его:
– А кто нас там ждет, кому мы нужны? Хотя и здесь мы никому не нужны. Не перенести мне уже переезда.
Степан больше не возвращался к этому разговору. Жизнь все быстрее и быстрее стала катиться под горку. Дочь закончила школу, а потом – институт, да так и осталась в городе. Сын тоже после музыкального училища закончил консерваторию, только в отпуск заезжал в родной дом. У всех свои заботы. Правда, звали они родителей к себе, но Степан не мыслил своей жизни без хозяйства, без коровы, без огорода. И продолжал жить по-своему.
В последнюю осень у Степаниды совсем отнялась нога, и она собирала картошку, чуть не ползая по холодной земле. Степан словно не замечал, как ей трудна была эта работа. Соседи осуждающе смотрели на него, предлагали помощь.
– Не надобно нам помощи, – отрезал Степан.
После сбора картошки Стефания слегла и больше не поднялась. А через три недели ее не стало.
Похоронили ее, как подобает: отпел поп, поплакали дети. Степан не плакал, но с недоумением смотрел на чужое и словно помолодевшее, необыкновенно спокойное, даже умиротворенное лицо жены. Первые два дня он привычно кричал: «Стэпа, подай…». Но только слезы дочери и больные глаза сына встречал в ответ на свой зов. На третий день он лег на их общую кровать, на которой они проспали бок о бок больше сорока лет, и больше не повернулся, не откликнулся на просьбы сына и дочери, на их мольбу и уговоры, отталкивал пищу и отрешенно молчал.
Как он раздражался на их попытки вернуть его к жизни. Они ему мешали, они его отвлекали…
Боже мой, как хороша была эта полька! Сердце его зашлось от горячей волны непонятного и незнакомого чувства. Больше всего в жизни он боялся, что она посмеется над его смелостью попросить ее руки. Чтобы такая раскрасавица да согласилась выйти за него… да никогда не бывать такому счастью.
Степан увидел свое некрасивое лицо, покрытое румянцем стыда и ожидаемого позора, но она не отказала. А может, мать настояла – все-таки единственный сын Герасима Данильчука. Свой лес…
Как хороша она была в белом наряде невесты!
Степан был почти счастлив. Он исподлобья смотрел на свою невесту. А когда поп обвенчал их и он должен был поцеловать молодую, как удар хлыста был для него ее испуганный взгляд. Он еще минуту назад был так счастлив, что совсем забыл, как смешон в вышиванке с торчащими непослушными волосами. Был момент, когда ему казалось, что он и сам стал красивым, как эта прекрасная полька. Но когда она отшатнулась от него, сердце его упало и разбилось у ее ног. У него немели губы и пальцы рук, когда он думал о ней. Потому и стал изнурять себя работой, чтобы сердце не разорвалось от нестерпимого желания все бросить и побежать туда, где была она в своей всегдашней спокойной отдаленности от всех, от всего мира, а больше всего – от него.
Степан не верил себе, когда увидел, что жена понесла от него дитя. Он был счастлив. Одна только мысль не давала ему покоя: «А вдруг не разродится, вон она какая худенькая да бледная». От мысли, что она может умереть, ему становилось так смутно на душе, что он, переборов в себе отвращение, пил… Пил много и сумрачно. Даже ночью он просыпался от мысли, что в последний миг перед венчанием воскресший отец Стефании говорит ему: «Посмотри на себя, пся крев, а потом сватайся…». Он просыпался, садился на кровати и долго смотрел на свою панну. Если бы она когда-нибудь почувствовала, что творится в его страдающем сердце! Он вначале хотел отправить жену в село, чтобы она родила там, но от мысли, что не будет ее видеть день или два, его сердце каменело.
«Ничего, приглашу бабку, пусть поживет на хуторе какое-то время, пока разрешится… Стэпа», – даже про себя он переименовал ее, чтобы хоть чуть-чуть опустить ее до себя.
В тот день он пошел за бабкой-повитухой. Непонятно, почему так тяжело было у него на сердце. Когда же вернулся с повитухой, то поначалу не понял, почему она лежит. Лишь когда пискнул ребенок, в глазах его потемнело. Он убежал в лес, словно лось, бегал по бурелому, плакал, смеялся. Похоже было, что на него нашло затмение. Но потом, умывшись в холодном лесном ручье, он пригладил свою дикую шевелюру, с отвращением посмотрел на свое отражение в ручье и вернулся домой с заранее припасенным подарком – куском ткани для его первого сына – Стаха. Он неловко потоптался перед кроватью жены, посмотрел на услужливо поднесенного повитухой ребенка. Губы его кривились от комка в горле, который он никак не мог проглотить. А потом ему втемяшилось, что если не она сама будет принимать у себя своих детей, а кто-то чужой, то либо с ней, либо с ребенком случится беда. Когда она молча начинала готовиться: ставила воду, расстилала белые простыни из отбеленного льна, он чувствовал, что опять что-то похожее на сумасшествие начинает овладевать им. Он убегал в лес и рубил, крушил деревья, пока сердце ему не подсказывало, что все кончилось, и ни разу не ошибся.
Все его дети были так невероятно похожи на свою мать, что Степан никак не мог поверить, что они и его дети тоже. Ему не верилось, что эти хрупкие и прекрасные, как цветы, создания могут быть его плотью и кровью. Так понимать, так чувствовать, как понимали и чувствовали друг друга Стефания и дети, было просто невозможно. Она даже не учила их играть на скрипке, а ставила малыша перед собой, брала его руки в свои, и они несколько раз играли какую-то, возможно, даже ею придуманную мелодию, и скоро дети начинали играть.
Степану всегда казалось, что он мешает ей и им. Вечером он старался придумать себе дело. А порой шел в село, заходил в шинок и грезил: вот они все: он, она, их малыши, сидят вместе, а детишки, как это всегда бывает, ползают по его коленям, он их подбрасывает, а они громко хохочут. Но почему-то они никогда не хохочут, не шумят. И все же как дороги ему эти бледные синеглазые крохи.
Как ни страдал Степан от своего, как он полагал, уродства, но одно ему было ясно, что молодицы, а особенно вдовушки, иной раз с ним откровенно заигрывают. Ему было невдомек, что его медвежья смурная сила не всем казалась такой неприглядной, каковой мнилась ему самому.
Уж чего только эта Ксанка ни придумывала! То в одном помочь надобно, то другое поднести, а после настойчиво зазывала Степана в хату: горилочки, огурчиков, помидорчиков… Степан мрачно выпивал стопку, брал кусок хлеба, нюхал его, клал на место и уходил, а вслед ему несся отчаянный хохот Ксанки:
– Запугала тебя твоя панна, уж на нас, простых смертных, и глянуть не хочешь.
– А чего, я тебя не видел, что ли? – сумрачно улыбался он и осторожно отодвигал от себя пышнотелую красотку.
– Порчу она на тебя наслала, – фыркала Ксанка, поводя крутыми боками. И чувствовал Степан, что ведь точно, не безразличен он ей, но это было каким-то недоразумением.
* * *
Страшной была эта бесконечная дорога смерти на север, не дай Боже никому терять в такой дороге столько, сколько потеряли они. Но Степан молил Бога только об одном: «Господи, всесильный и милосердный, не отбирай ее у меня». Он понимал, какую цену назначил за ее жизнь, и, когда затихал навсегда их очередной ребенок, он плакал страшными слезами.
Зато тяжелая, непосильная работа на лесоповале не казалась ему такой уж и непосильной – ведь она была с ним рядом.
Он даже не заметил, когда ее золотые косы стали серебряными, он уже давно видел ее не глазами, а сердцем.
* * *
Дети пытались отнять отца у смерти, не понимали, глупые, что он умер в тот момент, когда умерла она. Одно было мучительно: он дал ей слово уйти, когда придет время.
Лежа то ли в забытьи, то ли во сне, он все время вспоминал ее последние слова и долгое время не мог ей поверить…
– Как это она сказала, – шептал Степан. – «Поверь мне, я была с тобой самой счастливой женщиной. Ты единственный, от кого я хотела иметь детей, я благодарю Бога за то, что он соединил нас…».
Как странно распорядилась жизнь, что самый счастливый и самый несчастный миг его жизни совпали.
* * *
Ее последние мысли были о детях и о нем. Она вспоминала всех рожденных ею детей. Рада была, что наконец-то встретится с теми из них, которых Бог уже призвал к себе, перецеловала воспоминания о каждом из них: Геля, Стах, Герасик, Дмитрий… Она уже научилась думать о них светло, без тоски. Как же счастлива она была в своем материнстве!
Напоследок простилась с живыми детьми, а потом оставила немного времени на то, чтобы еще раз пережить свою женскую долю.
Неожиданно и нежеланно было появление этого странного некрасивого человека в ее судьбе. Из всех книг и романов, которые она успела к тому времени прочесть, Стефания нарисовала в сердце облик избранника. О, это был красавец, похожий на ее двоюродного брата, богатого, высокомерного, уверенного в себе, который даже не заметил ее тогда, в их первую встречу. Как, собственно, и во все следующие. Отец был наказан за гордыню, и все наследство перешло родителям Андрия. Но ему так шло быть богатым.
Ах да, Степан… какой нелепый, неловкий человек: он споткнулся о половики, задел вазу. Когда увидел ее, то так откровенно стал разглядывать, что Стефания рассердилась, но потом ее потрясло его искреннее любование ею, восхищение, которого не могли скрыть ни его диковатость, ни хмурая неуклюжесть.
Мама не уговаривала, она просто плакала и говорила:
– Деточка, что же мне делать, как мне прокормить семью, как устроить твою судьбу?
Она тогда впервые заметила седину в голове своей матери-красавицы, ее поникшие плечи, ее детскую растерянность.
– Не плачь, мама, я согласна, – тихо ответила она на ее немой вопрос.
Как этот медведь раздобыл подвенечное платье? Чьи руки сплели этот бело-розовый венок? Только такое платье и могла она придумать для себя в своих девичьих мечтах, только такой венок шел ее пышным косам.
– Какая ты красивая у нас, Стефания! – шептали потрясенные младшие сестрички.
Она, действительно, чувствовала себя красивой и была искренне рада тому, что мама пригласила к ней на свадьбу Андрия. А ведь он тоже впервые увидел ее.
– Поздравляю тебя, – долго глядя своими желто-медовыми глазами в ее глаза, проговорил он и так поцеловал ей ручку, что сердце ее остановилось, а потом вспыхнуло солнцем и сожгло ее…
О, как ей был ненавистен этот уродец в свадебной рубахе, с его восхищением и с его кустарником волос над некрасивым красным лицом! Она перевела взгляд с лица жениха на лицо Андрия и чуть не сорвала венок с головы. Но в этот момент мама, мудрая мама, всегда все понимающая мама, подошла к ней и прошептала:
– Детуся моя, моя доченька, моя умница…
И она впервые увидела в ее глазах слезы.
Стефания не помнила, как они ехали в церковь, не слышала, что говорил поп, ей было страшно, что она сейчас упадет в обморок. Когда поп сказал, чтобы молодые поцеловались, она повернулась к Степану и совсем близко увидела его лицо. Стефанию прямо качнуло, и жених едва удержал ее. Она никогда не видела столько любви, нежности, испуга за нее, неверия в свое счастье и такой боли, что могла поклясться: ей не доводилось видеть человека красивее, чем этот чужой и еще минуту назад ненавистный ей жених.
Впервые за последние три года после смерти отца ей стало не страшно. Да, она ничего не боялась, она безраздельно доверилась ему. Любила ли она своего молодого мужа? Стефания почему-то с первой минуты стала понимать все, что он чувствует, все, о чем думает. Да, ей нравилось, что он так мучительно любит ее. Она ловила иногда такие страстные взгляды на себе, что где-то в ее девичьем сердце и еще спящем теле просыпалась смутная музыка женщины. Но он никогда не давал прорваться этой страстности, всегда был ровным и сдержано нежным с ней. Она не знала, любила ли мужа, но каждый раз со сладостным чувством гордости открывала для себя новую беременность и не тяготилась ею. Естественно и легко вынашивала и рожала детей, а перед родами всегда боялась не за себя, а за него, потому что он становился таким потерянным, что ей хотелось подойти и приласкать, погладить, успокоить его, но она не могла переступить через свою природную сдержанность, от мамы унаследованную невозможность проявления чувств.
В первый раз она испугалась, когда пришло время родить, а рядом никого не было, но потом и не хотела, чтобы кто-то мешал ее главному делу. Она сама. Ей так хотелось, чтобы ее мальчики были похожи на Степана, но все ее дети были похожи на нее. Правда, ей порою казалось: что-то едва уловимое было в них от отца. Пожалуй, надежность и детская вера всякому человеку. Природа, словно зная уязвимость своего дитя, наградила Степана угрюмой внешностью, чтобы хоть чуть-чуть защитить.
А разве можно забыть их дорогу в ссылку? Как она боялась, что он не вынесет, что он умрет. Стефания боялась проронить слезу над ушедшими детьми: он бы не вынес ее слез. Знала точно, что если бы заплакала, он бы умер. Она не могла позволить себе такую женскую слабость.
Как важно ей было видеть каждый день себя в его глазах. Лучшего зеркала нельзя было и вообразить. Как хороша она была в нем, не замутняющемся от времени. И знала – зеркало не врет: она и есть та прекрасная юная панна, от красоты которой он едва не потерял сознание.
Уже перед смертью она сказала ему главные слова, которые так хотелось ей сказать давно, когда дети разъехались и они остались одни. О том, как ей повезло, что именно он был ее первым и единственным мужчиной. Что именно с ним до последней минуты она была женщиной.
Да, она была счастливой. Да, они были счастливыми… Спасибо тебе, Господи…
Тына-тына у Мартына
Рассказ
«Ты ж моя, ты ж моя,
Бабина, бабина», —
несется из окна тети Маруси вместо привычного стрекотания машинки. Мы считаем ее старушкой, а ей всего сорок семь…
– Ну, невдалуха, – переговариваются бабы, не столько осуждая, сколько жалея Мартыненчиху, – надо же притащить эту калечку малую.
Да и вправду сказать, жизнь выплеснула на бедовую голову Мартыненчихи все несчастья: своих пятерых одна подняла, в войну по всем ночам не спала – шила. И сейчас никто не верил, что начинающие сохнуть, страшные для ребенка, лишенные привычной детской округлости, совсем-совсем безжизненные ножки побегут, что вырастет внучка и станет роковой красавицей нашей улицы.
А пока из распахнутого окна слышится злое гудение голоса Шурки-непутевого, вообще-то, работящего, доброго, но лютого до женского пола красавца:
– Маманя, вы сама, как дитя малое. Ну зачем надо было забирать ребенка? Ведь мать сама решила ее в детдом отдать, да и вообще, – тут красавец понизил голос, – дочка-то, может, еще и не моя.
– Ах ты, котово сало! Сукин ты сын! Ночевал у Людки-то? А? Я тебя спрашиваю!
– Ну так, я один, что ли…
– Но ведь она сказала, что твой ребенок. Женщина знает, кто отец… И не смей отрекаться от живого дитя! В нашем роду никто от своей крови не отрекался, слышишь?
– Маманя, ну чего вы? Нате вот вам воды, выпейте. Вы ведь уже месяц не спите…
– А я и год, и два, и сколько сил хватит. И все! Вези мать ребенка, нечего сиротить дите. Я тебя прошу, вот, на колени стану…
– Мам, ну вы чего это? – хныкающим, непривычно испуганным басом гудит Шурка. – А если я ее не люблю?
– Ах ты, сукин кот! А дите кто прилюбил – Пушкин?
Давно уже замужем Тыжмоябабина – так мы прозвали нашу дворовую красавицу Светку внучку тети Маруси. А Шурка с женой Людкой родили еще сына Мартына. Так-таки и женился Шурка на разудалой, раскрасивой брюнетке-продавщице, что после торгового училища работала в маленькой закусочной у большака. Да и болтала больше шоферня о ее подвигах.
Самое смешное, что, когда бывали в жизни молодой семьи «моменты», а они все-таки бывали, что греха таить, мать и Людка выгоняли гуляку из дому, и мать ему заявляла:
– Отрекусь, смотри! Пока не одумаешься, не являйся на мои глаза, я тебе не мать, сукин кот!
А Шурка-поскребыш, материн любимец, сам не мог без нее ни дня, и мы видели, как он, прячась за деревом, заглядывает в окна, чтобы увидеть мать. Стоит, курит одну папиросу за другой, а мы – бегом к тете Марусе и докладываем, что «сукин кот» стоит и курит за тополем.
– А нехай его стоит, – брала она в руки уже начинающую округляться и улыбаться Светочку. Специально ставила ее на подоконник пухленькими ножками.
Выкурив полпачки, Шурка уходил. При всем своем мужском непостоянстве, он был честным человеком и, пока не ощущал, что справился с факельным чувством к очередной негордой красотке, не возвращался в дом, жил неизвестно где. Потом являлся с повинной. Страстно любящая его Людка плакала, драла его за вихры, колотила своими кулачками и, уложив спать после сладкого примирения, выходила к матери в маленькую комнату и плакала у нее на плече:
– Люблю я его, ирода, маманя, ой, люблю…
– Та он же ж и не такой уж плохой, – вставляла было тетя Маруся.
– Кобель, кобель, ненавижу я его, ненавижу!..
– Так чего же приняла? – поглаживая по черным кудрям Людку, спрашивала, улыбаясь, Мартыненчиха. – Прожили бы и без него, кобеля.
– А без него, ирода, тоже не могу…
– Ну ничего-ничего, мы ему как сына родим, да потом еще одного, так он и образумится, а? – заглядывала Мартыненчиха в заплаканные очи снохи. – Давай, Людушка, давай мы его скрутим, не оставим в сердце свободного места на глупости.
Давно выросли внуки, но даже когда «на старости лет» Шурка опять вдруг взбрыкнул и нашел себе «брунэтку» моложе Людки, мать, уже тяжело больная, заявила:
– Бросишь жену, считай, что со мной развелся, на похороны не приходи, к могилке не моги приступить.
Как ни странно, но хоть тетя Маруся в конце жизни похудела и помолодела, я, уже взрослый человек, рядом с ней опять почувствовала себя ребенком из того нашего общего двора, где соседи становились немного, а иногда и много, родственниками.
– А помнишь, теть Марусь, «Тына-тына у Мартына воровали огурцы, Мартыненчиха сказала: вы, ребята, молодцы!»? – Изменяя голоса, напевали мы эту дразнилку под ее окнами. И я запоздало краснею по самую макушку. – Не обижалась ты на нас за эту дразнилку?
– Чего ж обижаться, дети есть дети, а если вправду сказать, то мне приятно было, что до сих пор помнят, что я Мартыненчиха, жена Мартына, значит.
Сердце мое зашлось от нежности и жалости. Я беру прозрачные от худобы руки тети Маруси:
– Теть Марусь, ну почему хорошие люди такие несчастливые бывают?
– Ты никак обо мне, милушка? Да ведь я везучая, а значит, счастливая.
– Ты счастливая? – изумляюсь я потому, что, сколько помню, ее все бабы жалели.
– Конечно, девонька, как вспомню жизнь свою, так, словно солнечный день, мне она мерещится. Жаль, мамы не помню. Только отца и коня.
Да, детство у тети Маруси необыкновенное: мать с отцом познакомились и поженились в чапаевской дивизии. Мать в одном из боев погибла, а отец, который очень хотел сына, так и возил дочь за собой.
– Я долго своего отличия от мужского сословия не понимала. Отец так и не женился, а чуть я в возраст вошла, он и умер. Спасибо, взяла меня одна немка-белошвейка в услужение. Везло мне на хороших людей: и шить меня научила, и, когда замуж пошла, машинку мне подарила. Не раз я ее добрым словом помянула, а ее «Зингер» детей мне в войну от голодной смерти спас.
– Я тебя, теть Марусь, так и помню с твоей машинкой.
Быстро вертящееся колесо и сияние, как от маленького солнца… Нам, детям, казалось, что она никогда не спит. Все хотели проверить ночью, да так и не собрались.
– А бывало, Танюша, и не спала – это в военные годы, когда брала работу на дом.
Я глянула на портрет, который висит над кроватью, и отвела глаза, но тетя Маруся поняла:
– Знаешь, девонька, как я за Мартына замуж вышла? Вишь, ноги у меня неладные – ухватом. Это папенька в детстве, когда на Сивке учил ездить, так мне удружил. Долго я беды своей девичьей не ведала. Мальцы, как подросла, стали звать меня кавалеристом. Я уж больно простодушной была, все думала, что это они уважительно, а когда поняла, не одну ночь проплакала. Мартын ни разу в то мое первое девичье лето на меня и не глянул.
Жили мы тогда на конезаводе. Все парни подрастут – на коня. Но лучше меня редко какой ездил.
Помню, лето жаркое, устанем, косточки наломаем на сенокосе, а молодость свое берет. Оставалось время и на гульбища, и на игрища, и на любовь – у сна уворовывали.
Вот как-то наша конезаводская красавица Ксютка и говорит, что отдаст красную мальву из смоляных своих кудрей тому, кто первым доскачет до Макарьева дуба и снимет с ветки ее ленту. Парни – в седло, и я – тоже. А мой-то больше всех загорелся. Это я про себя Мартына так звала.
Ох, как мы летели! Все давно отстали, а мы с Мартыном во всем белом свете летим вдвоем. Кони ровно земли не касаются, но вот мой Огонек его Гнедка на четыре корпуса обошел. Лечу да все оглядываюсь. Красавец, как сейчас вижу: кудри черные, рубаха красная, а глазищи, как сливы огромные, и не поймешь, то ли синие, то ли черные. Вот уж и дуб близко, оглянулась, а у него зубы оскалены, и ненависть во взгляде, ровно я не девка, а враг его смертный.
Все парни остановились, вернулись. Слышу, он хрипло так кричит:
– Стой, Маруська! Чего хочешь, проси, не позорь перед хлопцами.
Глянула назад… Ох, проклятый, ох, любимый, до чего же хорош, боль моя глазастая! А место открытое, ровное, девки смеются, хлопцы свищут, а он меня догнать никак не может.
Тут меня бес-то в ребро и шпиганул:
– Хорошо, уступлю, только ты меня поцелуешь, когда вернемся. При Ксюшке.
– Черт с тобой! – полыхнул он глазищами.
Огонек разгорячился, пуще моего первенства не хочет уступать, но я его придержала. На последних метрах обошел меня Мартын, сорвал ленту и промчался мимо, в глаза мне не посмел глянуть. Я было спрыгнула с Огонька, но захотелось мне посмотреть, как он будет перед Ксюшкой моим снисхождением похваляться. Быстрее птицы прилетела я ему вослед.
Он-то, боль моя глазастая, ленту в костер бросил, не отдал Ксютке. Ко мне повернулся и говорит, глядя прямо в глаза:
– Ну, зелье, тебя сейчас целовать или до вечера оставить? А уж что было у меня, то было: лицом была разгарчива, волосы золотой ржи, коса до пят, иной раз голова болела от тяжести. Соскочила я с Огонька, косынку сняла, чтобы косу собрать, а волосы возьми да и рассыпься. Я их, Танюша, ромашкой ополаскивала. Знала, вражья девка, что они от этого еще больше золотыми кажутся.
Чувствую, глазам слез не удержать, а характер, как батя говорил, на огне замешан:
– Давай, – говорю, – целуй.
Он-то думал меня в отместку смутить, а я своим единственным богатством тряхнула, губу закусила, слезы в себя впила… Земля дрогнула, и полетела я, как на каруселях. Помню только, что руки протянула и положила ему на плечи, а он, нечистая сила, и берет меня за плечи…
Очнулась я у пруда, на голове косынка мокрая, надо мной заноза моя сердечная. Смотрит, вроде даже с испугом и лаской. Я, как вспомнила свой позор, вскочила да бежать. А он:
– Стой, Мартын долгов никогда не имел.
Схватил меня за руку… Знаешь, вот, ей-богу, мы с ним, наверное, часа два целовались.
– Откуда ты такая золотая взялась? – все гладил он мои волосы. А я ровно опьянела. Вся в его власти была. Но не обидел он меня…
А через месяц, как раз дело к осени, и сватов прислал. По теперешним временам у меня много детей. А не война, я бы ему каждый год рожала. Колхоз бы нарожала. А ты говоришь – несчастливая. Помню, перед сном кого молила, не знаю: бога ли, случай ли, судьбу или саму войну:
– Не убей, не убей, руки возьми, ноги, хоть без глаз, но верни мне его…
И ведь повезло же. Всем похоронки, а мне извещение, что пропал без вести. Значит, есть надежда, что живой.
– Теть Марусь, почему он опять уехал? Тогда, когда его Иван нашел. Ты так никому ничего и не сказала, а бабы не смели тебя спросить.
– Да, девонька… Я чуть с ума не спрыгнула, как пришел Иван и говорит: «Садись, мать, мне тебе надо сказать что-то…».
«Что с ним? Где он? Без ног? Слепой?».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?