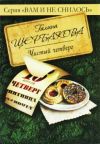Текст книги "Чистый четверг"

Автор книги: Тамара Ломбина
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Удивился Ванюшка, как это я догадалась, что речь идет об отце. А чего уж удивляться… Сколько вон лет после войны прошло, у меня трижды на дню, как Татьянка-письмоноска шла, так сердце и захолонет.
Ой, бабоньки, ой, голубоньки, и министр бы так не принял гостя: все из заветных уголков подоставали. Как на рождество, приготовилась я. Подошла к зеркалу, да так и вскрикнула, ведь как запело во мне: «Живой, живой», я про годы забыла. Даже в зеркале, мне казалось, должна была отразиться та молодуха, что его на войну провожала.
Смотрю я, значит, в зеркало, а чуда-то и не произошло: усталое лицо, все в морщинках. Да и косищи-то той уже давно нет. Как Иван пошел в ФЗУ учиться, так я ему на мое «золото» ботинки справила.
Вот, думаю, девонька, мудро это придумано, чтобы и в радость, и в беду – принародно. Не будь тогда людей со мной, не вынести бы сердцу моему радости.
Мы ждали к вечеру, а они в обед тут как тут. Не тронуло его время, такой же, только виски седые. Как ровесники, с Иваном, даже еще краше стал. И такая боль, такая мука в глазах. Стоим, смотрим друг на друга, плачем. А тут уж кто-то и людей оповестил, стали гости собираться. Я засуетилась, посадила его в красный угол. Иной раз думаю, мне больше ничего и не надо, вот так бы и сидел, а я бы его холила, как дитя малое, да лелеяла, соколика. Это я своего запала материнского, видать, не израсходовала.
Вот выпили мы по одному кругу, закусили, а наши довоенные друзья и стали просить, мол, спойте вашу песню. Затянула я: «Ой, ты, Галя, Галя молодая, обманули Галю, увезли с собою…». Бабка твоя, затейница, так повела первым голосом, что я обо всем на свете забыла.
Но замолчал вдруг Мартын: «Прости, забыл слова». Меня ровно кто ножом в сердце: «Нашу песню забыл! Забыл, забыл!». Вижу, соседки стали разбегаться. Остались мы вдвоем. У меня сердце прямо у горла колотится. Под сердцем, как у молодухи, сладкая волна, но подняла на него глаза…
«Прости меня. Вначале, после контузии, память у меня отшибло, лежал в госпитале, а потом… Уж так получилось, медсестра в меня влюбилась молоденькая, а я на войне… ну, короче, забыл, что такое женская ласка, вот и… Дети у нас… Прости, отпусти ты меня».
Как узнала я, что Иван его от детей увез: «Езжай, – говорю, – Мартынушка». А он мне в ноги поклонился.
Достала я из-за нашего портрета узелок с деньгами, что с войны по крохе копила, чтобы за ним в инвалидский дом ехать, ведь чуяло сердце, что жив: «Это тебе на обратный путь, да на гостинцы детям».
А он опять поклонился. Заплакала я: «Что ты мне поклоны, как иконе, бьешь?».
«Не стою я тебя, Мария… Несчастлив я… Да что там… поделом мне… За тебя плачу долг перед совестью».
«Что ты, Мартын, подсчитываешь, кто кому должен. Ты мне ничего не должен. Мне от тебя только счастье в этой жизни было… Да и сейчас, как я узнала, что жив да здоров, так дай Бог тебе хоть наполовину быть таким счастливым, как я… Если в чем виновата перед тобой, прости».
– Не упрекнула, да еще последние гроши отдала? Ой, тетя Маруся, ты, как Христос.
– Ох, девонька, какой там Христос. Я ведь криком кричала и брюхом по шпалам ползла, как промелькнуло его лицо в вагонном окне. Поняла я, что в последний раз вижу его… Едва стрелочница уговорила меня уйти. Я ровно ополоумела. Дети утром отругали. Мол, чего это он на старости лет мотается туда-сюда. Пусть бы, старый хрен, прищемил задницу и сидел на одном месте. Нас, мол, только позорит. А я Ивану – он постарше: «Родителей судить, сынок, – последнее дело. Мы жизнь тебе дали. Ты вон какой ладный вышел. Все девки повысохли, небось». Говорить-то говорила, но их понять можно: при живом отце сиротами выросли.
– Ты здесь с пятью детьми, а он…
– Не смей, девонька. Его только я могу судить, да и то иной раз кажется, что не могу. Война, она ведь не только тело, она душу живую перемалывает, не всякой душе из нее без изъяна выйти удалось. А я тебе скажу так, Танюшка: нет его со мной, а жив он, понимаешь? Вот ведь счастье какое! У иных и могилка незнамо где, а мне, как трудно, я о нем и подумаю, да знаю, что и он почувствует и вспомнит меня. Я знаю, почувствует.
Устала тетя Маруся от нашего долгого разговора и прикрыла глаза. Я хотела уж на цыпочках выйти из комнаты, но она окликнула меня:
– Не знаю, как вы нынче понимаете любовь, а я так понимаю, девонька. Любовь – это когда себя отдаешь, до капельки. Я вот всю жизнь себя отдавала, сначала ему, потом нашим детям, а теперь вот уже и внукам… А ты Шуркиного Мартына, внука моего, видела? Как две капли воды. Ровно в зеркале отразился, соколик. Опять, значит, при мне мой Мартын… Вот так, девонька, а ты говоришь – несчастливая…
Неперспективные всполохи
Новелла-притча
– Когда-то это была деревня Всполохи. Почему ее так назвали? Может, потому, что утром солнце из-за взгорка так играло, как в иных местах только на Пасху бывало – так бабки говаривали. А может, потому, что уж ежели бывали грозы в этих краях, то, казалось, сам Илья-пророк либо прогневался и согнал все грозовые тучи сюда, либо своей молодецкой удалью похваляется: сидит да в усы улыбается, видя, как бабы и дети, словно мыши, в укромные углы забиваются… Эхе-хе… «Непершпективная» теперича деревня-то. – Ерофеич задумался, и горькая улыбка чуть смягчила его красивое лицо мятежного Аввакума. Вот уже три года бобылюет Савел, а на прошлой неделе решил присвататься, пень трухлявый, насмешил курей. Вспомнил он свою досаду, и заныло в груди.
* * *
Любят на селе дурачков и легко рядят в них всякого, кто на весь мир не похож. Не со зла, а чтобы долго-то не разбираться: странный ли, глупый ли, а может, блаженный по доброте своей, и спрос с них иной: за все заранее прощение всеобщее. Вот и Лушка, Лукерья Дымова – чудная… Мать все ее девичьим тайнам, наукам житейским хотела обучить, а она сядет на корточки около цветка какого-нибудь и смотрит на него с таким серьезным видом, что мать в досаде пнет ее по пути, крутясь в своих неизбывных делах: «Проснись, тетёха!».
Муж попался Лушке деловой, все горело в руках. И хоть любил Лушку, но так и пристало к ней материнское прозвище, так и звал жену тетёхой. Двое детей их, все в отца, деловые и смекалистые, иронически поглядывали на мать. А та то все стены в избе распишет, то печь разрисует, а то ворота людям на смех такими узорами изукрасит, что хоть из села беги.
Но, надо сказать правду, любил муж свою странную Лушку. Так иной раз завернет на нее что-нибудь вроде: «Ах, ты, куле-муле, собачий абрикос». Когда и покрепче чего-нибудь скажет, а так ничего, терпимый мужик.
* * *
У Ерофеича сына в армию провожали, когда споткнулся он первый раз о глазищи ее зеленые. Она и на него смотрела, как в детстве на цветок, серьезно и внимательно.
– Чего, али узоры на мне увидела, бабонька? – нахмурился он, чтобы оторваться от глаз ее смутных.
– Красивый вы, Савел Ерофеич, мне хочется вас нарисовать, знаете, как на иконе лики пишут.
Невесть что сделалось с Ерофеичем, как в улье палкой, разворошила она душу его. Войну прошел, много повидал, а чтобы от женского взгляда ноги отнялись…
Но сильный был, характерный человек Ерофеич. Заставил себя беду свою превозмочь, сны из души с ее глазищами зелеными вытравил. А один сон так-таки и помнится ему.
Будто порчу кто на него наслал, и высох Ерофеич, как тростинка. Ни сил, ни мочи. А бабка Агапиха, ворожея деревенская, и говорит: «Если найдется какая смелая молодица, да в полночь сходит на речку, и зачерпнет воды в том месте, где луна рака осветит, и донесет в ладонях, да окропит той водой хворого, так немочь и отстанет». И видит Ерофеич, будто Лушка в лунную ночь идет в белой рубашке к речке. Глазища, как тогда, на проводах Витькиных. Дошла до воды, глянула: от лунной дорожки в разные стороны – рыбешки. А вот и рак. Почерпнула она в ладони воды той – луна заплескалась в рукотворном озерце. Но только спиной к реке повернулась, как заголосил дотоле молчаливый лес, засвистали, загоготали голоса неведомые.
– Оглянись! – несется слева.
– Берегись! – слышится справа.
– Нет-нет, я донесу, я спасу тебя, любимый, печаль моя тайная.
Сучки под ноги попадаются, ветки хлыщут по лицу, а в ладонях не луна, а харя жуткая корчится от смеха сатанинского и крючковатой рукой грозит. Все лицо ветки поисхлестали, всю рубашку сучья изодрали в клочья, но переступила через порог Лушка с полной пригоршней воды и окропила Савела, и налились его мышцы силой, а сердце его наполнилось такой нежностью, такой любовью к странной Лушке, что не забыл он этого сна и не забудет во веки вечные.
* * *
Жизнь бежит… Эх, кабы чуток помедленнее. Вот уж не первый год Лукерья вдовствует, но даже старость особенный рисунок на лице ее вывела: морщинки застыли в вечной улыбке. А улыбка у нее особенная. Губы виновато силятся сложиться в улыбку, но глаза остаются грустными, и лишь когда улыбка все – таки замирает на мгновенье, все лицо озаряется изнутри. Колдунья, как есть колдунья…
Все думал Савел: что же сон тот вещий значить может? Да жизнь все разобъяснила.
Когда колхозного коня у него украли, а самого Ерофеича арестовали как врага народного, колхозную собственность изведшего, жена с детьми в стороне стояли, как его под конвоем в телеге везли. А Лушка вдруг принародно бросилась к нему на шею и заголосила тонко-тонко, аж в ушах зазвенело. И кажется теперь Ерофеичу, что она именно те слова и говорила, что пригрезились ему во сне том: «Любимый мой, печаль моя тайная…». Муж, на что уж ко всем ее причудам привыкший, но и он ошалел: «Ты что, баба, рехнулась?». Схватил ее, оттащил, а она, как заяц раненый, верещит высоко-высоко. Так этот звук и стоял в ушах Ерофеича все пять лет, пока не попал под амнистию, а бывало, что жить не хотелось, веру терял. Вот тут и толкала его в сердце тоска по дому, по Лушке. Вечной душе-скиталице.
* * *
Да, в веселое время вернулся в родные Всполохи Ерофеич: все поля кукурузой засажены. Встретила его околица шепотом кукурузы, да, как знак недобрый, береза без листьев у дороги. Помнил Савел ее с детства. Не было краше этого дерева во всей округе, но, видимо, попала в него молния, да сильный ливень залил вспыхнувшую живую белоствольную свечу в два обхвата. Теперь так и стоит она без листьев, с ободранною корой.
– Ну, здравствуй, родимая, – прижался к теплому от солнца и словно живому стволу Савел.
А кукуруза все шептала что-то. Какое странное растение. Жуткое беспокойство навевало шуршание этих вечно тревожных листьев. Со всех сторон подступала к деревне кукуруза и все шептала, шептала. Казалось, стоит только вслушаться, и земля откроет какой-то секрет Савелу, он и хотел, и боялся правды той.
– Никак охренели односельчане. На кой ляд на нашей северной стороне кукурузы столько, она ведь не вызреет.
* * *
Зачастил отчего-то Савел к березе. Раз пришел, другой, на третий принес с собой топор, чтобы стесать лишнее со ствола. И открылось всем то, что виделось Савелу в причудливо изогнутом стволе: женщина, которая была и его ушедшей уже матерью, и горемыкой-сестрой, брошенной женихом и утопившей свой стыд в речке, и Лушкой, и самой Деревней его, взмахнувшей платком, то ли прощаясь с кем-то, то ли приветствуя что-то или кого-то, идущего где-то там, в невидимой Савелу дали.
* * *
Попал Ерофеич прямо из тюрьмы, да за стол. Сын Витька после сверхсрочной женился на Наталье, Лушкиной дочке. А та и лицом, и статью в мать, но в отца верткая и хваткая – ну, чисто юла в юбке, глазом не ухватишь.
– Вот и породнились, Савельюшка, сватьюшка мой дорогой, – только-то и прошептала Лушка, но опять запело что-то в душе Ерофеича, которая, казалось, уже и чувствовать что-нибудь, кроме боли да тоски по Лушкиным глазам, ничего не умела.
На второй день гуляли у невесты. Лушка с мужем вышли с хлебом-солью встречать молодых, бабка Аксинья сняла икону из красного угла, и что-то поразило Савела в лике Божьем, да за суетой отвлекся он и забыл об иконе.
* * *
Не было лучше плотника на селе, чем Савел. Да что там в его деревне – ни в Пречистом, ни в Пантелееве не было лучшего. Но все стало валиться из рук у мужика. До такой глупости дошел, что решил к Агапихе сходить: тоска стала изводить, как в том сне, сохнуть начал. Самому стыдно: сын скоро дедом сделает, а он, вишь ли, любовью занедужил.
Несколько дней маялся. Чем больше думал, тем дичее ему казалось собраться к бабке Агапихе. А потом плюнул на все «удобно-неудобно», пошел. Так-таки из мастерской и пошел…
– Куда на ночь глядя? – привычно спросила жена, но он только махнул рукой.
Хороши Всполохи поздним вечером. В окнах свет, приятно с холма на холм идти сквозь высокую траву, не по большаку, а тут, за избами. Вон там, за последним холмом, ее дом.
– Может, последний-то ум в тюрьме отбили, кто узнает, засмеют…
В окнах Агапихи не было света, она сама сидела в палисаднике перед домом под большой березой, на завалинке.
– Ну, чего, милый, зачем тебе Агапиха понадобилась? – не поворачивая головы, спросила она глухим голосом, и Ерофеич растерялся. Что он ей мог ответить?..
– Занозу можно вытащить, нарыв тоже назреет и прорвется, а слыхал литы, чтобы сердце вырывали, али душу из живого человека вынимали. Ох, молодежь… Душа зацветет, как райский сад, а они готовы повырубить. А без муки и там человек не нужен, – она показала дрожащей рукой куда-то в небо ли, в вечность ли… – Награда это тебе великая, видать, за муки твои незаслуженные, а ты избавления ищешь. В небе и то сияет какая-нибудь звезда ярче прочих, вот так и люди, когда любовь в них поселяется.
– А на что мне она нужна, что мне с ней делать? – потерянно спросил, уже не ожидая ответа, Савел.
– Хранить, сокол мой, хранить, как Антип Кривой свой единственный глаз хранит.
И хранил… хранил. Антип-то меньше свой глаз хранил: больно был задирист, все в драку лез и под единственным глазом синяк не однажды нашивал. Так, может, никто бы и не узнал о его любви, да только случилось так, что…
* * *
…Суровая выдалась зима в том году. Такая была только в годы войны. Председатель отдал приказ разобрать церковь на дрова, а кому, какие Савелу, плотнику, сам Бог велел.
– Глянь там, может, что сгодится в работе, а коли ничего ценного не осталось, так Ванька Шалый подкатит на тракторе и разваляем ее в айн момент.
В первую секунду вроде что толкнуло в сердце: мать с отцом здесь крещены, самого тут поп Савелом нарек, потихоньку от всех бабка перекрестила и детей его. После смерти попа старухи как-то поддерживали церквушку на свои скудные гроши. Но ведь и скотину жалко: пооколеет, если не подтапливать, от мороза.
Утро солнышком улыбнулось, от мороза снег скрипит так, что, кажется, слышно на четыре версты окрест. Церковь на взгорочке с покосившимся крестом словно в кручине великой. Тихо кругом, и деревья в инее насупились.
«Чего это я, – ругнулся про себя Савел, – мерехлюндии развожу? Все одно, не сегодня-завтра завалится». Да что-то в голову полезли россказни бабские: мол, вон в Пречистом в церкве-то сделали баню, так там какие стали чудеса твориться. В клубах пара, как только потише, да поменьше народа, все одно и то же видится бабам: женщина с младенцем на руках сидит, покачиваясь из стороны в сторону, и слезы бесконечно с лица ладонями утирает. В баню народ не хочет ходить, хоть закрывай.
– Тьфу ты, – сплюнул в сердцах Савел, – как баба, едрена вошь!
Незнамо почему, бабка вспомнилась, такая же черная от времени, как эта церквушка Успения Богородицы. В ней и раньше угадывалось что-то женское, округлое, а теперь и вовсе древней старухой присела она на холме.
Савел хотел сбить амбарный замок, но оказалось, что не заперто. Он вошел в церквушку и удивился: не было в ней того запустения, каким веяло снаружи. Все было чисто и прибрано. Ерофеичу показалось, даже все иконы на месте, а он слыхал, что какие-то заезжие супостаты разорили иконостас Успения. Иконы мастеров семнадцатого века повыворачивали с мясом. На продажу, видать.
Опять, как и в детстве, Савел испытал все то же странное чувство собственной малости. Его всегда подавляла обстановка церкви. Может быть, даже самому трудно признаться было, что стыдно ему перед этой красотой. Неизвестно почему, но стыдно. Потому не заходил сюда с самого детства. Вспомнилось, что от церковного песнопения он всегда плакал, а бабка шептала:
– Вишь, как душа очищается, милочек…
Сколько прошло времени, Савел не мог сказать, ноги словно приросли к отскобленным добела половицам. Подошел он поближе к иконостасу:
– Никак Лушкина работа?
Во всех ликах святых он угадывал свое обличье, то в молодости, то в пору возмужания. Даже братья Борис и Глеб, великие мученики, – это он, опять-таки он, после тюрьмы. Но не это было самым странным ли, страшным ли, а скорее – именно чудным. Он увидел свою жизнь, ту, что прожил в своей душе тайно. Вгляделся в лицо Богородицы-Лушки и младенца на руках ее, Лушкой и им, Савелом, желанного, но так и не пущенного в свет младенца, и горячо стало щекам Савела. Он провел заскорузлой ладонью по бороде, уж не плачу ли я, огарок никчемный? И опять откуда-то сверху голос бабки Маланьи со своим:
– Ничего, милочек, ничего…
Очнулся он от тарахтенья трактора и от гомона людского. Это не Успение Богородицы, а его, Савела, душу сейчас переехать хочет Ванька Шалый. Савел выскочил на улицу, и от картины, открывшейся его глазам, кровь застыла в жилах: на самом тихом Ванька с вечно пьяной улыбкой приближался к церкви, а в двух метрах от него лежала на снегу Лушка. Народ застыл, а Лушка, будто ноги матери, гладила шершавые бревна и опять, как тогда, верещала высоко, доставая самое сердце своим криком. Савел хотел бежать, но, как в страшном сне, не мог… И крикнуть не мог. И только когда трактор подъехал вплотную, мужики и Савел наконец ожили.
– Ты что, антихрист, делаешь? – закричали бабки. Савел подбежал к Лушке, в самый последний момент выхватил ее из-под трактора, но, как потом оказалось, хоть была Лушка в валенках, все-таки стопа раздробилась. Так с той поры она и стала прихрамывать.
Как ни уговаривал Ванька Савела, а председатель, перепуганный до смерти, кричал: «Я приказываю тебе посадить Лушку в трактор», но он никому не отдал ее. Так на руках и нес до больницы, и никто не посмел на селе судачить.
С каждого двора после того случая принесли к церкви дров, кто сколько мог.
* * *
Озлобился было Ерофеич в тюрьме. Хорошо еще закваска деревенская крепка, не дал себя поломать уголовникам. Да к тому же вскоре перевели его к политическим, на лесоповал. Сколько молчал угрюмо Савел, а тут его разговорила пичужка одна большеглазая – художница.
«Видать, по ошибке, как я, попала», – думал Савел, слушая, как она что-то напевает или смотрит вокруг себя, – ну, чисто Лушка. А то прутик возьмет и на снегу рисует.
Однажды прислушался Савел:
– Что это, песня такая?
– Нет, это адажио Альбинони. Мне кажется, это музыка небес, звездная мелодия. Знаете, когда в детстве смотришь с маминых рук в небо и уже себя понимаешь.
– Ах ты, пичужка этакая, где ж ты слова-то такие берешь?
И не однажды просил Савел напеть ее, и казалось ему, что этой музыкой и живет в его душе Лушка.
Охранник один прыщавый излыгался над девчушкой, как мог, чуть что – прикладом. Аспид, где такой мерзостью и напитал он свой куриный мозг, такую грязь изрыгал. Вольнонаемные глаза отводили, а Савел вставал перед охранником и так скрипел зубами, что отступал, выругавшись, этот двуногий скот. Какие лопнуло сердце Савела, когда узнал он: жеребцы эти безмозглые к себе в охранку дите это чистое с детскими глазами затащили на всю ночь, а она утром в бараке себе вены перегрызла.
* * *
– Лушка, выходи за меня…
А что он тогда ей шептал, когда нес на руках?
– Понял я, все понял, Лушенька. Ты потерпи, потерпи. – Видел он, что она все больше и больше бледнела от боли. – А как родимся в следующий раз, так я не поспешу, не прогляжу тебя, дождусь, пока подрастешь. Веришь?
– Верю, – крепче обнимала она его за шею.
– А ты мне деток родишь…
– Сколько Бог даст, столько и рожу…
А потом, закусив губу, она молча плакала, согласно кивая головой на все его слова.
Может быть, они оба бредили тогда? Но только у Савела такое чувство было, что эти минуты, да еще тогда, когда он увидел их сына на иконе – лучшие в его жизни.
* * *
Тяжело было клейменым жить среди односельчан.
«Иде ж он прячется, этот самый главный вредитель, – думалось ему, – который голову всем задурил? Как же так получилось, что Всполохи стали кладбищем еще при их жизни? Как же получилось, что дети их бросили отчий дом, погост дедовский и, как перекати-поле, по миру разметались?».
Где они все, всполошане? Неужто и его холм могильный ветер развеет? Где найти этого вредителя, что в этом виноват?
А иной раз приходила страшная мысль: «А как же он сам, комсомолец хренов, головы не повернул, когда из их села всполошан семьями увозили, что ж дети-то малые в душе его язвы не выжгли глазами своими, слезами наполненными? Неужели только тюрьма глаза открыть может?».
Но самое страшное время пришло к нему, когда понял он (молнией его подкосила мысль эта): он сам и есть первый вредитель. Не с кого спрашивать, с самого себя спросить должен. И детей нельзя было отпускать из родного дома, и нельзя было молчать, когда друга детства с семьей из села погнали. Чего молчал, когда скотину всю извели, когда пузатый начальник отдавал команды – когда им, детям земли, сеять, пахать, косить?
Когда врать начал себе? Не тогда ли, когда под рубахой крест носил, а в кармане – комсомольский билет? Или тогда, когда этого стесняться перестал и в привычку вошла жизнь двойная? Да и только ли у него она была двойная?
* * *
Вот говорят, в селах страсть такая твориться стала: кто-то стучит, бьется под полом, в окна, в двери ломится, стук, грохот-невидимка таинственный. Савел знает, что это такое: души брошенных предков, души из затопленных погостов стучат. Не даем мы им отдыха, вечного покоя, тревожим их, забываем о них; пока еще не поздно, напоминают они нам.
Да что там души умерших – своих-то душ при живом теле не бережем.
Вот уже третьи сутки молчит Лукерья… Оно и понятно: на старости лет жениться задумал. Что Витька с женой скажут?..
Но не ведал он, что Лукерья затаилась оттого, что не знала, как ей быть. Вот уже три года семь баб и Савел живут в брошеной деревне. И три года каждая из баб живет в надежде… На что? Да, как это ни кажется странным, но именно оттого, что рядом Ерофеич, не забывают бабы, что они женщины. Нет-нет, глядишь, и обнову справит то одна, то другая на свои скудные гроши. Раньше в клуб так не собирались по молодости, как нынче на посиделки. Сильна косточка женская. Платочек ли новый кто наденет, все подметят подружки. Опять же и заботу есть по ком справлять… Рубаху Акимовна на праздник новую Савелу сошьет, а на день рождения, получив не больно большие деньги за рукоделие свое от посредника с плутоватыми глазами, уговорили Лушку, как самую младшую, съездить в город и купить сапоги для Ерофеича. Да чтобы хромовые. В Доме быта надо спросить, кто из старых сапожников жив, чтобы из товара первосортного и со скрипом.
* * *
А как же она ему ответит? Жизнь-то под горку уже давно, да с такой скоростью к подножию катится – не остановить. А самое трудное – это как она подружкам скажет, ведь к детям подадутся в город, с родного места стронутся, им нельзя без Всполохов, не будет житья, помрут.
Ночи боялась Лукерья. Как только ляжет, вся жизнь перед глазами. Грех жаловаться: у иных была хуже бабья судьба. Василий не обижал, да и дети сейчас нет-нет, да и пришлют то рубликов десять, а то и подарочек какой передадут, ну а что всю жизнь всерьез не воспринимали, так что ж, видать, такая ее планида – в чудачках прожить.
Светлой такой, тревожной давно не была луна, не давала она уснуть, едва закроет глаза Лукерья, как от ее назойливого взгляда вскинется тревожно.
Измучилась, извелась она и решила посоветоваться с бабами.
– Чего это ты, как на Пасху, напекла? – втянув душистый запах остреньким лисьим носом, спросила Марфа Игнатьевна, в их малом миру всполошанском что-то вроде старосты. Бабы за всяким советом спешили к ней. Мудра, хитра, оборотиста. Это она додумалась узнать, сколько же их кружева стоят да на сколько их обманывает этот заготовитель хитроглазый. И за игрушки, которые вырезал Ерофеич, а Лушка раскрашивала, они стали получать вдвое больше, как припугнула она хлыста этого, что другому будут продавать.
– Как мне быть с Ерофеичем?..
– Присватался-таки, – всплеснула короткими толстыми руками Марфа Игнатьевна. – А я уж и то думаю, что это он так долго ждет? Ведь известно, Бог дремал, когда вас судьба с другими паровала.
Лушка слушала ее, не поднимая глаз.
– Ну и что ты решила? – строго, как свекровь, спросила Марфа.
– Не знаю, как мне быть, какие уж мы муж с женой. Так бы и дожили срок свой, соседствуя. И вот еще… сватовья мы… Грех, наверное.
– Да, – протянула Марфа, щуря маленькие черные глазки. – Вот то-то же незадача… невеста.
– А Савел говорит, что он только хочет мне свое последнее дыхание передать, – заторопилась Лукерья и покраснела. – Да и мне тоже страшно без него умереть.
– Нет уж, милая, ты от меня совета не жди, это только тебе самой решать.
* * *
Как же быть? Не сходить ли к Агапихе?
И побрела Лукерья по зарастающей на безлюдье тропинке, мимо изб с заколоченными окнами, стараясь не глядеть на них.
Непонятно, отчего так дичает дом, оставленный хозяевами. Кажется, ничего не изменилось, но больно глазу от сиротства беспросветного еще крепких изб.
– А, проходи, Лушенька, – по-матерински назвала ее старая знахарка. В ее избе пахло травами и покойно было, как в материнском дому.
– Я… проведать… – смущенно проговорила Лушка.
– Ну что ж, и проведать – тоже хорошо, – добро глянула из-под лохматых бровей огромными черными глазами Агапиха.
Лукерья не знала, как начать разговор, а Агапиха молча, с деревенским откровением, нежно разглядывала гостью.
– А давай чайку с травками изопьем, – предложила бабка.
– Да, – словно спохватившись, заторопилась Лушка, – я вот и пирожков принесла. – За чаем вроде бы легче стало говорить.
– Так ты пришла, чтобы правду узнать и совет выслушать, или сна-обмана надобно?
– Совета и… правды. – И похолодело сердце: глаза Агапихи смотрели вроде бы на нее, но в то же время куда-то далеко сквозь нее.
– Знаешь ли ты, моя касаточка, что счастье – это не только одна радость? – Но, словно спохватившись, Агапиха сама же добавила. – Да уж ты-то это знаешь… Как никто другой.
По крыше застучал дождь, и гроза невесть откуда в мгновение ока ослепила и оглушила баб.
– Боже, спаси и сохрани, – привычно закрестились они. От раскатов грозы дрожали стекла в окнах.
Но гроза быстро ушла в сторону Пречистого, и только фиолетовые всполохи трепыхались в ослепшем без звезд небе.
– Поди, принеси воды из родничка.
Пока Лукерья сходила за водой, Агапиха растопила воску и, посадив Лушку у дверного косяка, поставила ковшик с родниковой водой ей на голову, вылила расплавленный воск в холодную воду. Застывший кругляшок она взяла в руки и долго молча разглядывала, что-то шепча себе поднос.
– Глянь-ка, голубонька, сама, у тебя глазоньки-то позорче моих будут…
Лушка взяла еще теплый воск и глянула на причудливый рельефный рисунок: по раздольному половодью огромной реки вдаль плывет лодка с согбенной мужской фигурой, а над обрывистым берегом криком застывшим – женская фигура.
– Да, милушка, совет тебе твое сердце даст, иди, голуба душа, иди, родимая, – чуть подталкивая, помогая надеть кожушок и платок, проводила Лукерью хозяйка.
– Ну что ж, коли судьба моя проводить его, я провожу, – тихо прошептала Лукерья и ушла в темноту.
Когда Лушкина фигура растаяла в ночи, Агапиха произнесла непонятные слова:
– Не снесет он восхищенья, не снесет. Разучила его жизнь радоваться.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?