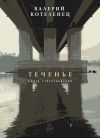Текст книги "Насквозь"

Автор книги: Тамара Попова
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]
Тамара Попова
Насквозь
© Попова Т., текст, 2016
© «Геликон Плюс», макет, 2016
I

«Там ядовитая плесень на алтаре…»
Там ядовитая плесень на алтаре,
там паутиной затканы образа,
там ты торчишь, как пешка в чужой игре,
перед иконостасом (а кто там – за…).
Только подумаешь: «Черт меня побери!»
Вылезут мертвые руки и приберут…
Лучше не думай, а главное – не смотри.
Ты, брат, попал. Ты спалился, философ Брут.
Смрад запустенья, на стенах растут грибы,
ступишь неловко – хлюпанье, писк и хруст.
Это сильней, чем летающие гробы,
не сомневайся – храм не бывает пуст.
Ужин
Он глядел, словно гладил, а я визави
изучала с прищуром, как сноску петитом.
Он облизывал губы в невинной крови,
непрожаренный ростбиф жуя с аппетитом.
Я бежала на встречу, как зверь на ловца,
предвкушая охоту, почуяв добычу,
чтоб весь вечер глядеть на него, наглеца —
как он пакостно чавкает, шею набычив.
Кто-то скажет: «Постой, где сюжетная нить?
Что за дичь ты несешь? Кто охотник, кто жертва?»
Да, все так… Но прошу вас меня извинить —
это жизнь, а она не имеет сюжета,
растекаясь, как постмодернистский роман,
заплетаясь причудливо, словно мицелий…
фокус-покус оптический – полный обман,
и приклад на плече, и объект на прицеле.
«Если у вас есть тайна – надо ее хранить…»
«Если у вас есть тайна – надо ее хранить,
если же нет – стоит ее придумать.
Но ненадежно зарытое станет гнить
и отравлять эфир, или, как в пруду муть,
с темного дна всплывет в неурочный час,
или как орган вырезанный заноет…
Вот и выходит – если сокрыта часть,
значит, ущербно прочее-остальное.
Спрятанное – изъятое из бытия —
попросту кража… Но мне сие до лампады.
Сделаю, как решила!» – думала я
ночью на кладбище, с фонарем и лопатой.
Маленькой тайне в коробке из-под сапог
будет просторно, словно в гробу на вырост.
И никаких свидетелей. Только Бог
знает, что я натворила, но Он не выдаст.
«Мы созданы из вещества того же…»
Мы созданы из вещества того же,
Что наши сны.
В. Шекспир, «Буря»
Теперь ты понял, отчего мое
Не бьется сердце под твоей рукою.
А. Ахматова, «Есть в близости людей заветная черта…»
Мы созданы из вещества того же,
что наши сны, и сном окружены
всю жизнь, и жизнь сама на сон похожа.
Нам кажется, что мы защищены,
что в мире нет прочней материала,
что утром мы проснемся, как всегда.
Закутаемся на ночь в одеяло
и вроде ничего… Не страшно, да…
Так спи спокойно, незабвенный друг,
в роскошном люксе, в дворницкой каморке —
спи, но memento mori – можно вдруг
зажмуриться и очутиться в морге.
Вот место, где не ночевал Творец!
Нет, правит бал не адский сатана там —
Сатурна Сектора суровый жрец
с ножом в руке – патологоанатом
пришел и хладнокровно обнажил
кишок замысловатые извивы,
волокна мышц и разветвленья жил.
А нам казалось, мы неуязвимы…
Он это заблужденье опроверг,
чудесный храм, великий дар господень
безжалостно вскрывая, как конверт,
который больше ни на что не годен.
И наклоняясь к мертвому письму,
строку он произносит за строкою.
Ну что ж, теперь он понял, почему
не бьется сердце под его рукою.
«Что делать? Майский вечер тих и светел…»
А кто гулял-погуливал в лесах моей души?
Нора Яворская
Что делать? Майский вечер тих и светел,
вот-вот завьет руладу соловей,
но лес моей души терзает ветер,
срывая листья мертвые с ветвей.
Кто виноват? Сама я, чадо мая,
сметаю чувств сухие лепестки.
Мне не хватает чуткого вниманья,
прикосновенья дружеской руки.
Настойчивый приятель ищет встречи.
В отчаянье все средства хороши —
а вдруг в ответ ручью учтивой речи
взыграет ключ в лесу моей души?
И вот уже лежит его рука
поверх моей, и чувства с поводка
сорвутся скоро, как собачья свора,
но обостренный слух уловит фальшь,
едва начнет давить словесный фарш
тугая мясорубка разговора.
Одноклассники
Ну вас, други, в канаву, поросшую сорной травой
сонной памяти детства… Соратники, спите спокойно.
Вы мне больше не снитесь, и ладно. С больной головой
мне давно не до дум, а былое тем паче – на кой мне?
Будьте вы трижды счастливы, ныне и присно, пока
терпит почва, пока на бескрайних небесных экранах
можно видеть, как прямо в эфире бредут облака,
из пушистых ягнят превращаясь в овец и баранов.
«Если в бокале твоем вина…»
Если в бокале твоем вина
только на полглотка,
цель, что, казалось, едва видна,
стала совсем близка,
если с утра встаешь, как на бой,
куришь назло врагу,
он же куражится над тобой,
сплевывая лузгу
планов потешных, пустых надежд —
Значит, все было зря?
Так и замрешь, не смыкая вежд,
выспренно говоря.
Время – бесшумный полет совы,
век – неприметный миг.
Не потревожив ночной травы,
мышкой-полевкой – шмыг.
Изредка даже последний лох,
как ни смурна нужда,
думает:
– Мир не так уж и плох.
Плох, но не так уж… Да —
главное, вся эта суета —
на острие пера.
Наискосок начерти: «Пора»,
И – поворот винта!
«Оттого что нельзя о любви говорить в суете…»
Оттого что нельзя о любви говорить в суете,
я годами молчала. Слова мои падают тяжко.
В небо пальцем попасть, если время и место не те —
продырявить эфир и остаться с кровавой культяшкой.
Оттого что нельзя в суете говорить о любви,
сочиняю пейзаж, где скупы и суровы красоты,
и, целуя в потемках поблекшие губы твои,
до утра запечатаю их, словно хрупкие соты.
Надежда
Как сухую траву, огонь пожирает тело.
Лишь надежда жива, она же умрет последней.
Падает в грязь ничком, зажимая руками рану,
корчится в муках, за ней тянется красный полоз —
кровь, покидая тело, уходит в землю.
Плоть оплывает свечой, обнажая остов.
Травы, пронзая пустоты, тянутся к небу.
Это твой цвет, надежда, твой рай зеленый.
«Расстреляешь обойму – и станет светло и легко!..»
Расстреляешь обойму – и станет светло и легко!
Ничего, что дрожал с бодуна и попал в молоко.
Расстреляешь обойму – и сразу светло и легко.
Снова можно свободно дышать и гулять не спеша.
Жизнь свежа и нежна, как ромашка в стволе «калаша».
Можно ровно дышать и по парку бродить не спеша…
Можно снова с печальной улыбкой глядеть на людей,
и не важно, что ты прирожденный не-до-любодей.
Можно с мудрой и доброй улыбкой смотреть на людей…
А всего-то: бэнг-бэнг – и врагам окаянным назло
увеличишь собой миротворцев блаженных число.
Расстреляешь обойму, и станет легко и светло.
N. N.
Суровый ментор, незваный лидер,
со школьной парты заклятый друг…
Пока он ног о тебя не вытер,
не привыкай кормить его с рук.
Ему сопутствуют визг и скрежет —
не жми, кондуктор, на тормоза…
он, как свинью, правду-матку режет,
а правда колет ему глаза.
Враги, как мухи, кругом роятся,
кишат, как черви, куда ни глянь,
и кто-то держит его за яйца,
сжимая нежно стальную длань.
Я с ним и в поле одном не сяду,
а он звонит и зовет на чай.
Ну что сказать ему?
– Выпей яду!
Приду на похороны. Прощай.
* * *
«Ненависть разгорается жарче пламени…»
Ненависть разгорается жарче пламени.
Сердце упрямо выстукивает «люблю»
и отправляет шифрованное послание,
по кровотоку стремящееся к нулю,
в ушко иглы, куда и верблюд протиснется,
а мне не втащить свой невесомый крест.
И поделом – нечего было противиться
заповеди, торчащей, как Эверест.
Ненависть к ближнему – это любовь навыворот,
общей картины пульсирующий мазок;
взять бы себя саму и публично выпороть,
плача и умоляя:
– Еще разок!
«Такой закат, что хоть ори: „Горим!“…»
Такой закат, что хоть ори: «Горим!»
Невольно мы свернули на дорогу,
ведущую не к дому и не в Рим,
а на пожар, пылающий без проку.
Обыденность – гори она огнем!
Мой выход от заката до рассвета.
Пожар, пожар! И я сгораю в нем,
не замечая ледяного ветра.
И мячики кровавые в глазах…
А спутник мой, в карманах руки грея,
советует спустить на тормозах
восторг и возвращаться поскорее.
II

«Вдохнешь – и запахнет паленым…»
Вдохнешь – и запахнет паленым,
хоть нет ни костра, ни дымка.
Скамья под оранжевым кленом
как будто вспотела слегка.
Темнеет, и в сумраке пряном
октябрь – пожилой ловелас
лимоном, гранатом, бананом
морочит и радует глаз.
«О, зимний парк! Сугробы, кони, люди…»
О, зимний парк! Сугробы, кони, люди,
вороны, утки, голуби, синицы…
Всё сущее стремится к совершенству
и говорит на разных языках.
Чужие дети пролетели мимо,
друг дружку обзывая не по-детски,
чужая тетка с пьяным вдохновеньем
приветствует знакомого бомжа.
Лиловый негр (чужее не бывает)
закутан в шарф, в енотовой ушанке,
хотя мороз всего-то минус восемь,
замерз как цуцик, а бомжу тепло.
Кругом такое множество сюжетов —
трагикомедий, драм и анекдотов!
Незримое стремится к воплощенью,
и никому нет дела до тебя.
Чужая жизнь тебя не замечает,
а ты спешишь своей судьбе навстречу
в резиновом костюме Спайдермена,
для маскарада взятом напрокат.
«Скоро пасха. Ну и холод!..»
Скоро пасха. Ну и холод!
Неизбежному покорен,
тополиный ствол расколот,
жизнь подрублена под корень.
И в отчаянье великом
лоб крещу рукой нетвердой —
что казалось светлым ликом,
обернулось волчьей мордой.
Волк? Повадка вроде сучья…
За окном пила, зверея,
с диким визгом гложет сучья —
валят старые деревья.
Сокрушенные набегом
сиротливые обрубки
медленно заносит снегом —
пепельным, стеклянным, хрупким.
«На Пасху солнце. Променад…»
На Пасху солнце. Променад
вдоль берега, неторопливо.
Холодный ветер веет над
блестящим трепетом залива.
Мы щуримся, дыша весной
и наблюдая безмятежно,
как тают в полосе прибрежной
остатки корки ледяной.
«Объявилась весна. Тонкой трелью прочистила горло…»
Куда летишь, душа моя?
На Острова, на Острова!
Екатерина Полянская
Объявилась весна. Тонкой трелью прочистила горло.
Брось дела, дорогой! Полетели на Острова,
в зеленеющий парк, где вчера еще – сиро и голо,
а сегодня разинула нежные клювы листва.
Все живое поет и ликует – Весна! Dolce Vita!
На доступной волне каждый ловит блаженную весть:
есть под солнышком место для особи всякого вида.
Небольшое – но есть.
Ненадолго, но все-таки есть!
In modest harmony with nature
Бесшумно парили стрекозы,
лениво гудели шмели,
тяжелые влажные розы
не знали, зачем расцвели.
И травы, сомлевшие в полдень,
и сонная ряска пруда
застыли в неведенье полном —
откуда, зачем и куда.
В гармонии хрупкой с природой
философ удил карасей,
довольный уловом, погодой,
судьбой и вселенною всей.
«Милый, милый август! Хвойная настойка…»
Милый, милый август! Хвойная настойка,
озера лесного солнечный озноб…
Празднично настолько, радостно настолько,
что раздухарится самый нудный сноб.
Перепала малость от большого лета —
корабельных сосен ржавая руда,
бормотанье леса, угасанье света,
желтые кувшинки, темная вода.
«И за окном, и в зеркале ноябрь…»
И за окном, и в зеркале ноябрь —
прилип к стеклу, недоброе суля мне.
Давнишней раны рваные края
бросать пора бы склеивать соплями.
Меня опять ноябривает он,
я знаю эту подлую ухмылку.
В глазах темно, в ушах унылый звон,
но я бреду на кухню и в бутылку
лью воду, и бамбуковый росток
на подоконник ставлю – знак, что явка
провалена, чтоб никакой браток
сюда не лез, голодный, как пиявка.
Небесной манны снежная крупа
просыплется и к вечеру растает,
но рана, как народная тропа,
не зарастает, нет, не зарастает…
III

Насквозь
«Лучший выход всегда насквозь»! —
он вскочил, процитировал Фроста
и решительно выпал в окно.
«Да… – подумал, кровавя сугроб, – это правда —
надежно и просто,
но мучительно больно, и стыдно, и в целом смешно».
Встал, шатаясь, куда-то побрел, на ходу выбирая осколки…
А она, помаячив красиво в разбитом окне,
полетела, нелепо взмахнув рукавами из алого шелка,
и, рыдая, упала, как роза, на утренний снег.
Возвращались в обнимку продрогшие, мир и любовь источая.
Дверь открыла старуха-соседка и, тихо шипя, уползла.
Наложили друг другу повязки, попили горячего чая,
и мужчина пошел на работу. А женщина снова легла.
Леда и лебедь
Леда-спартанка, супруга царя Тиндарея,
томно разделась у речки, сомлев на жаре и,
нежно алея сосками,
бедрами влажно сверкая,
в быструю воду вошла, вся медленная такая.
Что это там, в камышах, так тревожно белеет?
Лебедь плывет! Ослепительный царственный лебедь!
С каждым мгновением ближе,
с каждой секундой смелее:
щиплет, как девку, жемчужных грудей не жалея,
властным толчком раздвигает тугие колени!
Вот олимпийский напор! Налетает, как кочет,
пыжится, топчет – никак, познакомится хочет…
Это тебе не чахоточный номер балетный!
Бог снизошел —
поняла изумленная Леда.
Нет бы шепнуть горячо:
– Ты робеешь, я знаю!
Леда, отдайся! Озолочу, как Данаю…
Сахарно-белым бычком подманил он Европу…
Да хоть вонючим хорьком – откажись-ка попробуй!
Нет бы лелеять-ласкать-колыхать-колыбелить,
нежить. как в люльке, меж крыл,
чтоб от ласки слабея,
Леда раскрылась, как белая лилия в полдень,
свой исторический долг не стесняясь исполнить.
«Здесь нет зеркал, в их пустоте, проплыв, не отразится время…»
…Здесь нет зеркал, в их пустоте, проплыв, не отразится время,
часов необратимый ход не потревожит тишину,
и каждый вновь рожденный вздох втройне утяжеляет бремя
безмерной нежности, влекущей нас ко дну.
Пока мы дышим, мы плывем в сверкающих волнах потока,
без памяти о зеркалах, весах, секундах, потому
что жизнь мучительно нежна и ослепительно жестока
до сокровенной глубины, где ждет Герасима Муму.
ИВА
Печальная классическая ива!
На берегу ночной реки,
с фонариком в руке,
плакучая клонилась терпеливо
к той ветреной, что пряталась в реке.
Уже почти целуя отраженье,
сама себе она была
Изольда и Тристан…
Увы! Чрезмерным было напряженье,
и подломился наклоненный стан.
Взглянула поутру, и сердце сжалось:
лежит она лицом в воде,
касаясь пальчиками дна…
я к павшим деревам питаю жалость.
Но равнодушна к участи бревна.
«Все хороши – и овны, и козлища…»
Все хороши – и овны, и козлища…
С отечеством мучителен роман.
Люблю ли я гробы и пепелища
как любят некрофил и пироман?
Люблю ли я отживший век обычай,
медвежьих песен свежую струю,
Люблю ли этот взгляд – упертый, бычий,
бессмысленно сигналящий: «Убью»?
Зачем я тут? Планета велика ведь…
Что позабыла я в родном хлеву?
Люблю его? Не знаю. А лукавить
не хочется. Я просто здесь живу.
Многоточие
Зову грозу…
И, не закончив фразу,
поставлю многоточие и сразу
почую вдохновенную угрозу —
далекий гром и всполохи зарниц…
Зову грозу…
Не проще ли на прозу
свернуть, противодействуя соблазну
материю, невидимую глазу,
терзать перстами робких учениц?..
Нет, не могу…
Стихи – кратчайший способ
сменить костыль на чудодейный посох
и заклинать:
«Приди, гроза! Господствуй
над тварью, позабывшей о творце!»
Ну, понеслось!
В грохочущей повозке
летит Илья-пророк, стреляя в воздух.
Halt! Donnervetter!
…А цена вопроса —
поставить многоточие в конце…
Золотая гора
Первая сцена:
море, закат. Тяжесть земная.
Мир – отражения, миражи, блики, миракли…
– Что за посудина?
– Это за мной!
– Думаешь?
– Знаю.
– Этот дурацкий, ветхий, смешной,
пьяный кораблик?
Сцена вторая:
ищем во тьме гору Шумеру.
Море хохочет:
– Эй, шатуны! Дать вам опору?
Определяет нам, храбрецам, высшую меру
за дерзновение созерцать райскую гору.
Сцена последняя:
юный рассвет. Ось мирозданья.
Острой вершиной чудо-гора небо пронзила.
…Ну и под занавес несколько фраз —
так, в назиданье:
Жизнь – это плаванье.
Смерти нет.
Знание – сила.
«Прекрасней жабы твари нет…»
Прекрасней жабы твари нет.
Ну разве что змея.
Змея шевелится во мне —
мое восьмое «Я».
Она поднимется до гланд,
до чакры горловой —
и я пою на новый лад,
и голос мой – живой!
И в каждой клетке бьется жизнь
и плещется душа!
– А жаба-то при чем, скажи?
– Да просто – хороша!
Lux in tenebris
Свет во тьме
Душа чужая, говорят, – потемки…
Да что чужая? Загляни в свою —
Не видно ни черта. Темно, как в шопе,
Закрытом на ночь. Не видать ни зги.
Тьма тьмущая. Чернильный океан.
Ну что, слабо нырнуть в глубокий мрак,
В утробу моря, к праотцу Дагону?
А тьма – универсальный растворитель —
Твой децентрализованный состав
Распотрошит, разъест и переварит.
Но кое-что и ей не по зубам:
То зернышко, та пленная частица
Живого света, тайного огня,
То семечко, сияньем налитое
Что освещает самый темный путь —
Извив пищеварительного тракта,
Чудовищное чрево Бегемота.
И нам не страшен злой Левиафан,
Пока твердим свое:
– Да воссияет!
Война-любовь
12
И снова бой, и снова вечный бой —
чудак-рыбарь с поломанной удой
ласкает рыбу с порванной губой…
Такой союз не разольешь водой.
Война-любовь, и любящий – солдат.
Дай соли, брат, чтоб рана расцвела…
Смертельное стремленье обладать —
такие наши скорбные дела.
Всяк хочет крови солнечной глотнуть —
в борделе девки, демоны в Бардо[1]1
По тибетской буддийской традиции бардо – этап, через который сознание человека проходит в период между смертью и последующим воплощением.
[Закрыть].
Глоток любви, божественная муть…
такая наша слезная юдоль.
Как пахнет рыбой в этом закутке
Вселенной, в переполненной пивной!
А впрочем, ты сидишь в такой тоске,
что вонь, пожалуй, кстати. Как ни ной,
Как ни скули, приятель твой – глухой.
Всего-то приняли… а он, холера, пьян.
Жизнь потчует наваристой ухой
назойливо, как тот сосед Демьян,
до тошноты… Еще один глоток —
и вывернет Арагвой и Курой.
Ну хватит. Встань. Прижми ко рту платок
и выйди вон. И тихо дверь прикрой.
Стакан воды
Коль видишь ты стакан наполовину полным —
ты оптимист. Коль он наполовину пуст —
ты пессимист. Кого таким приколом
сегодня удивишь?.. Наивно? Ну и пусть.
А я вообще не вижу тут стакана —
передо мной в полон попавшая вода.
Частичку Мирового океана
со всех сторон враждебная среда
теснит и не пускает на свободу!
Я выход обнаружила простой —
возьму и вылью в раковину воду.
Теперь стакан наполнен пустотой.
«Глубже, глубже – до сердца… Оно перестанет болеть…»
Глубже, глубже – до сердца… Оно перестанет болеть.
Ну, смелей, Каприкорн! Если любишь, пронзай, не щадя!
Всякий раз по-иному танцуем мы вечный балет
на старинную музыку ветра, листвы и дождя.
И всю ночь, до утра, без унылого вздоха «пора»
изливайся до капли и жажду мою утоли
в нашей роще священной, не знающей топора,
под счастливые всхлипы набухшей весенней земли.
IV

Амазонка
Что делать юной деве, когда идут маневры
в житейском бурном море? – Девиз ее звучит:
«Без страха, без надежды»… В гербе – сова Минервы,
Деметры полный колос и лунный серп в ночи.
Что делать бедной деве? Где медные герои?
Где Ахиллес, и Гектор, и прочая братва?
– Перемигнуть и плюнуть. Давно погибла Троя.
Где не копался Шлиман, там выросла трава.
Одно осталось деве – среди жрецов Кибелы:
мечом обрезать косы и углем выжечь грудь.
В тугой колчан заправить отравленные стрелы,
как звонкий полумесяц, упругий лук согнуть.
Но помни, помни, помни, воинственная дева:
ты женщина, а значит, божественна втройне!
Пята – у Ахиллеса. У Амазонки – чрево,
где крохотное сердце забьется в глубине.
Неолит
…и всадник терзает усталую медь,
вздымая коня на дыбы,
и вороны тянут кровавую снедь
с разделочных досок судьбы,
и носятся стаи голодных лолит,
менгиры сметая с земли…
Ума наблюдений и сердца замет
мучительную череду
внесу в долгий перечень скверных примет
и жирно черту подведу.
Создатель вздохнет и табло обнулит,
и новое слово взойдет – неолит.
Саламандра
Я люблю, когда ты навалишься тяжело,
воображать, будто входишь в меня насильно,
и в глазах темнеет, а между ног – тепло,
горячо,
ослепительно,
невыносимо.
Раздувай это пламя ярче. Умри во мне,
чтобы родиться снова легким, помолодевшим.
Верно, я – саламандра, и мне хорошо в огне,
без сожалений,
без памяти,
без надежды.
«Прощания привычный ритуал…»
Прощания привычный ритуал.
– Увидимся… —
и хлопнувшая дверь.
Метался и когтями душу рвал
внутрь загнанный,
отчаявшийся зверь.
И ярость эту нечем утолить,
и зверь от лютой нежности ослеп,
и хватит жара город запалить,
горящих птиц послав тебе вослед.
Ода кровати
Постанывай, поскрипывай, кровать,
движенью в такт. Нам нечего скрывать.
Звучанье генитального дуэта
ласкает слух под аккомпанемент
пружин, поющих: «Истины момент!
Все прочее не важно. Только это».
Когда в живых ножнах скользит клинок,
когда летим, не расплетая ног,
в такой провал – рассудком не измерить;
скрипи, кровать усталая, звени!
Согласье наше преданно храни —
все прочее значенья не имеет.
«Виновата ли я, что мой голос дрожал…»
Виновата ли я, что мой голос дрожал
и все тело горело от яростных жал —
диких пчел возбужденного роя?
Я сама раздувала подпольный пожар,
а теперь полыхает на всех этажах,
и уже занимается кровля.
Я сама себе суд и в горячке хмельной
никому не позволю рядиться со мной.
Кто посмеет сказать: «Невиновна?!»
…Страсть как хочется пить; и не все ли равно,
чем гасить эту жажду – зеленым вином,
или кровушкой темной венозной.
Карфаген
– Да будет восстановлен Карфаген!
туда летаю каждую весну я…
Дал клятву: «Не забуду мать родную!
Мать городов, я тайный твой агент!» —
Так говорил он. В зеркале зрачка
покачивалась римская трирема.
Его часы отмеривали время
вспять. Он не походил на дурачка.
Его томили огненные сны.
На языке чужом, чеканно-медном
он бормотал: «Carthago exelenda,
Carthago exelenda, пацаны…
Bandiera rossa
Полотнище в кровище замочи
и вздерни поутру.
Пускай вся площадь
любуется, как ветры-палачи
его терзают, дергают, полощут.
Тела ли накрывают кумачом,
кумач ли выстилается телами…
Кто там мелькает за твоим плечом,
плеща окровавленными крылами?
«Милое тело – родной не потерянный рай…»
Милое тело – родной не потерянный рай,
и на огляд, и на ощупь тебя испытаю.
Влагу твою сокровенную жадно глотаю —
переливайся, выплескивайся, играй!
И заучив наизусть, как зубрила урок,
все закоулки обетованного края,
соизмеряю, от нежности замирая,
каждую впадинку, жилку и бугорок.
Вот благодать-то – целую вспотевший висок
и восхищенно вздыхаю, не помня – легко ли
я, самозванка, лишилась покоя и воли.
…Темная родинка, радужный волосок…
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?