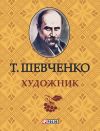Текст книги "Журнал"

Автор книги: Тарас Шевченко
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +6
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 13 страниц)
Странное, однако ж, это всемогущее призвание. Я хорошо знал, что живопись – моя будущая профессия, мой насущный хлеб. И вместо того чтобы изучить ее глубокие таинства, и еще под руководством такого учителя, каков был бессмертный Брюллов, я сочинял стихи, за которые мне никто ни гроша не заплатил и которые, наконец, лишили меня свободы, и которые, несмотря на всемогущее бесчеловечное запрещение, я все-таки втихомолку кропаю. И даже подумываю иногда о тиснении (разумеется, под другим именем) этих плаксивых, тощих детей своих. Право, странное это неугомонное призвание.
Не знаю, получу ли я от Кухаренка здесь его мнение насчет моего последнего чада («Москалева криныця»). Я дорожу его мнением чувствующего, благородного человека и как мнением неподдельного, самобытного земляка моего. Жаль мне, что я не могу теперь посетить его на его раздольной Черномории. А как бы хотелось. Но что делать. Сначала уплачивается долг, потом удовлетворяется голодная нужда, а на остатки покупается удовольствие. Так, по крайней мере, делают порядочные люди. А я и тенью боюся быть похожим [на] безалаберного разгильдяя. Кутнул и я на свой пай когда-то. Довольно.
Пора, пора душой смириться,
Над жизнью нечего глумиться,
Отведав горького плода.
В прошлом году получалась здесь комендантом «Библиотека для чтения». Бывало, хоть перевод Курочкина с Беранже прочитаешь, все-таки легче станет. А нынче, кроме фельетона «П[етербургских] ведомостей», совершенно ничего нет современно литературного. Да и за эту тощую современность нужно платить петрушкою и укропом. Хоть бы редька скорее вырастала, а то совестно уже стало потчевать стариков одним и тем же продуктом.
2 [июля]
Две случайно сделанные мною вещи так удачно, как редко удаются произведения глубоко обдуманные. Первая вещь – это сей журнал, который в эти томительные дни ожиданий сделался для меня необходим, как страждущему врач. Вторая вещь – это медный чайник, который делается необходимым для моего журнала, как журнал для меня. Без чайника, или без чая, я как-то лениво, бывало, принимался за сие рукоделье. Теперь же, едва успею налить в стакан чай, как перо само просится в руку. Самовар – тот шипением своим возбуждает к деятельности, это понятно. Правда, я не имел случая испытать на себе это благодетельное влияние самовара. Но имел случай существенно убедиться в этом волшебном влиянии на других. А именно. Был у меня во время оно приятель в Малороссии, некто г. Афанасьев, или Чужбинский. В 1846 году судьба столкнула нас в «Цареграде», не в Оттоманской столице, а в единственном трактире в городе Чернигове. Меня судьба забросила туда по делам службы, а его по непреодолимой любви к рассеянности или, как он выражался, по влечению сердца. Я знал его как самого неистового и неистощимого стихотворца, но не знал скрытого механизма, которым приводилось в движение это неутомимое вдохновение. И тогда только, когда поселились мы, во избежание лишних расходов, во-первых, а во-вторых, чтобы, как товарищи по ремеслу, созерцать друг друга во все минуты дня и ночи, тогда только узнал я тайную пружину, двигавшую это истинно неутомимое вдохновение. Пружина эта была шипящий самовар. Сначала я не мог взять в толк, почему мой товарищ по ремеслу не спросит, когда ему вздумается, стакан чая из буфета, как я это делаю, а непременно велит подать самовар. Но когда я рассмотрел приятеля поближе, то оказалось, что он, собственно, не самовар велел подавать, а велел подавать вдохновение, или пружину, приводящую в движение эту таинственную силу. Я прежде удивлялся, откуда, из какого источника вытекают у него такие громадные стихотворения, а оказалось, что ларчик просто отворялся.
Мы прожили с ним вместе весь Великий пост, и не оказалось в городе не только барышни, дамы, даже старухи, которой бы он [не написал] в альбом не четырехстишие какое-нибудь (он мелочь презирал), а полную увесистую идиллию. Если же альбома не обреталось у какой-нибудь очаровательницы, как, например, у старушки Дороховой, вдовы известного генерала 1812 года, то он преподносил ей просто на шести и более листах самое сентиментальное послание.
Но это все ничего. Кто из нас без слабостей? А главное дело в том, что когда пришлося нам платить дань обладателю «Цареграда», то у товарища по ремеслу не оказалось наличной дани. И я должен был заплатить, не считая другие потребления, но, собственно, за локомотив, приводивший в движение вдохновение, 23 рубля серебром, которые, несмотря на дружеское честное слово, и до сих пор не получил. Вот почему я существенно узнал действие шипящего самовара на нравственны[е] силы человека.
В моем положении естественно, что я постоянно нуждался в копейке. И я писал ему в Киев два раза о помянутых 23 руб., но он даже стихами не ответил. Я так и подумал, что увы! Россия лишилась второго Тредьяковского. Но я ошибся. Прошлой зимой в фельетоне «Р[усского] инвалида» вижу на бесконечных столбцах бесконечное малороссийское стихотворение, по случаю, не помню, по какому именно случаю, – помню только, что отвратительная и подлая лесть русскому оружию. Ба, думаю себе, не мой ли это приятель так отличается. Смотрю, действительно он, А. Чужбинский. Так ты, мой милый, жив и здоров, да еще и подличать научился. Желаю тебе успеха на избранном поприще, но встретиться с тобою не желаю.
Не помню, кто именно, а какой-то глубокий сердцеведец сказал, что вернейший дружбометр есть деньги. И он сказал справедливо. Истинная, настоящая дружба, которая высказывается только в критических, трудных случаях, и она даже требует этого холодного мерила. Самый живой, одушевленный язык дружбы – это деньги. И чем более нужда, тем дружба искреннее, прогоняющая эту голодную ведьму. Я был так счастлив в своей, можно сказать, коловратной жизни, что неоднократно вкушал от плода этого райского дерева. И в настоящее, мне кажется, самое критическое, время я получаю 75 рублей – за что? За какое одолжение? Мы с ним виделись всего два раза. Первый раз в Орской крепости; второй раз в Оренбурге. Пошли, Господи, всем людям такую дружбу и такого друга, как Лазаревский. Но искорени эти плевелы, возросшие на ниве благороднейшего чувства. Искорени друзей, подобных Афанасьеву, Бархвицу и Апрелеву. Положим, это дрянь, мелочь, и Бархвиц и Афанасьев, но Апрелев – это крупный, видный человек. Это не какой-нибудь чугуевский улан или забулдыга линейный поручик, а ротмистр кавалергардского ее величества полка. Сибарит и обжора, известный в столице. Это, как говорится, видное лицо. С этим видным лицом познакомился я в 1841 году у одного земляка моего, у некоего Соколовского. Первое впечатление было в его пользу. Молодой, свежий, румяный толстяк (я, не знаю почему, особенно верую в доброкачественнос[т]ь подобного объема и колорита людей). И чтобы довершить свое очарование, я вообразил его еще и либералом. Вот мы знакомимся, потом дружимся, переходим на «ты» и, наконец, входим в финансовые отношения. Он мне заказывает свой портрет. И я ему позволяю приезжать ко мне на сеансы с собственным фриштиком, состоящим из 200 устриц, четверти холодной телятины, 6 бутылок портеру и 1 бут. джину. Все это съедалось и выпивалось в продолжение сеанса самым дружеским образом. Третий сеанс начался у нас на «ты» и кончился шампанским. Я был в восторге от друга-аристократа. Кончились сеансы, отправился я к другу за мздой; друг занят, никого не принимает; другой раз то же самое, третий, четвертый, и так до десяти раз – все то же самое. Я плюнул другу на порог да и ходить перестал. Таких друзей у меня было много и, как на подбор, все люди военные. Я уверен, что если бы Афанасьев не был прежде уланом, он мог бы писать стихи без помощи самовара, и мы бы с ним расстались иначе.
Вера без дел мертва есть. Так и дружба без существенных доказательств – пустое, лукавое слово. Блаженны, стократ блаженны друзья, которых жизнь была осенена радужным сиянием улыбающегося счастия, и голодная нужда своим железным посохом испытания ни разу не постучала в дверь их бескорыстной дружбы. Блаженны, они и в могилу сойдут, благословляя друг друга.
3 [июля]
Сегодня во сне видел я Лазаревского. Будто бы он приехал за мною в укрепление и, несмотря на мои доводы о невозможности оставить мне укрепление без пропуска, увез меня насильно, не позволив проститься даже с Мостовским. Вскоре очутились мы в каком-то русско-татарско-немецком городе, вроде Астрахани. И верблюды, и [а]нглизированные лошади по улице ходят, и фонтаны бьют, и кумыс продают, и папиросная фабрика, и театр, наконец – вечер, ночь. Лазаревский скрылся, ищу его, спрашиваю и просыпаюся. Проснувшися, я обрадовался, что это только сон и что я, слава Богу, не дезертир. А иначе опять бы меня вооружили лет на десять за престол и отечество. Нужно будет зайти к сотнику Чеганову посмотреть в сонник, что значит видеть во сне самовольную отлучку.
Сегодня, т. е. 4 июля, когда я, по обыкновению, встал в три часа, согрел свой чайник, налил стакан чая и взялся за перо, начали собираться дождевые тучки. А через несколько минут пошел тихий, меланхолический дождик, и я, оставив всякое писание и мечтание, любуюся этим прекрасным и чрезвычайно редким здесь явлением. Ветер из Астрахани, т. е. норд-вест. Можно надеяться, что дождик усилится и продлится за полдень. Какая была бы благодать для этой безводной пустыни.
4 [июля]
Ночевал на огороде, в комендантской беседке. Это моя теперишняя резиденция. Вскоре по пробитии вечерней зори пошел тихий дождик, и по этому случаю я ранее обыкновенного лег спать. Под тихий гармонический шум падающих на крышу беседки капель дождя я сладко задремал. И видел во сне покойника Карла Павловича Брюллова и с ним вместе товарища своего Михайлова. Сначала в какой-то огромной галерее, в которой, кроме какого-то эскиза Гвидо Рени, ничего не было, и который Михайлов собирался копировать. Потом перешли мы в мастерскую, что в портике, вместе с Карлом Павловичем. Тут тоже ничего не было, кроме большого, во всю залу натянутого и загрунтованного полотна, как это делается для декораций, и к стене приклеенной грубо раскрашенной литографии Калама с подписью Рио-Джанейро. Потом Карл Павлович пригласил нас на Лукьяновский ростбиф, как это бывало во времена незабвенные. Но ударил гром, и я проснулся. Пошел проливной дождь. Затворив двери и окна беседки, я снова уснул. Во второй сеанс увидел я в Москве Михайла Семеновича Щепкина, таким же свежим и бодрым, как видел я его в последний раз в 1845 году. Говорили о театре, о литературе. Я ему заметил, почему он не продолжает свои «Записки артиста», начало которых напечатано в первой книжке «Современника» за 1847 год. На что он мне сказал, что жизнь его протекла так тихо, счастливо, что не о чем и писать. Я хотел ему на это возразить что-то, но мы очутились в Новопетровском укреплении и встретились с П. А. Кулишем, собирающим какие-то тощие растения. Я как хозяин захлопотал о обеде и пошел искать полевой спаржи, которой здесь и в помине нет. Но новый удар грома разбудил меня, и я уже не мог заснуть.
С недавнего времени мне начали представляться во сне давно виденные мною милые сердцу предметы и лица. Это, вероятно, оттого, что я об них теперь постоянно думаю. Ложась спать вчера, я думал о «Осаде Пскова» и о «Гензерихе» Брюллова. И увидел во сне самого их великого творца. Довольно. Утро после ночной грозы тихое, свежее, редкое в здешней знойной пустыне утро. И я буду большой руки тетеря, если проведу его за своим журналом.
5 [июля]
Голенький ох, а за голеньким Бог. Из моей библиотеки, которую я знаю наизусть всю и которую уже давно упаковал в ящик, не нашлося книги, достойной сопутствовать мне в моем радостном одиноком путешествии по Волге. Ригельмана «История Донского войска» показалась мне слишком старою спутницей, и я упаковал ее на самый спуд. Что же делать без книги в таком медленно-спокойном путешествии, как плавание по Волге, от Астрахани до Нижнего? Это меня беспокоило. И в самом деле, что я буду делать целый месяц без хоть какой-нибудь книги? Но фортуна, эта гордая повелительница повелителей мира, эта безглазая царица царей, – сегодня мой лакей, хуже – бердичевский фактор.
Насладившись прекрасным свежим утром на огороде, я в девятом часу пошел в укрепление. Мне нужно было взять хлеба у артельщика и отдать высушить на сухари для дороги. Прихожу в ротную канцелярию, смотрю, на столе рядом с образцовыми сапогами лежат три довольно плотные книги в серой подержанной обертке. Читаю заглавие. И что же я прочитал? «Estetyka czyli umnictwo piękne przez Karola Libelta». В казармах! Эстетика! «Чьи это книги?» – спрашиваю я писаря. «Каптенармуса унтер-офицера Кулиха». Отыскал я вышерекомого унтер-офицера Кулиха. И на вопрос мой, не продаст ли он мне «Umnictwo piękne», он отвечал, что оно принадлежит мне. Что Пшевлоцкий, уезжая из Уральска на родину, передал ему, Кулиху, эти книги с тем, чтобы они были переданы мне. И что он, Кулих, принес их с собою сюда, положил в цейхгауз и забыл про их существование, и что вчера только они попались ему на глаза, и что он очень рад, что теперь может их препроводить по принадлежности. Для вящей радости я послал за водкой, а книги положил в свою дорожную торбу.
Видимое, осязательное дело услужливой факторши фортуны. Итак, по милости этой слепой царицы царей я имею в дороге чтение, на которое вовс[е] не рассчитывал. Чтение, правда, не совсем по моему вкусу, но что делать, на безрыбьи и рак рыба. Я, несмотря на мою искреннюю любовь к прекрасному в искусстве и в природе, чувствую непреодолимую антипатию к философиям и эстетикам. И этим чувством я обязан сначала Галичу и окончательно почтеннейшему Василию Ивановичу Григоровичу, читавшему нам когда-то лекции о теории изящных искусств, девизом которых было: побольше рассуждать и поменьше критиковать. Чисто Платоновское изречение.
С Либельтом я немного знаком по его «Деве Орлеанской» и по его критике и философии. На первый взгляд он мне показался мистиком и непрактиком в искусствах. Посмотрим, что дале будет. Боюсь, как бы вовсе не раззнакомиться.
6 [июля]
Видел во сне Академию художеств. Михайлов показывал мне какую-то неоконченную копию и потом скрылся от меня вместе с копиею. Из Академии я вышел на Большой проспект и, не доходя церкви Андрея Первозванного, встретился с семейством здешнего коменданта и от радости проснулся.
Третьего дня вечером был я случайным зрителем, кажется, последней сцены из водевиля под названием «Недошитая кофта». Я не хотел было вносить в мой журнал эту балаганную сцену, но как она оказалася важною по своему неожиданному результату, то я и заношу ее со всею пошлою точностию в мою неизменную хронику.
Сие событие совершилось 5 числа текущего месяца. В отсутствие родителя нареченной жениху пришла благая мысль попотчевать свою будущую супругу серенадой со всеми онерами. Для этого собрал он из двух рот песельников, также со всеми онерами: с бубном, тарелками, ложками, треугольником и еще с какими-то погремушками. И когда был пропет, разумеется, с танцами, весь репертуар солдатских песен и даже «После батюшки остался сиротою молодец» с небольшими изменениями, восторженному этой последней песней жениху, которая изображала в некотором роде его собственное положение, ему захотелося, чтобы ребята маненько его покачали. Почему же и не так. Ребята принялись за дело, и, о судьба-злодейка! Когда верные и усердные ребята затянули десятое ура! – в воротах показался комендант. Протяжное громкое ура вдруг оборвалося, и верные, неизменные ребята бросили своего отца-командира среди улицы, а сами скрылися где кто мог. Положение жениха действительно критическое, и тем более критическое, что он без нежного участия своей возлюбленной нареченной не мог стать на ноги по случаю бесхитростной радости, или, проще, он был мертвецки пьян.
На другой день рано является с рапортом к коменданту отец нареченной и просит на законном основании избавить его опозоренную дочь, а равно и все его семейство, от гнусного, безобразного пьяницы-жениха, подпоручика Чарца. На такое законное требование резолюция еще не воспоследовала.
Каково же быть порядочному и семейному человеку комендантом этого заграничного гнездилища безграничных мерзостей? Быть судьей и разбирателем этих бесконечных ежедневных гадостей. А он как начальник обязан пачкаться в этой вонючей грязи. Отвратительная обязанность.
7 [июля]
Видел сегодня во сне Москву, не встретил никого знакомых и храма Спаса не видал. Был на Красной площади и Василия Блаженного не видал. Искал в Гостином дворе ивановского полотна для рубах и не нашел. Так и проснулся. Проснувшись, я по обыкновению нагрел свой чайник, положил чаю и начал вытирать стакан, как является ко мне мой дядька и объявляет мне повеление фельдфебеля немедленно явиться к пригонке амуниции. «Да ее недавно пригоняли», – говорю я. «Не могу знать-с, приказано», – отвечает он.
Итак, для воскресения не удалось мне чайком побаловать себя. Прихожу в укрепление и узнаю, что вчера пришел какой-то татарин из Астрахани с казенным провиантом и распустил слух, что в конце августа месяца в Астрахань дожидают великого князя Константина Николаевича и что по этому случаю в Астрахани делаются большие приготовления для встречи августейшего гостя. Капитан Косарев, заведующий двумя ротами 1 баталиона, тотчас смекнув делом и чтобы не ударить в грязь лицом, вчера же, с помощию писаря Петрова, назначил почетный караул, в число которого, по протекции писаря Петрова, назначен и я. Головоломная эта задача была кое-как решена к рассвету, а с восходом солнца (несмотря на воскресенье) приказано пригнать амуницию и, как будет готова, вывести людей на смотр перед телячье лицо капитана Косарева и верного его сподвижника писаря Петрова.
Сказано – сделано. К 7 часам все было готово, в полной амуниции люди были выведены на полянку, в том числе и я, в 7 часов явился сам капитан Косарев во всем ослином величии и после горделивого приветствия подошел прямо ко мне, благосклонно хлопнув меня по плечу, и сказал: «Что, брат, отставка? Нет, мы еще из тебя сделаем отличного правофлангового, а потом и с Богом». И тут же отдал приказание капральному ефрейтору заняться со мной маршировкой и ружейными приемами часика четыре в день. Я ужаснулся, услышав это благосклонное приказание. Вот тебе и безмятежное уединение на огороде.
Тот же самый татарин вместе с накладной привез коменданту письмо из Астрахани, в котором его уведомляют, что адмирал Васильев получил известие из Петербурга, чтобы его высочество в Астрахань не ожидали и, следовательно, не трепетали. Комендант, узнавши о распоряжении предупредительного капитана Косарева, натянул ему нос и даже погрозил ему гауптвахтой, если он вперед осмелится тревожить людей без его ведома. Тем все и кончилось. И я, как ни в чем не бывало, встал сегодня по обыкновению в 3 часа утра, нагрел свой чайник, очинил новое перо и занес сей невероятный казус в мою верную хронику. Господи, настанет ли наконец для меня час искупления? Настанут ли когда-нибудь для меня те блаженные дни, когда я буду читать эти отвратительные правдивые сказания, как ложный сон, как небывалую небылицу?
8 [июля]
Сегодня ушла почтовая лодка в Гурьев. Ветер зюйд-вест. В среду или в четверг она должна быть на Стрелецкой Косе, 15 верст от Гурьева. В субботу получит последнюю оренбургскую почту. Воскресенье попразднует, а в понедельник в обратный путь. Как раз через неделю. При благополучном ветре ее должно ожидать 17-го или 18-го числа. И никак не дальше 20. Неужели она для меня ничего не привезет? Не может быть. Это было бы уже умышленное тиранство.
Сегодня же поутру пригласил я к себе на огород унтерофицера Кулиха, того самого, что принес мне из Уральска «Umnictwo piękne» Libelta. Разговор наш, разумеется, вертелся на баталионе и в особенности на 2-й роте, которая два года назад тому ушла отсюда и которая теперь сюда возвратилась. И тогда, и теперь я имею несчастие состоять в этой роте. Начиная с бывшего тогда ротного командира поручика Обрядина, мы перебрали всю роту поодиночке и, наконец, дошли до рядового Скобелева. Этот рядовой Скобелев, несмотря на свое прозвание, был мой земляк, родом Херсонской губернии. И в особенности мне памятен по малороссийским песням, которые он пел своим молодым мягким тенором удивительно просто и прекрасно. С особенным же выражением он пел песню:
Тече річка невеличка
З вишневого саду.
Я забывал, что я в казармах слушаю эту очаровательную песню. Она меня переносила на берега Днепра, на волю, на мою милую родину. И я никогда не забуду этого смуглого полунагого бедняка, штопающего свою рубаху и уносившего меня своим безыскусственным пением так далеко из душной казармы.
По сложению своему и по манерам он не был похож на бравого солдата, за что я его особенно уважал. Но он пользовался в роте славою честного и смышленого солдата. И несмотря на смуглое, аляповатое и оспою изрытое лицо, в его лице светилася отвага и благородство. И я любил его как земляка и как честного человека, независимо от песен. Он был, как он мне говорил по секрету, беглый крепостной крестьянин. Попался в бродяжничестве, сказался не помнящим родины и семейства и был зачислен в солдаты, где и дали ему прозвище Скобелева, в честь известного балагура Русского инвалида Скобелева. Так об этом-то бедняке Скобелеве Кулих мне рассказал следующу[ю] возмутительную повесть.
Вскоре по прибытии 2 роты в г. Уральск командир роты поручик Обрядин взял к себе в постоянные вестовые рядового Скобелева как трезвого и благонадежного, но слабого по фронту солдата. А рядовой Скобелев неумышленно сделался поверенным сердечных тайн своего командира и постоянным лакеем его любовницы. Не прошло и полгода, как неуклюжий лакей Скобелев также неумышленно сделался любовником любовницы своего повелителя. И однажды, в минуты сердечных излияний, коварная изменница открыла Скобелеву, что два месяца тому назад на его имя получены Обрядиным из Москвы 10 рублей серебром от какого-то его бывшего товарища (вероятно, по бродяжничеству), теперь лавочного сидельца. И в доказательство истины слов своих показала ему конверт с пятью печатями. Поручик же Обрядин, будучи еще баталионным адъютантом и казначеем, не только подозреваем, но даже был уличаем в краже подобных присылок. Но он как-то умел концы в воду прятать и слыть вообще порядочным человеком. Скобелев, узнавши такую проделку отца-командира, явился к нему с пустым пакетом в руках требовать вынутых из него денег. Отец-командир попотчевал его пощечиной, а он отца-командира оплеухой. Будь это сам на сам, тем бы и кончилось, но как эта сцена была представлена при благорожденных зрителях, при офицерах, то сконфуженный поручик Обрядин, арестовав рядового Скобелева, подал баталионному командиру рапорт о случившемся. Вследствие рапорта произведено следствие, а вследствие следствия поручику Обрядину велено подать в отставку, а рядового Скобелева предали военному суду. А по приговору военного суда рядовой Скобелев прошел по зеленой аллее, как выражаются солдаты, сквозь 2000 шпицрутенов и сослан в Омск на семь лет в арестантские роты. Печальное и, к несчастью, не единственное в этом роде происшествие.
Бедный Скобелев! Родился ты и вырос в невольничестве. Вздумалось тебе попробовать широкой, сладкой вольной воли, и ты залетел в Эдикуль (так обыкновенно называют солдаты Новопетровское укрепление). Залетел ты в мою семилетнюю тюрьму певуньей-птицей из Украины как будто для того только, чтобы своими сладкими заунывными песнями напомнить мне мою милую, мою бедную родину. Бедный, несчастный Скобелев. Ты честно, благородно возвратил пощечину благородному вору, грабителю, и за это честное дело прошел ты сквозь строй и понес тяжелые кандалы на берега пустынного Иртыша и Оми. Встретишь ли в своей новой неволе такого внимательного и благодарного слушателя, товарища твоих заунывных сладких песень, как я был? Встретишь, и не одного такого же, как и ты, невольника-сирому, земляка, варнака заклейменного, который прольет слезу благодарности на твои тяжелые кайданы за отрадные, сердцу милые, родные звуки. Бедный, несчастный Скобелев.
9 [июля]
Перед закатом солнца заштилело. А в сумерки поднялся свежий ветер от нордоста, прямо в лоб нашей почтовой лодке. Она теперь в открытом море бросила якорь, а когда подымет, Бог знает. Нордост здесь господствующий ветер. Он может простоять долго и продлит мою и без того длинную неволю далеко за предначертанную мною границу, т. е. за 20-е июля. Грустно, невыразимо грустно. В продолжение ночи я не мог заснуть; меня грызла и гоняла, как на корде, вокруг огорода самая свирепая тоска. На рассвете я пошел к морю, выкупался и тут же на песке заснул. Видел во сне покойника Аркадия Родзянку в его Веселом Подоле, близ Хорола. Показывал он мне свой чересчур затейливый сад. Толковал о возвышенной простоте и идеале в искусствах вообще и в литературе в особенности. Ругал наповал грязного циника Гоголя, и в особенности «Мертвые души» казнил немилосердо, потом потчевал какими-то герметически [за]купоренными кильками и своими грязнейшими малороссийскими виршами вроде Баркова. Отвратительный старичишка. Разбудил меня мелкий тихий дождик, и я прибежал на огород мокрой курицей.
Говорят, о чем наяву думаешь, то и во сне пригрезится. Это не всегда так. Я, например, Аркадия Родзянку видел всего один раз, и то случайно, в 1845 году, в его деревне Веселый Подол, и он мне в несколько часов так надоел своею глупой эстетикой и малороссийскими грязнейшими и глупейшими стихами, что я убежал к его брату Платону, к его ближайшему соседу и, как водится, злейшему врагу. Я забыл даже, что я виделся когда-то с этим сальным стихоплетом, а он мне сегодня во сне пригрезился. Какая же связь между моими вчерашними грустными мечтами и между этим давно забытым мною человеком? Каприз нашей нравственной природы, и совершенно никакой логической связи. И оракул сотника Чеганова едва ли объяснит загадку подобных сновидений. Пойду, однако ж, на всякий случай, посмотрю в это зерцало сокровенных таинств натуры.
10 [июля]
Ветер все тот же. Тоска та же самая. Дождь продолжает омывать новую луну. Такие длинные любезности здесь с ним редко случаются. Я недвижимо пролежал весь день в беседке и слушал однотонную тихую мелодию, производимую мелкими и частыми каплями дождя о деревянную крышу беседки. Принимался несколько раз дремать, но неудачно. Проклятые мухи со всего огорода слетелись в беседку и не дают покоя. Принимался несколько раз строить воздушные замки на своих будущих эстампах акватинта также неудачно. «Гензерих» и «Осада Пскова» Брюллова мне особенно не удавались. Нужно избегать на первый раз наготы. Нужен опыт и опыт, а иначе эта очаровательная брюлловская нагота выйдет в эстампе безобразие. Я не желал бы, чтобы мои будущие эстампы были похожи на парижский эстамп акватинта с картины «Последний день Помпеи». Топорный, безобразный эстамп. Поругано, обезображено гениальное произведение.
В таком скверном настроении унывающей души вспомнил я про «Umnictwo piękne» Либельта, принялся жевать: жестко, кисло, приторно. Настоящий немецкий суп-вассер. Как, например, человек, так важно трактующий о вдохновении, простосердечно верит, что будто бы Иосиф Вернет велел себя во время бури привязывать на марсах к мачте для получения вдохновения. Какое мужицкое понятие об этом неизреченно божественном чувстве. И этому верит человек, пишущий эстетику, трактующий об идеальном, возвышенно-прекрасном в духовной природе человека. Нет, и эстетика сегодня мне не далась. Либельт, он только пишет по-польски, а чувствует (в чем я сомневаюсь) и думает по-немецки. Или, по крайней мере, пропитан немецким идеализмом (бывшим, не знаю как теперь?). Он смахивает на нашего В. А. Жуковского в прозе. Он так же верит в безжизненную прелесть немецкого тощего, длинного идеала, как и покойный В. А. Жуковский.
В 1839 году Жуковский, возвратившись из Германии с огром[ною] портфелью, начиненною произведениями Корнелиуса, Гессе и других светил мюнхенской школы живописи, нашел Брюллова произведения слишком материальными, придавляющими к грешной земле божественное, выспреннее искусство. И обращаясь ко мне и покойному Штернбергу, случившемуся в мастерской Брюллова, предложил зайти к нему полюбоваться и поучиться от великих учителей Германии. Мы не проминули воспользоваться сим счастливым случаем. И на другой же день явилися в кабинете германофила. Но Боже! Что мы увидели в этой огромной развернувшейся перед нами портфели. Длинных безжизненных мадонн, окруженных готическими тощими херувимами, и прочих настоящих мучеников и мучеников живого, улыбающегося искусства. Увидели Гольбейна, Дюрера, но никак не представителей живописи девятнадцатого века. До какой степени, однако ж, помешались эти немецкие идеалисты-живописцы. Они не заметили, что в архитектуре Кленца, для которой они творили свои готические безобразные творения, и тени нет напоминающего готическую архитектуру. Странное, непонятное затмение.
«Umnictwo piękne» Либельта спрятал я в дорожную торбу и снова привел свою фигуру в горизонтальное положение. Что дальше будет, не знаю.
Незабвенные, золотые дни, мелькнули вы светлым, радостным сновидением передо мною, оставив по себе неизгладимый след чарующего воспоминанья. Мы были тогда с Штернбергом едва оперившиеся юноши и, рассматривая эту единственную коллекцию идеального безобразия, высказывали вслух свое мнение и своим простодушием довели до того кроткого, деликатного Василия Андреевича, что он назвал нас испорченными учениками Карла Павловича и хотел было уже закрыть портфель перед нашими носами, как вошел в кабинет князь Вяземский и помешал благому намерению Василия Андреевича. Мы продолжали с невозмутимым равнодушием перелистывать портфель и были награждены за терпение первоначальным эскизом «Последнего дня Помпеи», ловко начерченным пером и слегка попятнанным сепиею. За этим гениальным очерком, почти не измененным в картине, следовало несколько топорных чертежей Бруни, которые ужаснули нас своим заученным, однообразным безобразием. И где и из какого тлетворного источника почерпнул и усвоил г. Бруни эту ненатуральную манеру? Неужели это одно желание быть оригинальным так страшно обезобразило произведения неутомимого Бруни? Жалкое желание. Грустный результат. И этот человек мечтал еще равняться с Карлом Великим! (так обыкновенно называл Брюллова В. А. Жуковский).
Один мой знакомый, не художник и даже не записной, а так просто любитель изящного, смотря на «Покров Божией Матери», картину Бруни, в Казанском соборе, сказал, что если бы он был матерью этого безобразного ребенка, что валяется на первом плане картины, то он не только взять на руки, боялся бы подойти к этому маленькому кретину. Замечание чрезвычайно верное и ловко высказано. А «Медный змий» его? Это толпа безобразных и самых бесталанных актрис и актеров. Я видел эту картину в подмалевке, и она меня ужаснула. Неприятное, но все-таки впечатление. Оконченная же эта огромная картина не произвела на меня даже и этого неприятного чувства. А ведь цель ее была уничтожить «Последний день Помпеи». Колоссальное, но, увы, неудачное намерение.