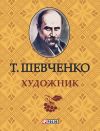Текст книги "Журнал"

Автор книги: Тарас Шевченко
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +6
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 13 страниц)
16 [сентября]
СОБАЧИЙ ПИР
(ИЗ БАРБЬЕ)
Когда взошла заря и страшный день багровый,
Народный день настал;
Когда гудел набат и крупный дождь свинцовый
По улицам хлестал;
Когда Париж взревел, когда народ воспрянул
И малый стал велик;
Когда, в ответ на гул старинных пушек, грянул
Свободы звучный клик!
Конечно, не было там [видно] ловко сшитых
Мундиров наших дней;
Там действовал напор, лохмотьями прикрытый,
Запачканных людей.
Чернь грязною рукой там ружья заряжала,
И закопченным ртом
В пороховом дыму там сволочь восклицала:
«Ебена мать, умрем!»
А эти баловни в натянутых перчатках,
С батистовым бельем,
Женоподобные, в корсетах на подкладках,
Там были ль под ружьем?
Нет! Их там не было, когда, все низвергая
И сквозь картечь стремясь,
Та чернь великая и сволочь та святая
К бессмертию неслась!
А те господчики, боясь громов и блеску
И слыша грозный рев,
Дрожали где-нибудь вдали за занавеской,
На корточки присев!
Их не было в виду, их не было в помине
При общей свалке там.
Затем, что, видите ль, свобода не графиня
И не из модных дам,
Которая, нося на истощенном лике
Румян карминных слой,
Готова в обморок при первом падать крике,
Под первою пальбой.
Свобода – женщина с упругой, мощной грудью,
С загаром на щеке.
17 [сентября]
Вчера мне ничто не удалось. Поутру начал рисовать портрет Е.А. Панченка, домашнего медика А. Сапожникова. Не успел сделать контуры, как позвали завтракать. После завтрака пошел я в капитанскую светелку с твердым намерением продолжать начатый портрет, как начал открываться из-за горы город Чебоксары. Ничтожный, но картинный городок. Если не больше, так по крайней мере на половину будет в нем домов и церквей. И все старинномосковской архитектуры. Для кого и для чего они построены? Для чувашей? Нет, для православия. Главный узел московской старой внутренней политики – православие. Неудобозабываемый Тормоз по глупости своей хотел затянуть этот ослабевший узел и перетянул. Он теперь на одном волоске держится.
Когда скрылися от нас живописные грязные Чебоксары, я снова принялся за портрет. Но принялся вяло, неохотно. Принялся для того, чтобы его кончить, и кончил, разумеется, скверно.
От этой первой неудачи я с досады лег спать и проспал прекрасный вид села Ильинского. Ввечеру, когда «Князь Пожарский» положил на ночь якорь и все успокоилось, я, чтобы хоть чем-нибудь вознаградить две неудачи, принялся переписывать «Собачий пир», как вошел в светелку А. С[апожников] с К[ишкиным] и П[анченко] и ни с сего ни с того составился у нас литературный вечер. Капитан наш вытащил из-под спуда «Полярную звезду» 1824 года и прекрасно прочитал нам отрывок из поэмы «Наливайко», а Сапожников – отрывки из поэмы «Войнаровский». Потом А[лександр] А[лександрович] пригласил нас ужинать. И как это случилося в 12 часов, то за ужином оказалась именинница, а именно бабушка Любовь Григорьевна Явленская. Поздравили, и не один, и не два, а три раза поздравили. Потом начали отсутствующих имен[ин]ниц поздравлять, и я таки порядком напоздравлялся.
Несмотря на последнее вчерашнее событие, я сегодня проснулся рано и, как ни в чем не бывало, принялся за свой журнал, и пока братия еще в объятиях Морфея, буду продолжать «Собачий пир» до новой перепойки.
С зажженным фитилем, приложенным к орудью,
В дымящейся руке!
Свобода – женщина с широким, гордым шагом,
Со взором огневым,
Под гордо вьющимся по ветру красным флагом,
Под дымом боевым;
И голос у нее – не женственный сопрано,
Но жерл чугунный ряд,
Ни медь (звон) колоколов, ни палка барабана
Его не заглушат!
Свобода – женщина, но в сладострастьи щедром
Избранникам своим верна,
Могучих лишь одних к своим приемлет недрам
Могучая жена.
Ей нравится плебей, окрепнувший в проклятьях,
А не гнилая знать,
И в свежей кровию дымящихся объятьях
Ей любо трепетать.
Когда-то ярая, как бешеная дева,
Явилась вдруг она,
Готовая дать плод от девственного чрева,
Грядущая жена.
И гордо вдаль она, при кликах исступленья,
Свой совершая ход,
И целые пять лет горячкой вожделенья
Сжигала свой народ!
А после кинулась вдруг к палкам, к барабану,
И маркитанткой в стан
К двадцатилетнему явилась капитану:
«Здорово, капитан!»
Да, – это все она! Она с отрадной речью
Являлась нам в стенах,
Избитых ядрами, испятнанных картечью, —
С улыбкой на устах;
Она – огонь в глазах, в ланитах жизни краска,
Дыханье горячо,
Лохмотья, нищета, трехцветная повязка
Чрез голое плечо!
Она! В трехдневный срок французов жребий вынут!
Она! Венец долой!
Измята армия, трон скомкан, опрокинут
Кремнем из мостовой!
И что же? О позор! Париж, столь благородный
В кипеньи гневных сил,
Париж, где некогда великий вихрь народный
Власть львиную сломил, —
Париж, который весь гробницами уставлен
Величий всех времен!
Париж, где камень стен пальбою продырявлен,
Как рубище знамен!
Париж, отъявленный сын хартий, прокламаций,
От головы до ног
Обвитый лаврами, апостол в деле наций,
Народов полубог!
Париж, что некогда, как светлый купол храма
Всемирного, блистал,
Стал ныне скопищем нечистоты и срама,
Помойной ямой стал,
Вертепом подлых душ, мест ищущих в лакеи
Паркетных шаркунов,
Просящих нищенски для рабской их ливреи
Мишурных галунов;
Бродяг, которые рвут Францию на части
И сквозь плевки, толчки,
Визжа, зубами рвут издохшей тронной власти
Кровавые клочки!
Так вепрь израненный, сраженный смертным боем,
Чуть дышит в злой тоске,
Покрытый язвами, палимый солнца зноем,
Простертый на песке;
Кровавые глаза померкли, обессилен
Могучий зверь. Поник;
Отверстый зев его шипучей пеной взмылен
И высунут язык…
Вдруг рог охотничий пустынного простора
Всю площадь огласил,
И спущенных собак неистовая свора
Со всех рванулась сил!
Завыли жадные! Последний пес дворовый
Оскалил острый зуб
И с визгом кинулся на пир ему готовый,
На неподвижный труп!
Борзые, гончие, лягавые, бульдоги:
«Пойдем!» – и все пошли:
«Нет вепря короля! Возвеселитесь, боги!
Собаки короли!
Пойдем! Свободны мы! Нас не удержат сетью,
Веревкой не скрутят!
Суровый сторож нас не приударит плетью,
Не крикнет: «Пес, назад!»
За те щелчки, толчки хоть мертвому отплатим!
Коль не в кровавый сок
Запустим морду мы, так падали ухватим
Хоть нищенский кусок!
Пойдем!» И начали из всей собачьей злости
Трудиться что есть сил;
Тот пес щетины клок, а тот кровавой кости
Обгрызок ухватил,
И рад бежать домой, вертя хвостом мохнатым,
Чадолюбивый пес,
Ревнивой суке в дар и в корм своим щенятам
Хоть что-нибудь принес.
И бросив из своей окровавленной пасти
Добычу, говорит:
«Вот, ешьте! Эта кость – урывок царской власти!
Пируйте! Вепрь убит».
Бенедиктов
18 [сентября]
Вчера праздновали именины милейшей бабушки Любовь Григорьевны Явленской. Сегодня празднуем день рождения ее милейшего внучка А. А. Сапожникова. А пока еще не грозит завтрак, то я по-вчерашнему воспользуюся безмятежным утром и перепишу еще одно стихотворение из заветной портфели нашего обязательнейшего капитана.
РУССКОМУ НАРОДУ
1854 ГОДА
– Меня поставил Бог над русскою землею, —
Сказал нам русский царь.
– Во имя Божие склонитесь предо мною,
Мой трон – Его алтарь!
Для русских не нужны заботы гражданина,
Я думаю за вас!
Усните. Сторожит глаз царский властелина
Россию всякий час.
Мой ум вас сторожит от чуждых нападений,
От внутреннего зла,
Пусть ваша жизнь течет вдали забот в смиреньи,
Спокойна и светла!
Советы не нужны помазаннику Бога,
Мне Бог дает совет.
Гордитесь, русские, быть царскими рабами.
Закон ваш – мысль моя!
Отечество вам – флаг над гордыми дворцами,
Россия – это я.
Мы долго верили, в грязи восточной лени
И мелкой суеты
Покорно цаловал ряд русских поколений
Прах царственной пяты.
Бездействие ума над нами тяготело.
За грудами бумаг,
За перепискою мы забывали дело
В присутственных местах.
В защиту воровства, в защиту нераденья
Мы ставили закон;
Под буквою скрывались преступленья,
Но пункт был соблюден;
Своим директорам, министрам мы служили,
Россию позабыв,
Пред ними ползали, чинов у них просили,
Крестов наперерыв.
И стало воровство нам делом обыденным,
Кто мог схватить, тот брал,
И тот меж нами был всех более почтенный,
Кто более украл.
Развод определял познанье генерала —
Глуп он или умен,
Церемониальный марш и выправка решала,
Чего достоин он.
Бригадный командир был лучший губернатор,
Отличный инженер, правдивейший сенатор,
Честнейший человек;
Начальник, низшие права не признавая,
Был деспот, полубог;
Бессмысленный сатрап был царский бич для края.
Губил, вредил, где мог;
Стал конюх цензором, шут царский – адмиралом,
Клейнмихель графом стал!
Россия отдана в аренду обиралам…
Что ж русский? Русский спал…
Кряхтя, нес мужичок, как прежде, господину
Прадедовский оброк,
Кряхтя, помещик нес вторую половину
Имения в залог,
Кряхтя, по-прежнему дань русские платили
Подьячим и властям;
Качали головой, шептались, говорили,
Что это стыд и срам,
Что правды нет в суде, что тратят миллионы, —
России кровь и пот, —
На путешествия, киоски, павильоны,
Что плохо все идет.
Потом за ералаш садились по полтине,
Косясь по сторонам;
Рашели хлопали, бранили Фреццолини,
Лорнировали дам
И низко кланялись продажному вельможе
Отечества сыны!
Иль удалялись в глушь прадедовских имений
В бездействии жиреть,
Мечтать о пироге, беседовать о сене,
Животным умереть,
А если кто-нибудь, средь общей летаргии
Мечтою увлечен,
Их призывал на брань за правду и Россию, —
Как был бедняк смешон!
Как ловко над его безумьем издевался
Чиновный фарисей,
Как быстро от него, бледнея, отрекался
Вчерашний круг друзей!
И под анафемой общественного мненья,
Средь смрада рудников,
Он узнавал, что грех прервать оцепененья
Тяжелый сон рабов.
И он был позабыт; порой лишь о безумце
Шептали здесь и там:
«Быть может, он и прав…да жалко вольнодумца,
Но что за дело нам?»
Спасибо Ивану Никифоровичу Явленскому за то, что он отказался от завтрака и помог мне кончить превосходное прелюдие к превосходнейшему стихотворению, которое я, если Бог поможет, перепишу завтра.
19 [сентября]
Не хвалися идучи на рать,
А хвалися идучи с рати.
Вчера вечером путешественники и путешественницы сыграли по последней пульке преферанса в кают-компании «К[нязя] Пожарского», рассчиталися и расплатилися до денежки за все пульки, сыгранные в продолжение рейса, т. е. от 22 августа. Покончивши эту статью, сели за ужин, приготовленный из последней провизии. Поужинали, разумеется, в последний раз в кают-компании. Выпили последний херес, мадеру и, кажется, шампанское, составили проект завтрашнего обеда в Нижнем Новеграде и разошлися спать. Хорошо. С рассветом «К[нязь] Пожарский» поднял якорь, свистнул, фыркнул и весело захлопал своими огромными колесами. Хорошо. Берега быстро меняют свои контуры. Пролетаем мы мимо красивого по местоположению села Зименки помещика Дадьянова и замечательного по следующему происшествию. Прошедшего лета, когда поспело жито и пшеница, мужичков выгнали жать, а они, чтобы покончить барщину за один раз, зажгли его со всех концов при благополучном ветре. Жаль, что яровое не поспело, а то и его бы за один раз покончили бы. Отрадное происшествие. Так вот, летим мы во весь дух мимо этого замечательного села. Как вдруг левое колесо перестало вертеться и из «К[нязя] Пожарского»-дельфина сделалась черепаха. «Что случилось?» – раздался общий голос. «Шатун лопнул!» – раздался в ответ одинокий голос машиниста. Я смекнул, что прежде вечера мы не будем в Нижнем Новграде, т. е. прежде вечера не будем обедать; смекнувши делом, я пошел в капитанскую светелку, выпил добрую чару лимоновки, закусил остатком новопетровской ветчины, взял какую-то газету, лег да и заснул себе с Богом. Просыпаюсь, а наш «К[нязь] Пожарский» стоит себе, тоже с Богом, на Телячьем броде. Собачий брод кое-как переполз, а Телячий невмоготу стало. Что делать? Паузиться, т. е. перегружаться. Пауза эта длится до сих пор, т. е. до первого часу ночи. А путешественницы и путешественники пробавляются натощак в ералаш в ожидании нижегородского обеда.
20 [сентября]
Пауза продолжалась за полночь. С рассветом «К[нязь] Пожарский» поднял якорь и, как подстреленный орел, захлопал одним колесом своим. Взошло солнце и осветило очаровательные окрестности Нижнего Новаграда. Я хотел было хоть что-нибудь начертить, но увы, дрожание палубы при одном колесе еще ощутительнее, а серые сырые тучки не замедлили закрыть животворяще[е] светило и задернуть прозрачным серым туманом живую декорацию. Декорация от тумана сделалася еще очаровательнее, но рисовать ее решительно невозможно: тучки небесные, вечные странницы, пустили из себя такую мерзость, что я укрылся в капитанскую светелку и принялся за свои чувалы (торбы).
В одиннадцать часов утра «К[нязь] Пожарский» положил якорь против Нижнего Новогорода. Тучки разошлися, и солнышко приветливо осветило город и его прекрасные окрестности. Я вышел на берег и без помощи извозчика, мимо красавицы 17 столетия, цер[к]ви с[в]. Георгия, поднялся на гору. Зашел в гимназию к Боб[р]жицкому, бывшему студенту Киевского университета; не нашел его дома, я пошел в Кремль. Новый собор – отвратительное здание. Это огромная квадратная ступа с пятью короткими толкачами. Неужели это дело рук Константина Тона? Невероятно. Скорее это произведение самого неудобозабываемого Тормоза. Далее. Приношение благодарного потомства гражданину Минину и кн. Пожарскому. Копеечное, позорящее неблагодарное потомство приношение! Утешительно, что этот грошовый обелиск уже переломился.
Из Кремля зашел я опять к Бобржицкому и опять не застал его дома. Из гимназии пошел я искать в Покровской улице дом Сверчкова, квартиру А. А. Сапожникова. Нашел. И только что успел поздравить с временным новосельем хозяйку, хозяина и вообще сопутниц и сопутников, как является Николай Александрович Брылкин (главный управляющий компании пароходства «Меркурий») и по секрету от других объявляет, сначала хозяину, а потом мне, что он имеет особенное предписание полицеймейст[е]ра дать знать ему о моем прибытии в город. Я хотя и тертый калач, но такая неожиданность меня сконфузила. Позавтракавши кое-как, я отправился на пароход, поблагодарил моего доброго друга капитана за его обязательности, взял свой пачпорт и передал его вместе с вещами Н. А. Брылкину. Успокоившись немного, я в третий раз пошел к Бобржицкому и на сей раз нашел его дома с широко распростертыми объятиями. В 8 часов вечера я отправился к Н. А. Брылкину, провел у него часа два времени в дружеской беседе, взял у него для прочтения «Голос[а] из России», лондонское издание, и отправился к Павлу Абрамовичу Овсянникову на мою временную квартиру.
21 [сентября]
Добрые мои новые друзья, Н. А. Брылкин и П. А. Овсянников, посоветовали мне прикинуться больным, во избежание путешествия, пожалуй, по этапам, в Оренбург, за получением указа об отставке. Я рассудил, что не грех подлость отвратить лицемерием, и притворился больным. До первого часу лежал, читал «Голоса из России» и дожидал медика и полицеймейстера. А в первом часу махнул рукою и отправился к Сапожниковым. После обеда проводил моих добрых, милых спутников и спутниц до почтовой конторы и простился с ними. Они в почтовых каретах отправились в Москву. Когда увижу[сь] я с вами, прекраснейшие люди? Просил Комаровского и Явленского цаловать в Москве моего старого друга М. С. Щепкина, а Сапожникова просил в Петербурге целовать мою святую заступницу графиню Н. И. Толстую. Вот тебе и Москва! Вот тебе и Петербург! И театр, и Академия, и Эрмитаж, и сладкие дружеские объятия земляков, друзей моих Лазаревского и Гулака-Артемовского! Проклятие вам, корпусные и прочие командиры, мои мучители безнаказанные! Гнусно! Бесчеловечно! Отвратительно гнусно!
В 7 часов вечера зашел я к Н. А. Брылкину, встретил у него Овсянникова и Кишкина и дружеской откровенной беседой заглушил вопли так внезапно, так гнусно, подло уязвленного сердца. Если бы не эти добрые люди, мне бы пришлось теперь сидеть за решеткой и дожидать указа об отставке или просто броситься в объятия красавицы Волги. Последнее, кажется, было бы легче.
22 [сентября]
Сегодня, как и вчера, погода дрянь, слякоть и мерзость. На улицу выйти нет возможности. Из-за стены Кремля показывает собор свои безобразные толкачи с реповидными верхушками, и ничего больше не видно из моей квартиры. Скучно. Медика и полицеймейст[е]ра по-вчерашнему дожидал и, не дождавшися, пошел к Н. А. Брылкину обедать. После обеда, как и до обеда, лежал и читал «Богдана Хмельницкого» Костомарова. Прекрасная книга, вполне изображающая этого гениального бунтовщика. Поучительная, назидательная книга! Историческая литература сильно двинулась вперед в продолжение последнего десятилетия. Она осветила подробности, закопченные дымом фимиама, усердно кадимого перед порфирородными идолами.
23 [сентября]
Погода постоянно скверная. Я постоянно лежу и читаю Зиновия Богдана. Прекрасная, современная книга! От нечего делать нарисовал сегодня портрет В. В. Кишкина удовлетворительно. Обедал по обыкновению у Н. А. Брылкина, и по обыкновению после обеда читал и спал.
24 [сентября]
Н. А. Брылкин ездил в Балахну с мистером Стремом, американским инженером, посмотреть на строящийся там пароход и баржи для компании «Меркурий». От нечего делать и я напросился им сопутствовать. Щегольской, новенький пароход «Лоцман» в полдень поднял якорь и понес нас вверх по Волге. С разными остановками в 5-ть часов вечера мы, наконец, остановились у Балахны. Едва успел вскарабкаться на кучу бревен и взглянуть на эту родительницу бесчисленных живописных расшив, как инспектация кончилась, и я пошел к «Лоцману».
Из рассказов я узнал, что Балахна одна из главных верфей на берегах Волги, то же, что на Оке Дедново, где строился голландскими мастерами первый русский корабль «Орел». В десятом часу возвратилися в Нижний, пообедали или поужинали и разошлися спать.
25 [сентября]
Утро было хотя и неясное, по крайней мере без ветру и дождя. Воспользовавшись сиею бесцветною погодой, я с крылечка моей квартиры начертил верхушку церкви с[в]. Георгия. Хоть что-нибудь да делал.
26 [сентября]
Опять дождь, опять слякоть. Настоящее безвыходное положение. Старинны[е] нижегородские цер[к]ви меня просто очаровали. Они так милы, так гармонически пестры, и отвратительная погода не дает мне рисовать их. Я, однако ж, сегодня перехитрил упрямую погоду. Рано поутру пошел в трактир, спросил себе чаю и нарисовал из окна Благовещенский собор. Древнейшая в Нижнем церковь. Нужно будет узнать время ее построения. Но от кого? К пьяным косматым жрецам не хочется мне обращаться, а больше не к кому. Нижний Новгород во многих отношениях интересный город и не имеет печатного указателя. Дико! По-татарски дико!
27 [сентября]
Проходя мимо церкви святого Георгия и видя, что двери церкви растворены, я вошел в притвор и в ужасе остановился. Меня поразило какое-то безобразное чудовище, нарисованное на трехаршинной круглой доске. Сначала я подумал, что это индийский Ману или Вешну заблудил в христианское капище полакомиться ладаном и деревянным маслицем. Я хотел войти в самую церковь, как двери растворилися и вышла пышно, франтовски разодетая барыня, уже не совсем свежая, и, обратя[ся] к нарисованному чудовищу, три раза набожно и ко[ке]тливо перекрестилась и вышла. Лицемерка! Идолопоклонница! И наверное блядь. И она ли одна? Миллионы подобных ей бессмысленных, извращенных идолопоклонниц. Где же христианки? Где христиане? Где бесплотная идея добра и чистоты? Скорее в кабаке, нежели в этих обезображенных животных капищах. У меня не хватило духу перекреститься и войти в церковь; из притвора я вышел на улицу, и глазам моим представилась по темному фону широкого луга блестящая, грациозно извивающаяся красавица Волга. Я вздохнул свободно, невольно перекрестился и пошел домой.
28 [сентября]
Нарисовал портрет мамзель Анхен Шауббе. Гувернантка Брылкиных, очень милая молодая немочка, резвая, наивная, настоящий мальчик в юбке.
Прочитал комедию Островского «Доходное место». Не понравилось. Много лишнего, ничего не говорящего. И вообще аляповато, особенно женщины не натуральны. В скором времени ее будут давать на здешней сцене. Нужно будет посмотреть.
Перед вечером требовала меня зачем-то полиция, но я не пошел.
29 [сентября]
Солнце сегодня взошло светло, весело. Я пошел в Кремль и начал рисовать соборную колокольню, но руки так озябли, окоченели, что я едва мог сделать общий абрис. Пользуясь улыбкою осеннего дня, я после завтрака отправился к Печерскому монастырю с намерением нарисовать эту живописную обитель. Выбрал точку. Прилег отдохнуть. И, лелеемый теплыми лучами солнца, задремал, и так плотно задремал, что проснулся уже перед закатом солнца. Возвращаясь на квартиру мимо Георгиевского публичного сада, я зашел в сад, встретил много гуляющей публики обоих полов и всех возрастов. Между женщинами, как на подбор, ни одной не только красавицы или хорошенькой, даже сносной не встретил. Уроды и, как кажется, большей частию старые девы. Бедные старые девы!
30 [сентября]
В ожидании незваного гостя, г. полицеймейстера, я предложил сеанс моему доброму хозяину Павлу Абрамовичу Овсянникову. Портрет был окончен к двум часам довольно удачно, а г. Лапа (так прозывается) к нам не жаловал. Погода прекрасная. Я вышел на бульвар. Между прочей публикой встретил я на бульваре детей – три девочки и мальчик. Прехорошенькие и резвые дети. Костюм их показался и странным и жалким. На девочках были какие-то коротенькие легенькие дырявые мантильки, дворянско-немецкого покроя. Ручонки нагие, и почти босиком. На мальчике поярковая серая шляпа с пером, мантилька такая же, как и на девочках, а башмаки еще хуже. Вообще показались мне они похожими на труппу младенцев-комедиантов. Я дошел с ними до кондитерской, купил им сладких пирожков на полтину и познакомился. Зовут их: Катя (самая бойкая), Надя и Дуня, а мальчика Саней; дети они некоего Арбеньева, театрального музыканта. Значит, я немногим ошибся. На расставаньи они просили меня к себе в гости, и я, разумеется, обещал прийти.
Расставшись с детьми, вспомнил я Алексея Панфилыча Панова, крепостного Паганини на «Князе Пожарском». Он зимует в Нижнем и квартирует где-то против архиерейского дома. С Георгиевской набережной пошел я к архиерейскому дому с целию найти квартиру и навестить моего возлюбленного виртуоза. Квартиры виртуоза я, однако ж, не нашел, а мимоходом зашел в архиерейский сад. Это преимущественно липовая роща, обнесенная деревянным забором, посередине которой красуется, вроде казармы, огромное трехэтажное здание (архиерейская келья). Невдалеке от здания между деревьями беседка с колоколами, и в другой стороне, также между деревьями, четыре улья обделаны наподобие надгробных памятников. Везде пусто и уныло, физическая гниль и нравственный застой на всем отражается. Скверно. Придя на квартиру, я на сон грядущий прочитал «Рассказ маркера» граф[а] Толстого. Поддельная простота этого рассказа слишком очевидна.
1 октября
Грязь, туман, слякоть и прочая атмосферическая гадость, вследствие чего я предложил сеанс г. Грасу, зятю Н. А. Брылкина. Сеанс на половине был прерван приходом г. Лапы и г. Гартвиг[а]. Первый – бравый и любезный гвардейский полковник и полицеймейстер. Второй – не бравый, но не менее любезный полицейский медик. Оба поляки или литвины, и оба не говорят по-польски. Гартвиг, спасибо ему, без малейшей формальности нашел меня больным какой-то продолжительной болезнью, а обязательный г. Лапа засвидетельствовал действительность этой мнимой болезни, и после взаимных нецеремоний мы расстались. Вследствие этого обязательного визита я представляю себе мое возвращение в Оренбург сомнительным.
С сегоднишнего дня начинаются здесь спектакли, и после обеда Н. А. Брылкин пригласил меня в свою ложу. Давали народную сантиментально-патриотическую драму Потехина «Суд людской – не Божий». Драма – дрянь с подробностями. Г. Мочалова, независимо от своей бедной натянутой роли, мне понравилась. У ней есть движения настоящей артистки. Г. Климовский, как и роль его, приторен. Водевиль – «Коломенский нахлебник». Водевиль балаганный и исполнен был соответственно своему назначению. Маленький оркестр в антрактах играл несколько номеров из «Дон Жуана» Моцарта прекрасно, может быть, потому, что это очаровательное создание трудно сыграть не прекрасно. Зала театра небольшая, но отделана просто и со вкусом. Публика, в особенности женская, замечательно неблестящая и немногочисленна.
2 [октября]
Утро ясное, тихое, с морозом. Нужно было вчера начатый порт[рет] г. Граса сегодня кончать, я и принялся за работу с тем, чтобы скорее кончить и идти к Печерскому монастырю с целию нарисовать его. Но, увы, монастырь этот мне не дается. Кончивши портрет, я нечаянно, но нелицемерно позавтракал, прилег на минутку вздохнуть и проспал ровно до двух часов. Непростительное свинство! Едва успел я проснуться, как вошел Н. А. Брылкин и предложил мне идти с ним на бульвар погулять перед обедом. На бульваре встретили мы некоего господина Якоби. Н[иколай] А[лександрович] отрекомендовал меня сему господину Якоби. Он просил нас к себе обедать, и мы не отказались. Г. Якоби – один из нижегородских аристократов, весьма любезный и довольно едкий либерал и вдобавок любитель живописи. Он показал мне свой альбом, ничем особенно не замечательный, и картину, плохо освещенную, картину с большими достоинствами, изображающую молящегося какого-то молодого святого; выражение лица прекрасно. По уверению хозяина, эта драгоценность принадлежит кисти Гверчино, а по-моему, она больше похожа на хорошую копию с Доменикино Цампиери. Но я хозяину не сказал моего мнения, по опыту зная, как трудно противуречить знатокам живописи. На расставаньи он взял с нас слово быть завтра вечером в клубе при выборе старшин, где обещал меня познакомить с своими товарищами и угостить музыкой. Я не прочь и от музыки, и от знакомства, в особенности от знакомства. Мне необходима денежная работа, а иначе я должен буду обратиться опять за святыми финансами к моему искреннему М. Лазаревскому. Попробую, не удастся ли устранить эту необходимость.
3 [октября]
Русские люди, в том числе и нижегородцы, многим одолжились от европейцев и, между прочим, словом клуб. Но это слово совершенно не к лицу русскому человеку. Им бы лучше было одолжиться подобным словом, а оно, верно, существует в китайском языке, одолжиться бы у китайцев и японцев, если они отринули свое родное слово посиделки, удивительно верно изображающее русские дворянские сборища. У европейцев клуб имеет важное политическое значение, а у русских дворян это даже и не мирская сходка, а просто посиделки. Они собираются посидеть за ломберными столами, помолчать, поесть, выпить, и если случай поблагоприятствует, то и по сусалам друг друга смазать.
После выбора старшин любезнейший г. Якоби представил меня своим товарищам, в том числе генералу Веймарну и г. Кудлаю (полицейместер № 2). Генерал Веймарн замечателен тем, что он не похож на русского генерала, а похож вообще на прекрасного простого человека, а г. Кудлай, кроме того, что не похож на полицеймейст[е]ра, как и товарищ его Лапа, замечателен тем, что он друг и дальний родственник моего незабвенного друга и товарища покойного Петра Степановича Петровского. Многое и многое разбудил он в моем сердце своим живым воспоминанием о прекрасных минувших днях. Мы с ним до того увлеклись минувшим, что не заметили, как настоящие посиделки кончились. В заключение усоветовали мы писать к брату покойного моего друга, к Павлу Степановичу Петровскому, чтобы он, отложа всякое попечение, навестил бы нас в Нижнем Новеграде. И, если можно, захватил бы с собою и моего искреннего Михайла Лазаревского.
4 [октября]
Додвенацети чесов вел Себя хорошо Некончивше потрет адилаиди Алексеевне брилкиной попросил я униколая Александровича брылкина екапажа снамереньям зделать очайныя везита, пришлого дома выридился спомощию павла обрамовича овсяникова как первой статейной франт начил свою визидацыю Г. веймора Г. веймар наперьвой раз показалса мне вдомашнем виду человеком окуратном нонечопорном. вели мы речей о том что унас пути соопщенели вроссии болие нежели гнусны например 1843 году в Чернигови набазари продавали муку 20 ко серб пуд. А вместечко гомели туже самую му продавали 1 срб. пуд поговоривши апутей сообщеньи, мы, слегка коснулиса, и воено сословья – одним словом совсем отвратительне что конечно неподлежит немалейшем сомненью заключившим нашева обоюднаго любезничиство таким мнением овоеном сословии я простился Г. Генералом и поехал гдотору градвингу.
5 [октября]
Михайло – хороший слуга, но в секретари не годится, малограмотен. Я хотел по примеру Юлия Цезаря и работать, т. е. рисовать, и диктовать, но мне ни то, ни другое не удалось. За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь. Пословица очень справедлива. Не знаю, умел Юлий Цезарь рисовать? А диктовать, говорят, он мог разом письма о пяти совершенно разных предметах, чему я почти не верю. Но не о том речь, а речь о том, что у меня и сегодня еще колеблется де[с]ница от позавчерашня глумления пьянственного, и я вчера только вид показывал, что я будто бы рисую, а где там, и фон не мог конопатить. Так только, абы-то.
Остановились мы на том, как я приехал к доктору Гартвигу.
6 [октября]
Вчера только я успел обмокнуть перо в чернило, [чтобы] описать визит мой доктору Гартвигу и перейти к нецеремонному визиту г. Кудлаю, как дверь с шумом растворилася и вошел в комнату сам Кудлай. Разумеется, я положил омоченное в чернило перо, встретил дорого[го] светского гостя в подштанниках и после лобызаний вдарились сначала в обыкновенный пустой разговор, а потом перешли к воспоминаниям о Питере, о покойном Петровском и о великом Брюллове. Воспоминания наши были прерваны приходом слуги от Н.А. Брылкина с предложением обеда. Я проводил моего гостя, оделся и отправился к Н[иколаю] А[лександровичу] обедать. После обеда резвушка мамзель Анхен Шауббе [предложила] сопутствовать ей в театр. Я с удовольствием принял ее предложение и во второй раз слушал музыку Моцарта из «Дон Жуана» и в первый раз видел драму Коцебу «Сын любви», о существовании которой я знал по слуху. Драма моей резвой сопутнице очень понравилась, как произведение Коцебу, а мне, к ужасу моей дамы, тоже понравилась, только не совсем. За что я и получил из улыбающихся уст восторженно[й] немки название грубого варвара, неспособного сочувствовать ничему прекрасному и моральному. Роль Амалии, дочери барона, исполняла артистка московского т[еат]ра госпожа Васильева, натурально и благородно, а прочие, кроме г. Платонова (роль барона), лубочно. За драмою последовала «Путаница»; по-здешнему хорошо, а по-моему – тоже лубочно. Спектакль кончился в первом часу, к удовольствию публики вообще и моей спутницы в особенности.
7 [октября]
Мороз закалил, наконец, непроходимую грязь, это хорошо. Нехорошо только то, что если он установится, то лишит меня возможности нарисовать здешние старинные церкви, которые мне так понравились. Вследствие уже не слякоти, а преждевременного гостя мороза, я сидел дома. Написал Михайлу Лазаревскому о притче, случившейся со мною в Нижнем Новегороде, и просил прислать мне сколько-нибудь денег, потому что я на публику здешнюю плохо надеюся.