Текст книги "Последний бой Пересвета"
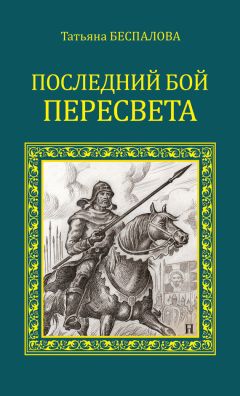
Автор книги: Татьяна Беспалова
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
* * *
Ночь провели в молчании, двигаясь по притихшему лесу, с неизъяснимой тревогой за плечами и отвратительным смрадом в ноздрях. Время от времени всадники спешивались, чтобы движением прогнать из тела холод и дать отдых коням. Тишина зимнего леса нарушалась лишь скрипом санных полозьев и ропотом редких разговоров. Ослябя невольно слышал тихие голоса товарищей и всё вспоминал мечущуюся под копытами Севера согбенную фигуру в длиннополом тулупе.
– Видал я таковых нелюдей, – шептал старый любутский дружинник Онисим Выселок, знаменитый тем, что не менее десяти лет прожил в рабстве, в Сарае[18]18
Сарай – город, в XIV веке столица Золотой Орды.
[Закрыть] и сумел бежать. – Таких нелюдей беки держат в зверинцах. Мортыхами их называют. Привозят их иудейские купцы из-за синя моря. Сильно мортыхи эти на людей похожи, но всё ж не люди. Ни по-русски, ни по-татарски не разумеют…
– Сам ты мортыха! Оборотень это! – с досадой отвечал ему Васька. – Эх, жалость! Но кто ж знал, что в Московии оборотни обитают! Эй, Дубыня! Одолжи, брат топоришко! Осиновую палку остругаю, поймаю ирода за хвост, воткну сатанинскому отродью между ребер!
– Против оборотней чеснок очень помогает, – бубнил Лаврентий. – Ты, Вася, чесноком обвесься. Свяжи луковы ожерельем и поверх кольчуги нацепи. Да не забудь сожрать несколько зубцов. Да когда жрать станешь, не глотай целиком, а жуй. Жуй так, чтобы из глаз соленая водица пролилась. Да брагой не забудь запить. Вот будет потеха, когда на оборотня русским духом попрёт.
* * *
На берег речки Неглинной вышли перед рассветом. Принялись разбивать лагерь на Кудринском холме, полагая, что находятся в виду стен сосковского кремля. Ольгерд не запретил возжечь костры и воинство наконец-то отведало горячей пищи.
Ослябе не спалось. Странное предчувствие томило его. Оставив Севера на попечении Упиря, он отправился бродить по-над берегом. Сначала шёл по верхушке пологого холма. Злые зимние ветры упрямо сдували с этого места снеговое покрывало, обнажая стылые камни. Поземка забиралась под полы Ослябева тяжелого плаща, остужая уставшее тело. Едва спустившись в ложбину, любутский воевода почувствовал, что промёрз до костей, да к тому же глубокие снега пресекли его путь. Хорошо, что под одинокой сосной обнаружился шалаш – убежище посадских пастухов, а в шалаше – небольшой запас хвороста. Так – наедине с крошечным костерком, под ветхим покровом старых веток – провел Андрей Ослябя первую ночь под стенами Москвы.
С наступлением дня любутскому воеводе открылась она – владычица дум. На противоположном берегу реки чернели обугленные остовы. Сожженный посад уже не курился дымами. На чёрном снегу, между обугленных головешек, Ослябя, сколько ни присматривался, не заметил ни единого движения.
Над пожарищем, припорошенным свежим снежком, упирались в сумрачные низкие небеса белокаменные стены. Широкие тулова крытых тёсом башен, грозный оскал зубчатых стен, гордое сверкание храмовых куполов, осенённых большими крестами – всё суровое великолепие нового града Московского благовестило миру о неколебимой, надёжной уверенности в собственных силах и величии.
– Наконец-то… – пробормотал Ослябя, поднимаясь в полный рост. – Наконец-то я добрался до тебя! Вот какова ты нынче, Москва!
Уединение его оказалось коротким. Вскоре на высоком краю оврага возникла вороно-пегая скоморошья фигура Ручейка.
– Батя! – возопил Упирь. – Тебя призывают в княжеский шатер! Игнашка прибегал, настрого велел разыскать! Слышишь ли меня, батя?
* * *
Пробираясь к великокняжескому шатру между палаток и наскоро сооруженных коновязей, Ослябя приметил несуразную возню вокруг высокого помоста, который в страшной суете и спешке ладили людишки Локиса-Миньки.
– Куда спешишь, пыточных дел мастер? – услышал он вослед себе насмешливые голоса. – Не торопись, Ослябя! Скоро для и тебя мастерскую наладим! На твоих же людишках и инструмент испробуем!
Ослябя откинул полог великокняжеского шатра.
– Теперь я знаю, зачем унижался Михайла Александрович! – Ольгерд едва шептал, но речь его хорошо была слышна каждому. В шатре царила угрюмая тишина, нарушаемая лишь скрипом кольчужных колец и сиплым хихиканьем Марзука-мурзы.
– Не стеснялся унизиться, рыдал, сестриным подолом утираясь… – голос князя Литовского пресёкся. Услужливый Игнаций Верхогляд подал правителю кубок с горячим вином.
– Видом не видывал, слыхом не слыхивал я, чтобы осажденные, прежде чем затвориться в городе, сами сжигали дотла свои посады! Что скажете, первородные сыновья мои?
– Это от отчаяния… – молвил неуверенно Андрей Полоцкий. – Мощи твоей убоялись, отец.
– Богато живут, – сказал свое слово Дмитрий Ольгердович. – Есть, видно, в закромах и зерно, и лишняя копейка. Уверены, что, прогнав нас, посад заново быстро отстроят.
– А ты, боярин Андрей, почему отмалчиваешься? – колючий взгляд Ольгерда уперся в Ослябю.
– Они готовы на всё и будут стоять до конца. А посады отстроить заново – невелик труд, если такие-то стены и храмы сумели возвести, – ответил любутский воевода.
– В ужасе я, Ваше Величие, – пролепетал Локис-Минька. – Из чего станем осадные башни и лестницы сооружать? Я уж отправил команду дерева валить, но посадские домишки для нужд осады разобрать было бы куда как проще. Эх, обманул нас Митька!
– То не Митька, – Ольгерд протянул Игнацию опустевший кубок. – То владыки Алексия ум изощренный. Это митрополит к земному прибытку равнодушен и имущество, трудами нелегкими нажитое, бренной пылью дорожной почитает. И ведь прав! Прав!
Острое лицо великого князя Литовского и Русского исказила гримаса мучительной досады. Ольгерд вскочил, отшвырнул в сторону только что наполненный Верхоглядом кубок. Украшенный изящной чеканкой сосуд пересек пространство шатра, ударился об кол, подпиравший узорчатый купол. Пахучее варево расплескалось по коврам, распространяя живительные ароматы весенних трав.
В великокняжеском шатре повисла тишина. Затихли и лагерные шумы. Казалось, будто войско прекратило исполнять привычную работу – подготовку к осаде. Умолк и великокняжеский совет, придавленный бременем тяжких сомнений.
Первым поднялся с места Андрей Полоцкий.
– Надо готовиться к осаде, отец, – сказал первородный сын Ольгерда, покрывая голову высокой медвежьей шапкой. – Не напрасно же мы две седмицы по лесам да по оврагам снег месили. Не дадим московитам надсмеяться над доблестным войском!
И князь Андрей покинул шатер. За ним последовал Дмитрий Ольгердович, огнищанин Локис-Минька, Фёдор Балий, прочие бояре.
Ослябя также шагнул было на выход, но сбился с шага, замер, словно натолкнулся на невидимую преграду.
– Попомни мой приказ, Андрей Васильевич, – услышал он голос Ольгерда. – Я не забыл об осквернении православного храма. Дубыня получит полсотни палок до начала осады. Мне угодно умилостивить православного Бога. Кто станет палачом – тебе решать.
– Я сам. Сам!
Ослябя обернулся, отдал поклон и вышел вон из шатра, так и не глянув в лицо литовского властителя.
* * *
Помост был готов ещё до заката. Локис-Минька обставил расправу со всей возможной торжественностью. Согнал толпу народа, расставил барабанщиков. Любутская дружина в полном вооружении выстроилась у края помоста. Ожидали безропотно, смирив негодование. Ослябя и Дубыня друг за другом взошли на помост. Ослябя с длинной жердиной в руках, без шубы, без плаща, в одном кафтане и с обнаженной головой. В свете лагерных костров ранняя седина в его волосах блеснула ярким серебром. Ваське Упирю вдруг подумалось, что редко, ой как редко случается ему видеть отца вот так, почти нагим, без шлема, без кольчуги. Дубыня сжимал в огромных ладонях простой деревянный крест. Загрохотали барабаны.
– Не снимай рубахи, озябнешь, – сказал Ослябя.
– Не боюсь озябнуть, – отвечал Егор Дубыня. – Не боюсь боли. Стыдно, Андрей Васильевич. До дрожи стыдно. Не поджигал я храма…
– Кто поджег, тому от наказания не уйти.
Дубыня опустился на колени. Подбежали Минькины отроки, изъяли из Егоркиных лапищ крест, привязали его запястья веревками к шестам, сунули в зубы берёзовую чурочку.
– Через рубаху не полагается наказывать, – бормотал Ольгердов огнищанин, бегая вокруг помоста. – Почему такое послабление твоему человеку, а, Ослябя? Надо было моего Купрюса допустить… Почему такое послабление?
– Не дрожи, Дубыня, – сказал тихо Ослябя. – Не от моих рук ты смерть примешь, молись, переживем…
И он занес палку для первого удара. Дубыня прикрыл глаза.
– Отдай орудие, Ослябя, – не унимался Локис-Минька. – Пускай мой Купрюс поработает.
Первый удар пришелся Локису-Миньке поперек лба. Огнищанин кулем завалился на спину. Лицо его и бороду заливала кровь. Он зажимал ладонями рану, сучил ножищами, обутыми в хорошие козловые сапоги, но молчал, молчал.
– Ну вот, теперь дело на лад пойдет, – пробормотал Ослябя, занося палку для второго удара. И добавил громогласно:
– Васятка, сынок, читай из Лествицы[19]19
«Лествица» – руководство по нравственному самоусовершенствованию преподобного Иоанна Лествичника, христианского философа и богослова, жившего на рубеже VI–VII вв.
[Закрыть], слово четвертое. Помнишь, я учил тебя? Да не ленись, громко читай!
* * *
Из лесу кони волокли брёвна. Возницы в кольчугах и шлемах понукали усталых одров древками копий. Ладили сразу три тарана. Особо развернуться не удавалось, не добыли достаточное количество строевого леса. Зато народу нагнали тучу. Разделились на три команды, по одной на каждые ворота. Уже соорудили рамы, уже подвесили к ним окованные железом брёвна. Теперь пытались сладить навесы. Работали весело. Вид московских стен, церковных куполов, богатое убранство теремов вселяли в сердца Ольгердовых ратников надежду на хорошую поживу. Со стороны Неглинной реки решили не подступаться. Там, в лесочке, в виду единственных ворот сидел в засаде полк Дмитрия Брянского. Там же, в Ослябевой палатке, возле сложенного на скорую руку очага, болел Егор Дубыня.
Локис-Минька, коварный наветчик, с перевязанным лбом, но весёлый, верхом на кудлатом буром коньке носился от одного тарана к другому, отдавая приказания. Ослябя и Упирь стояли стремя к стреми на берегу неглубокого рва, отделявшего сожжённый посад от крепостных стен.
– Смотри-ка, батя, а Минька-то тоже огородник знатный, не хуже московитов, – усмехнулся Упирь. – Сразу к трем воротам тараны ладит. А башни-то, башни! Я таких огромных не видывал! Как, говоришь, они называются?
– Фроловская, Никольская и Тимофеевская, – угрюмо отвечал Ослябя. Так их мертвый московит называл.
– Ишь ты! Здорово слажено! – тараторил своё Упирь.
Они смотрели, задрав голову, на высокие, в два человеческих роста, стены, на прикрытые деревянными шатрами широкогрудые стрельницы. Деревянные навесы тянулись и над зубцами стен. Оттуда, из-за зубцов в дружинников Локиса-Миньки летели редкие стрелы и насмешливая брань.
– Смотри-ка, бятя! Один таран совсем уж готов. Когда же штурм? Эх, поскорей бы. Или Ольгерд Гедиминович надеется московитов из крепости выманить? Вот если бы это удалось, тогда…
– Помер пацаненок-то… Помер нынче утром, – прервал его Ослябя.
– Это тот, которого ты вчера ввечеру поймал?
– …не дожил до рассвета. Освирепел великий князь, приказал парнишке уши срезать и пальцы. Мне-то понятно было, что не выживет пленник, да что толку, всё одно приказал на кол посадить…
Упирь отвернулся, посопел, поправил шелом, потрепал пеструю гривку Ручейка. Зачем-то снял с плеча лук, наложил на тетиву стрелу.
– Теперь уж понятно: не станут московиты из крепости выходить. Зачем им? Если Минька нынче ночью ворота не разрушит, Ольгерд, скорее всего, завтра отдаст приказ уходить от Москвы, – рассуждал Ослябя. – А ты держи, держи лук наготове!
– Это означает, батя, что мы без добычи останемся? Что напрасно топали за тридевять земель и в снегу тонули?..
– …Дубыня болен. Не сесть ему на коня, придется волокушу ладить и так везти. А пока давай-ка, парень, подберемся к стене поближе, послушаем, посмотрим.
– Камнями зашибут, батя.
В этот момент первый таран тронулся с места. Загромыхали по настилу неуклюжие колеса. На Фроловской башне народ оживился. Чаще засвистели стрелы. Перелетел через стену и грохнулся на настил моста огромный валун. Брызнули в разные стороны щепы.
– Давай торопись, – Ослябя направил Севера вниз, к руслу крепостного рва, где вода уже давно и крепко замёрзла.
Им удалось подойти к стене вплотную. Ни единой стрелы не выпустили по ним защитники. Ручеёк волновался, перекатывал во рту грызло, но стоял смирно.
Ослябя, запрокинув голову, смотрел из-под налобья шлема на ровную белую кладку.
– Батя, отъедем, а? Неровен час, на головы смолы нальют. Зачем искушать судьбу?
Ослябя спешился, подобрался вплотную к стене, скинул шелом, прижался щекой к камням. Он водил по кладке стены ладонью, приговаривая:
– Посмотри-ка, Васятка, какая кладка ровная! Девичья кожа и то не столь гладка. Да-а-а-а, постарались огородники[20]20
Огородниками в старину называли мастеров по постройке крепостей.
[Закрыть], на славу постарались…
– Что там, батя? Что слышно?
Ослябя умолк, прислушиваясь.
– Надень шелом. Со стены могут камень уронить, – не унимался Упирь.
Славно услышав его призыв, огромный валун взорвал снег прямо перед мордой Севера. Конь отпрянул назад, но сдюжил, не пустился наутёк.
– Шелом не поможет, и Минькины ухищрения тож. Там, за стенами, большое войско. Нас ждали, готовились к осаде. Всё попусту, попусту…
Ослябя и Васятка продолжили путь по крутому склону холма, вдоль кремлевской стены, завернули за угол. Так и пробирались между стеной и руслом Неглинной реки к мосту. Там, за мостом через Неглинную, за обугленным посадом тот самый лесок, где расположился лагерем полк Дмитрия Ольгердовича. С этой стороны городская стена казалась пустым-пустой. Тем не менее стоило им выскочить на мост, тотчас же вослед засвистели стрелы. Один из стрелков оказался метким. Уже на излете стрела угодила Упирю в шею, каленый наконечник застрял в кольцах бармицы.
– Давай, давай! – понукал Ослябя.
Показалось ли им, или в самом деле заскрежетали петли воротин у них за спинами? Погоня? Копыта коней гулко стучали по настилу моста. Более не слышно было ничего. Они уже вылетели на противоположный берег Неглинной. Кони ступили на утоптанный снег. Но грохот копыт по настилу не утихал. Более того – над их головами снова засвистели стрелы. Защитники крепости вышли за ворота. Чуя погоню, Север ударился в сумасшедший галоп. Ручеёк не отставал.
– Они устроили вылазку! – хрипел Упирь. – Они решились! Мы выманили их!
Через прорези забрала Ослябя видел, как из леска им навстречу выскочили всадники. Дмитрий Брянский не дремал.
– За мной! – рявкнул Осляба и направил Севера в сторону от места скорой схватки, вдоль берега Неглинной, назад к Фроловской башне.
* * *
Утыканный стрелами таран вяло горел. Оранжевое пламя стекало на снег, не успев как следует вгрызться в свежеструганные доски. Локис-Минька знал секрет колдовского зелья, которым не ленился тщательно обмазывать доски навеса. Воняло зелье отвратно. В войске толковали, будто изготовлено оно из яда гадюк, неустанно плодящихся в литовских болотах. На мосту кипела нешуточная заваруха. В воздухе стоял смрад нечистот, которыми защитника башни усердно поливали Минькино воинство. Таран глухо долбил в ворота, неизменно попадая окованным наконечником по мешкам с мякиной. Мешки эти защитники спускали на веревках с верхушки башни. Порой удачливому лучнику-литвину удавалось перебить веревку, и мешок валился под колеса тарана. Тогда московиты, отчаянно бранясь, спускали на веревке железные зубцы. Ох, и водились же у них ловкачи! Ловили таран зубцами, дергали кверху. Минькиным подданным никак не удавалось толком раскачать окованное железом бревно.
Ослябя и Упирь остановили коней. Надобно было отдышаться. Погоня московитов отстала, увязла в схватке с брянскими дружинниками.
– Лук не потерял? – спросил Ослябя, скидывая на снег латные рукавицы. – Давай-ка его мне… и стрелы две.
Ослябя прицелился, выпустил стрелу, потом вторую, выдохнул удовлетворённо.
На залитом кровью и нечистотами мосту перед Фроловской башней Московского кремля свершились странные дела. Вскрикнул не своим голосом огнищанин Ольгерда Гедиминовича Локис-Минька. Шальная стрела угодила ему прямёхонько в правый глаз. Вошла неглубоко, видимо, лучник стоял в отдалении, но меткий оказался злодей. И всё бы ничего, но следом за первой прилетела вторая стрела. Она пробила шею Минькиного лохматого скакуна. Конёк жалобно заржал, стал на дыбы, оступился да и грянул с моста в ров вместе со всадником.
– Возвращаемся к своим! – скомандовал Ослябя.
* * *
– Не нравится мне эта война, – шипел Ольгерд. – Разве я ордынский хан? Нет! Я знаю своих людей поимённо! Не сотнями, не тьмами считаю! У меня каждый человечек на счету! Тошно мне смотреть, как воинов моих поливают со стены нечистотами, как сыплют им в глаза песок, как убивают стрелами! Да-а-а-а, негостеприимно нас встретила Московская земля, и она заплатит за это, дорого заплатит!
В великокняжеском шатре было сумрачно и жарко. Члены совета хранили удручённое молчание, не притрагиваясь ни к еде, ни к питью. Напрасно ходили между боярами княжеские отроки, предлагая кушанья. Хорошо, если не гнали взашей литовские воеводы – так отнекивались и отмахивались. Верхогляд так и вовсе глаз не казал, притаился в тёмном углу. Это он, бедолага, принёс Ольгерду дурную весть. Локис-Минька – наиглавнейший мастер осады – убит! Да как убит! Дорезан, будто боров-подранок в собственном шатре коварным лазутчиком. Прошедшим днём мастер стенобитных дел был принесён от крепостной стены с тяжёлым ранением в голову, но живой. Потерял Локис-Минька глаз, эка невидаль! Переломал ноги Минькин конь, так тот конь слова доброго не стоил – невзрачная, ледащая скотинка. Великокняжеский лекарь лично пользовал огнищанина, божился, что на третий день сядет Минька на подаренного Ольгердом путёвого жеребца. Но Минька не дожил и до вечера. Через час после ухода лекаря Минькин прислужник, немой литвин обнаружил хозяина в луже крови. Зарубили Локиса с честью, мечом поперек груди полоснули, рассекли тело надвое, аж до самых позвонков.
Получив ужасное известие, Ольгерд Гедиминович не на шутку заскучал-затосковал. Марзука-мурзу с его заветным блюдом призвал, заставил немедля в блюдо смотреть, провидеть, кто по лагерю шатался и Локиса верного прирезал. Неужто свой? А если чужак-московит, то как смог в лагерь пробраться, мечом вооружённый, как прокрался мимо дозоров и как великокняжескую стражу ухитрился миновать? Но блюдо колдовское казало лишь чушь одну да ересь, пожары да заснеженные леса.
– Повелеваю осаду снять и выступать в поход! – и Ольгерд надсадно закашлялся. Никчемное стояние под Москвой состарило великого князя Литовского и Русского. Ольгерд Гедиминович смерзся, ссутулился. В подглазьях залегли синие тени, борода слиплась и пожухла, нос загнулся крючком к верхней губе. Сыновья с тревогой и недоверием посматривали на отца. Шутка ли – правителю литовскому давно перевалило на восьмой десяток! Уж более пятидесяти лет он не сходит с седла, ведя победоносные войны! Чем-то закончится для него этот несчастливый поход?
– Попусту пришли, попусту уйдем. Так, Ваше Величие? – встрял Марзук-мурза. – Войску обидно без прибытка домой возвращаться.
– Повелеваю оставлять за собой пустоземье! Никого не щадить. Если не в полон, так на плаху! Что не наша добыча, то пожива для огня! – возрычал Ольгерд. – Московиты зажиточны и плодовиты. Обрастут добром – мы их снова навестим!
* * *
Так уж повелось: в походе любутская дружина далеко опережала основное войско, а когда дело доходило до отступления, шла последней, наблюдая, предупреждая о нежданном преследовании.
Истоптанные, в пятнах кострищ склоны Занеглименья обезлюдели. Из надежного схорона Ослябя наблюдал торжество московитов. Видел он, как шумная толпа выплеснулась из-за стен. А народищу-то! А веселья-то! Зоркий глаз разведчика разглядел в толпе и молоденького князя со свитой, и благолепный митрополичий выезд.
Молебен отслужили в чистом поле, прямо у злополучного Фроловского моста. Благословясь, принялись чинить порушенные камнями переходы через ров, разбирать пожарища. Но до этого разгулялись на славу! Какой же праздник без доброй драки? Кулачные бои затеяли, будто мало им стало вражеского нашествия. Да и не ушел ещё противник, ещё топчут его кони Московскую землю, ещё грабят его дружины беззащитного пахаря. А московиты что же? Им бы вдогонку за Ольгердом выступить, а они на московском льду друг дружке морды молотят!
– Утикать надо, Андрей Васильевич! – ныл Пёсья Старость. – Поймают, запытают, на кол посадят!
– Нестрашно пугаешь, – отнекивался Ослябя. – Вот Дубыня восстанет и тогда…
– Восстанет! Чего ж ему не восстать-то? Слава богу, ребра целы!
Что-то удерживало Ослябю возле Москвы. Не только скорбная хворь оговоренного Дубыни. Странная забота томила, будто потерял-позабыл что-то у белокаменных стен. Целыми днями бродил Ослябя в мужичьем тулупе и валенках вокруг да около, проваливаясь по пояс в снега. В руках лук, за плечом колчан, нож в голенище. Подбирался вплотную к командам лесорубов, но разговоров не слышал, только ёкающие удары топоров да печальный звон мерзлых стволов. На четвертый день по возвращении в лагерь застал Дубыню сидящим у входа в палатку с мечом и точилом в руках.
– Ожил! – обрадовался Ослябя.
– Как не ожить, – загудел Егорка заунывную песнь Пёсьей Старости. – Кругом московиты шныряют. Скоро до нас доберутся. Харчи подъедены, кони под сёдлами. Что делать-то, а?
– Утекать, – вздохнул Ослябя.
* * *
Бешеная скачка, погоня и колокольный звон за спинами. Над головами свист стрел. Пал конь Терентия Мышки. Сам Терентий принял смерть легкую – зарублен московитским мечом. Васька ранен. Каленый наконечник угодил ему в бедро. Вытаскивать стрелу нет возможности. Ручеёк уносит его из-под вражеских стрел, но всё попусту. Болт пробивает кольчугу Упиря, вонзается в спину, под сердце. Васькин тулуп залит кровью. Ручеёк ускоряет бег. Ох, и резов же этот конь, горяч, буен, предан, не выбрасывает из седла мёртвого всадника, несёт! Несёт, словно горячечный угар скачки сможет вернуть его, оживить, снова заставить биться остановившееся сердце.
Ослябя слышит только мерный топот и свист морозного ветра в ушах. Стрелы больше не нагоняют их. Ослябя оборачивается. Лицо горит, тело стонет от натуги, пальцы онемели, но погоня отстала. Отстала! Впереди, между заснеженных елок мелькает хвост Ручейка. Любутская дружина уходит от погони, взметая копытами коней тучи снежной пыли.
– Стой! – хрипит Ослябя, натягивая повод. – Стой, Ручеёк! Лаврентий, лови его! Держи!
Он спешился поодаль, не стал подъезжать к своим верхом на Севере, повел коня в поводу. А они встали в круг над телом Васятки. Лишь смертельно усталый Дубыня бухнулся в сугроб неподалеку. Лаврентий обнимал пятнистую морду Ручейка, приговаривал ласково:
– Терпи, сынка. Ах, буйная твоя головушка! Ах, горе! Терпи, терпи…
* * *
Схоронили Василия, как положено, на кладбище, на Верхотином погосте. Там нагнали они Ольгердово войско, там нашли едва живого от страха попа. Дубыня, глотая слезы, всю ночь читал над Василием псалтырь. Звонкие удары топоров и мотыг вторили его печальному голосу. Споро вырыли могилу, опустили на дно домовину[21]21
Домовина – гроб.
[Закрыть], засыпали мёрзлой землей, водрузили крест. Шелом и тесак положили на могильный холмик. Постояли, головы склонив, да и разошлись.
* * *
Наступила ночь, но не принесла покоя.
– Андрей Васильевич, батюшка, где ты? – услышал Ослябя зов Дубыни. – Тяжело мне, ой тяжело! Нездоров я, смилостивься, отзовись! Дружина перепилась, горе заливали, да в заливе и потонули. Один я на ногах могу стоять, ходить, бродить, тебя искать…
В кромешной тьме зашуршали мерзлые ветки орешника, растекся в морозном воздухе перегарный дух. Дубыня был совсем рядом, но никак его, Ослябю, не находил.
– Здесь я, Егорка. Поверни башку на восход.
Раздался утробный сап, рыдание, и тяжелая фигура Егора Дубыни навалилась на Ослябев хребет.
– Больно! – Ослябя всхлипнул, задохнулся. – Отлезь с меня, удавишь!
– Не плачь, Андрей Васильевич, я тебе медку нёс. Да прости уж, не всё донес, часть отпил. На, пей, не плачь!
– Заплакал бы я, да невмочь. Убился бы, да грешно. Хоть бы ты, Дубыня, смилостивился. Хоть бы рассёк мне шею мечом. А что? Достойная смерть. Или не заслужил я, душегубец, достойной смерти?
– Андрей Васильевич, родимец…
– Видно, так мил я Богу, что каждого, кого полюблю, забирает в свои чертоги. Не хочу, не стану больше никого любить. Ах, Вася, Вася…
Дубыня молчал, растерянно почесывая в боку, шмыгая носом, постанывая. Русая борода его и брови, и ресницы были мокры от слёз.
– Не стану я тебя мечом рубить, – сказал он наконец. – Хороший ты человек, незлой, хотя и жестокий.
– Что в лагере? – Ослябя единым духом проглотил терпкий мёд, донесённый заботливым Дубыней.
– Под избы хворост нанесён. Ночь переночуют, утром запалят – и в дорогу. Пахарей в колодки, в полон. Ну, это тех, кто жив ещё.
– Что? Многих перебили?
– Перебили, да немногих, да по-божески, быстро, не глумясь. Верхогляд прибегал, о тебе дознавался. И Фёдор Балий… Этот просил пожаловать к Дмитрию Ольгердовичу на двор.
* * *
Войско двигалось медленно. Тащили немалый обоз: розвальни, волокуши, сани, гружённые добром. Гнали скот и колодников. Ольгерд со свитой стал во главе войска. Дмитрий Ольгердович с дружиной замыкал торжественное шествие от столицы княжества Московского к его дальним рубежам. С Дмитрием Брянским шли остатки любутской дружины. Шли с оглядкой – то отставали, то вновь нагоняли. Опасались, вдруг Митька надумает послать полки вдогонку? Однако зимник позади них оставался пуст.
Оборачиваясь, Ослябя видел только вытоптанный, изгвазданный испражнениями снег, следы кострищ да сверкающие в непролазной чащобе несытые волчьи очи. Конские трупы оставляли на съедение лесным хищникам, как и трупы пленников. Своих людей – болявых или пораненных, не вынесших дороги – хоронили. Шли, не таясь, от одного погоста к другому. Согревались кострами пожарищ. Что не годилось в добычу – и добро, и людей – всё предавали огню. Так двигалось Ольгердово войско: стон, плач, вой и треск пламени сопутствовали ему. По лесам окрест кружила ненасытная волчья орда, в небесах парили стаи разжиревших падальщиков.
* * *
Вторую половину дня шли умеренной рысью по зловонному следу отступающего войска. Видели на обочинах зимника окоченелые трупы колодников. Лаврентий поначалу пытался их считать, но на втором десятки сбился, сплюнул в досаде. Смеркалось. Они остановили коней на заснеженной речной излучине. Зимник сворачивал влево, вдоль берега.
– Речка Нудоль, – сказал бывалый Лаврентий. – На том берегу деревня. Козловка, Потравка… или как там её, бог разберет!
На противоположном берегу, за лесочком высоко вздымалось зарево пожара.
– Пойдем напрямик, – решил Ослябя.
Размолотили копытами лед на тихой Нудоли, взобрались на берег. Вымокшие и промерзшие, они ввалились в несчастную Козловку уже поздней ночью. По певучему снежку, чуя близкое тепло, разбежались-разлетелись кони.
На краю деревеньки догорал амбар, расцвечивая снежок желто-багровыми искрами. В центре деревеньки, над крышей постоялого двора, озаренная огнями высоких костров трепетала «Погоня». Верхогляд выскочил под копыта Севера так, словно специально поджидал за углом.
– Великий князь зовет тебя, боярин! – Ольгердов отрок схватил Севера за узду. – Пожалуй в светлицу, тебя заждались.
* * *
Ослябя и без помощи Верхогляда нашел бы княжеский терем. Перед входом, у крыльца темнели сваленные в кучу копья, мечи, пики. Все в богато изукрашенных ножнах. Тут же разместились и щиты. Дмитрий Брянский, Балий, Симеон Тупое Копыто, Нирод Ариборович, Довмонт – всё были тут. Ослябя замер на мгновение. Кого же не хватает? Миньки-огнищанина? Так он мёртв, потому его нет его на великокняжеском совете.
В горнице было тесно, жарко, пахло пряным мёдом, свежеиспеченным хлебом и конским потом. Столы ломились от яств. Тут был и хлеб, и сыр, и чечевица, и мясо в изобилии, но почти вовсе не было вина. Каждому в Ольгердовой дружине ведомо: великий князь Литовский и Русский не берет в рот хмельного и возле себя терпеть пьяных не станет. Бояре пили понемногу, с оглядкой на государя. В гомоне весёлого, на первый взгляд, застолья Ослябя почуял отголоски ссоры. Гнев, обида, досада читалась на лицах литовских бояр. Княжеское место во главе стола занимал Марзук-мурза. Татарин развалился на взбитых подушках, высоко закинув ножки, обтянутые алым сафьяном. Сам Ольгерд Гедиминович расположился в углу, под образами. Недвижим и молчалив, он прятал лицо в складках капюшона. Ослябе показалось сначала, что князь Литовский крепко спит.
– Богатая добыча, на всех хватит! – вещал Марзук-мурза. – Зачем ссориться, бояре?
– Зачем? – взревел Тупое Копыто. – Затем, что тебе, инородцу, иноверцу, нехристю, самые жирные куски достаются! И золотая казна, и меха, и кони, и невольники!
– Да разве ж тебе, Симеон, мало досталось? Чем ты недоволен? В чём тебя обделили?
– Да кто ж ты таков, чтоб нас наделять?! – рявкнул Фёдор Балий. – Разве ты русский князь? Разве ты нашего рода-племени?
– Оставь, Фёдор. Оставь домогательства! – Ольгерд говорил негромко. Боярам пришлось поутихнуть, чтобы расслышать речь властителя княжества Литовского и Русского.
– Марзук-мурза получит обещанное мною, а потом настанет и ваш черёд!
– Это несправедливо, отец, – возразил Дмитрий Брянский. – Чем дальше от Москвы, тем беднее волости. Что достанется нам на границе со Смоленщиной? Подопревшее жито?
– Что добудете – всё будет ваше, – ответил Ольгерд. – А ты, Ослябя? Молчишь? Не просишь уплаты за труды?
– Как мне просить? Ты ведь обещался расплатиться со мной по возвращении в Вильно. Золотом обещал расплатиться. У моей дружины обоза нет, некуда московитское жито сгружать.
– Расплачусь, сполна расплачусь! – Ослябе показалось, будто Ольгерд усмехнулся. – А пока садись, боярин, к столу и расскажи нам, что видно, что слышно в пустом лесу.
– Эй, Марзук! – не унимался Тупое Копыто. – Хоть девчонку отдай! Зачем она тебе? Только понапрасну уморишь! Ольгерд Гедиминович, рассуди! Для чего карлику девчонка? Уморит! Не бери греха на душу, отдай её мне!
Так гомонили Ольгердовы бояре до глубокой ночи. Сам великий князь больше молчал. Погружённый в оцепенение, он всю ночь так и просидел под иконами. Порой Ослябе казалось, будто смотрит на него Ольгерд, смотрит испытующе, словно под кольчугу взглядом проникнуть хочет.
Под утро, перед поздним рассветом, услышав на совете всё, что требовалось услышать, Ослябя решил отправиться к своей дружине, на покой. Вышел в прохладные сени, постоял, вдыхая воздух, пропитанный запахами сухой березовой листвы.
Внезапно по половицам застучали подкованные сапоги.
– Постой, Ослябя! – рука Дмитрия Брянского опустилась на его плечо.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































