Текст книги "Последний бой Пересвета"
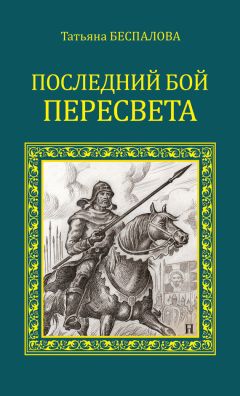
Автор книги: Татьяна Беспалова
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Где-то неподалеку бренчали неровно гусельки, разбавляя неровным перепевом своим гул нетрезвых голосов.
– Значит, Никитка, не позднее пятницы? Э?
– Да-а-а, никак не позднее… Слуш, Сашка, а где же мой тулуп?
– Зачем тебе тулуп, детинушка? Тут жарко натоплено!
– Дрыхнуть пойду, Сашка. Проспаться надо, не то…
– Куда пойдешь? Ложись здесь, на лавку, детинушка…
– Не-е-е-е, Сашка. Тут смрадно, душно, народ разный шатается. Опять же тараканы. В прошлый раз, помнишь ли, как мне в рот два таракана забежали?..
– То не тараканы были, дитятко…
– А кто ж? Кто? Ну да бог с ними! Не хочу один спать – вот в чём дело!
– Зачем «один»? А я? А со мной?
Никитка так захохотал, засучил обутыми в козловые сапоги ногами так рьяно, что плошки и блюдо на столе начали подпрыгивать, а кувшин с брагой так и вовсе опрокинулся. Но ловкая рука Сашки Пересвета не дала ароматной влаге излиться попусту.
– А за титьки дашь себя потрогать? – сквозь хохот проговорил Никита.
– Чего?
– А в уста меня поцелуешь? А слова ласково-блазнительные в ухо моё мохнатое нашепчешь?
Даже валяясь на земляном полу, под ногами у повскакавших с мест посетителей кабака, с окровавленным носом и разбитой бровью, Никита продолжал смеяться. Трое молодцов повисли у Пересвета на плечах, но тот уже разжал громадный кулак, уже дышал спокойно, говорил слова разумные:
– Ничего-ничего! Отпустите, более не стану драться! Ох, и пошутить любит бойкий отрок! А забывает простофиля, что над старшими и сильнейшими шутить не след.
* * *
Их несло по дощатой мостовой, мотая из стороны в сторону, от сугроба к сугробу.
– Ай, Кромка, жадный брехун! – бормотал Пересвет. – Сколь много он с тебя денег взял, а разбили-то мы всего две плошки!
– Не жмись, дядя! Будем живы – будет и копейка!
– Куда ж ты тянешь меня, детина? – не унимался Пересвет. – Или передумал до жены домогаться? Иль уж перестал скучать? Неужто моя псивая бородища милее тебе Серафиминых ланит? Э?
– Не ори, дядя, народ перебудишь. Смотри-ка – Москва полна, посад горит. Литвины на подходе. Мож, завтра пасть придётся.
Никита вёл его к крепостной стене, угадывая направление по огням сторожевых костров. Там, за тёмной громадой стены с зубчатым оскалом, ещё теплилось багровое зарево.
– Смотри-ка, дядя, ещё не догорело! – вздохнул Никита, подводя товарища к подножию лестницы, ведущей на крепостную стену.
– Кто идет? – угрюмо спросили сверху.
– Митрополита Алексия дворянин Александр Пересвет и боярина Вельяминова стражник, Никита Тропарёв! – проревел Пересвет, начиная непростой подъём по крутым, неровным ступеням.
Наверху пахло гарью. Между чистым, украшенным знакомыми созвездиями небом и белыми зубцами крепостной стены расстилалась заваленная снегами пустыня. Внизу догорал оставленный посад. Между чёрными бревнами, под обвалившимися кровлями тут и там расцветали оранжевые языки. Далее, за белой лентой Неглинной, на холме темнел поредевший от частых порубок бор. Подлесок выдрали начисто, орешник уничтожили, всё перевели на плетни. Пустовато стало в лесу, зато далеко видно. Никакой твари теперь не выскочить внезапно на речной берег!
– А что, детинушка, много ли ныне в лесу волчья?.. – рассеянно спросил Пересвет.
– Много! – отозвался Никита. – Вон, вон, смотри за рекой между стволами кто-то снует! Волки!
Пересвет присмотрелся. Действительно, между стволами поредевшего бора, на противоположном берегу Неглинной, по заснеженному склону холма перемещались тёмные тени. Они возникали ниоткуда на его вершине, спускались вниз, к реке, скапливались на её берегу. Их становилось всё больше.
– Что-то преогромные этой зимой волки… – пробормотал Пересвет, продолжая вглядываться в лес.
– Это не волки! Смотри, дядя! – закричал Никита.
И действительно, на груди одного из «волков», на чешуйчатой броне, блеснуло бледное отражение дожирающего посад пламени.
– Литовцы!!! Прочкнись, ребята! – что есть мочи заорал Никита.
На его крик отозвался гулом недальний набат. По стене, звеня железом, забегали стражники. Где-то в отдалении ударил второй колокол, потом третий. Москва пробуждалась. Литовщина!
– Вот и помял ты женины бока, детинушка! – усмехался Пересвет, вприпрыжку спускаясь с крепостной стены. – С добрым утречком!
* * *
Доски настила прогибались, колеблясь подобно ленивым волнам. Подковы сапог будили в узких, извилистых улочках прихотливое эхо. Вот миновали хоромы Ведьяминовых – за высоким, обмазанным глиной, беленым тыном терема. Высокие ставни, расписанные чудными птицами, золотыми рыбами да огнедышащими змеями. Башенки, увенчанные резными петушками, тесовые крыши каскадами. В конце тына, на углу, у резных дубовых ворот Яшка-бездельник ошивается – как нарочно в эдакую рань выбежал, чтоб дядю повидать. И порток-то на нём нет, лишь исподнее, валенки, тулуп да шапка. Лицо опухшее со сна, глаза, будто щёлки, но смотрит внимательно, бдит.
– Зачем полуголым вылез? – бурчит Пересвет, останавливаясь. – Лихоманка под полу залезет. Ступай в тепло, оденься!
– Что делать, дяденька? – шепчет Яшка. – Всех наряжают на стену идти. Даже Марьяша, и та собирается.
– Конечно! Без Марьяши нам литвинов никак не одолеть! Всё мужичье на Москве повымерло. Погоним на битву девок-юниц. Пусть косами литовских коней стреножат!
– Торопись, дядя! – встрял Никита в семейный разговор. – Смотри, из Тимкиной трубы искры летят. Тимка горн распалил!
И они вновь заспешили к восточной стенке кремника, где притулилась хибара великокняжеского кузнеца Тимофея Подковы. Там ввечеру оставили они боевые снасти: ножи, тесаки, копья. Там, на конюшне обретался до времени и конь Пересвета, огненногривый Радомир.
– Яшка, как рассветёт, приходи на стену. Да кольчугу не забудь надеть! – прокричал Пересвет, оборачиваясь. – Да о подшлемнике не забудь, не то шелом ухи натрёт!
* * *
Тимофей Подкова – невысокий, неширокий, зато жилистый да шустрый, с неуёмной силищей в руках – уж долбил по раскалённому бруску своим звонким молоточком. На стенах кузни, на верстаке и под ним был разложен кузнечный инструмент и заготовки. В углу стояли в ряд три кадки, наполненные водой, дощатый короб с песком, пеньковая ветошь, иссечённая топором деревянная колода. Там же, на песчаном коробу, валялся забытый кем-то, спелёнатый, стянутый веревками куль.
Пересвет и Никитушка, громко топоча, ввалились в кузню. За ними следовал утренний морозный дух, гул московских колоколов, усиливающийся гомон толпы.
– Явились! – Тимка ухмыльнулся щербато. – Забирайте своё добро! Вовремя поспел, словно чуял, когда литвин нагрянет!
– Хорош тесак! – восхищался Никита, пробуя рассечь лезвием пеньковую веревку.
– Это – да, хорош! Хочешь, дрова им коли, а хочешь – человеческую плоть кромсай! – Тимка схватил щипцами раскаленную заготовку, сунул в кадку с водой. Металл пронзительно зашипел. Странный куль завозился, заскулил да и скатился с песчаного короба на пол.
– Это вам подарочек. Ночью на стене поймали, незадолго до того, как литвины явились. Смелый оголец: смог по стене взобраться, осмелился между зубцов прятаться, на самом холоду, на сквозняке. Его Севастьян приволок, вам наказывал передать. Сам-то он врёт, будто москвич, будто бежал от литвинов – так бежал, что по отвесной стене с разгону взобрался. А мы-то кумекаем: нет, не москвич он!
* * *
– Кто таков? Откуда? Как пролез сюда? – Никита тряс мужичонку за ворот тулупа, приподымал, отрывая от каменного пола кузни.
Тот потешно поджимал ноги, обутые в пропахшие конским навозом валеные сапоги, покряхтывал, зыркал на мучителей раскосыми глазами и молчал. А рожа-то у него! Звериная харя и то краше станет! Глаза узкие, раскосые, как у ордынцев, но не чёрные и не карие, а зеленющие. Брови косматые, личина заросла серым волосом до самых глаз. Шею и грудь закрывает пышная кучерявая бородища. А башка лысая, приплюснутая и на темени две шишки. Тулуп мехом наружу выворочен. Суконные портки копотью и грязью так изгвазданы, что сними их мужичонка – и они, пожалуй, колом встанут. Шапка его овчинная, островерхая на полу валялась, и Никитушка, сокол ясный, обтёр об неё подкованные подошвы красных сапог. И небедно вроде бы одет мужичонка, не в дерюгу, но как-то рвано и замызгано, словно не в большом городе обретался, а безвылазно в лесу сидел, в медвежьей берлоге или в дупле.
– Раскали-ка пруток, дядя, – ласково попросил Никита. – Сейчас мы попробуем этого зверёныша по-иному допросить, с пристрастием.
Мужичонка скосил глаза в сторону пылающего горна, но испуга на морде не изобразил.
– Не могу я прутком-то, – шмыгнул носом Сашка. – Мне сподручней Дрыной.
Пересвет извлек из ножен огромный клинок. Обоюдоострое лезвие явилось на свет беззвучно. Пламя горна отразилось в его матовой поверхности. Веселые зайчики, соскочив с клинка, запрыгали по лицу пленника.
– Э, дядя! Рубить не надо! – предупредил Никита.
– Да кто ж его рубить-то собирается? – усмехнулся Пересвет. – Для начала мы его обреем.
Пересвет сжимал оружие левой рукой.
– Следи за мной, детина, – сказал Пересвет. – Одно движение – режущее, снизу вверх от локтя, другое – рубящее, сверху на низ от плеча. Эх-ма!
Огромный клинок со свистом рассекал воздух. Дважды мелькнул он под носом пленника. Пленник дернулся, взвизгнул, и его широкая кучерявая борода сероватой кучкой легла на пол кузни.
– Ястырь! Ястырь! – верещал пленник, молотя воздух вонючими сапогами, пытаясь извернуться и ухватить Никиту короткими ручонками. Но, получив удар по макушке, всё тем же клинком, плашмя, затих, обвис покорно.
– Что «ястырь», образина? – голос Никитушки сделался ещё ласковей. – Уж не татарин ли ты?
– Ястырь – имечко моё, и я не татарин, нет… – застонал мужичонка. – Не мучьте меня, храбрые воины, поберегите силушку на литвинов поганых. Вон уж третий день воинство их мерзкое снег под стенами славной Москвы месит…
– Ого-го! – взревел Сашка. – Да ты велеречив и хитромудр. Ну-ка отвечай толково: откуда к нам пролез, чьего роду-племени, зачем к нам пожаловал?
– Из-за реки я… – пролепетал пленник.
– Ведаем, что из-за реки, – Никита снова тряхнул пленника. – Лазутчик вражеский!
– Нет, Ястырь из-за большой реки, – застонал пленник, – из-за Итиль-реки…
– Неужто татарин? – усомнился Никита. – Нет, дядя, без прутка нам не обойтись…
– Ястырь по степи бродил, по лесу бродил, по водам плыл, по овражкам крался, до Москвы добрался… – лепетал пленник.
– Зачем так долго странствовал? Чего искал? – Никита снова тряхнул его. Вывороченный тулуп затрещал, пленник хрюкнул, извернулся и выскользнул из одёжи на каменный пол кузни.
Ох, и прытки же бывают земные твари! Не догнать, не поймать, коли ужас на пятки наступает. Поначалу Ястырь мохнатый улепетывал, как полагается человеку – на двух ногах. Но когда пришлось по крутым ступеням на стену взбираться, в ход пошли и руки. Так вот зад к небесам пасмурным поднял и давай всеми четырьмя перебирать. Срамно и странно, но зато как борзо! Пересвет, звеня кольчугой, широкими прыжками нёсся следом. Он уж и взопрел, и рукавицы с рук сбросил, и шелом тяжёлый в сторону отринул, а всё никак не догонит. Пересвет ещё на средине лестницы сапогами грохочет, а беглец уж наверху, снова на две ноги стал. Лысой башкой вертит, высматривает, куда далее податься. А к нему по стене уж с обеих сторон воины бегут. Кто с веревкой, кто с секирой, а кто и с мешком в руках. Мужичонка застыл, будто заскучал.
– Держи паршивца! – хрипел Никита из-за спины Пересвета. – Давай, дядя! Хватай чертёнка за копыта!
И Пересвет, изловчившись, с предпоследней ступени, почти лежа на животе, ухватился за вонючее голенище валеного сапога. Как ухватил, так мгновенно и уразумел, что сапог-то пуст.
– Ах ты, Матерь Божья! – застонал Пересвет.
А беглец в это время, оставив оба сапога преследователям, подобно огромной белке, спускался по наружной стороне стены. Осаждающие выпустили по нему несколько стрел, но всё мимо. На том и успокоились.
– Глянь-поглянь, детинушка, что там внизу? – шептал Пересвет. – У тебя глазоньки острее моих. Лежит тельце-то? Нешто свои же подстрелили?
Оба – и Пересвет, и Никита – осторожно выглядывали из-за зубцов стены. Какой-то доброхот уже вернул тяжеленный Сашкин шелом на его законное место.
– Вроде двигается, – отозвался Никита. – Но едва-едва…
– Эй, вояка! А длинна ли твоя верёвка? – спросил Пересвет у седоусого дружинника. – До земли достанет?
– Пожалуй, что и достанет, – ответил тот.
– А крепка ли?
– Да ничего, крепка. Чаны со смолою ею на стену втягиваем. И мешки с песком тож.
– Ты что задумал, дядя? – всполошился Никита.
– Что задумал? Сам посуди: уж вечереет, сумеречно, тихо. Литвины, вон, костры жгут, жратву готовят. Бог даст, меня не заметят.
– Дядя…
– Не прекословь, детинушка. Обвяжи меня веревкой. А ты что смотришь, служивый? Подай-ка мне Дрыну.
* * *
В последний момент кто-то накинул ему на плечи белёную льняную холстину. Наступал вечер. Два года назад, в этот же день, одиннадцатого декабря, но при свете дня Андрей Ослябя и Василий Упирь стояли под московской стеной в этом самом месте, наблюдая за отважными деяниями огнищанина Локиса-Миньки. Но сейчас под стеной было пустым-пусто, никого. И Пересвет, и Никитка высмотрели всё в четыре глаза.
Удалось приземлиться почти бесшумно. Кольчуга всё же брякнула, но кто ж услышит в таком-то гаме? Колокола за крепостной стеной как раз принялись созывать народ на вечерню. Пересвет избавился от веревки и холстины, осмотрелся. Вдали, за рекой, между редких сосновых стволов полыхали огни литовского лагеря, ржали кони, слышался звон металла и людские голоса. Похоже, противник и этой ночью нападать не собирался. Странное дело: тащиться в такую даль, лить кровь свою и чужую, осаждая незначительные крепости, мерзнуть и недоедать, чтобы вот так вот засесть в снегах.
– Московского величия убоялись! – пробормотал Пересвет.
– Эй, дядя! – закричал Никита со стены. – Чего замер? Жив ли?
– Я-то жив, – отозвался Пересвет. – А вот пленника и след простыл.
– Лови факел и огниво! Вдруг да пригодятся!
Факел и мешочек с огнивом, брошенный верной рукой Никиты, упали на снег, под ноги Пересвета.
Пересвет тихонько, не торопясь, положил Дрыну на снег, зажёг факел. Колеблющееся пламя вырвало из вечернего сумрака участок гладкой кладки, грязный снег и незнакомого человека. Почти неразличимый на фоне изгвазданного песком и усыпанного булыжниками снега, покрытый светло-серым, хорошего сукна плащом, незнакомец сидел, опираясь спиной о кладку кремника. Из-под края башлыка поблёскивало наносье шлема. На первый взгляд этот человек был почти безоружен. Ну, разве что пара кинжалов – рукоять одного торчит из сапога, другой вложен в ножны и висит на поясе. Где же меч?
– Эй, мил человек, не пробегал ли тут босоногий мужичонка, лысый и в общипанной бороде? – растерянно спросил Пересвет, поглядывая на оставленную в снегу Дрыну. – Чего молчишь-то? Ответствуй, или по-русски не разумеешь?
Незнакомец поднялся на ноги. Высокий, широкоплечий, в длинной, до колен кольчуге и кованых наручах, мощный, красивый, знакомый. Пересвету на миг почудилось, будто он смотрит на собственное отражение. Таким он часто видел себя, засматривая в кадку с водой на кузне у Тимошки Подковы.
В свете факела Пересвет разглядел длинную, до пупа бороду, богато украшенную серебряными нитями седины, и, на удивление, ясные, пронзительные, синие глаза.
– Здорово, прощелыга! – прорычал незнакомец. – Зачем глаза таращишь, или не признал?
– Неужто Ослябя?
– Неужто! – передразнил незнакомец. – Видать, глаза ещё не залил. Уж тут я тебе не помощник. В дозор с собой меха не беру. Придется на сухую толковать.
– Нешто ты, Андрюха?
– Не, не я. То судьбина твоя голимая, пьяный потрох.
Зашипев рассерженною гадюкой, погас в снегу факел. Зимний вечер глубокой безлунной ночью обернулся. В глазах Пересвета разноцветными огнями вспыхнули пронзительные звёзды. Сашка упал на грязный снег, навзничь. И хорошо стало: не тепло и не холодно, не страшно и не волнительно, а как-то странно покойно и легко. Так, будто случилось опорожнить единым духом расписной ковш. Так, будто уж и тёплое тело Варвары-вдовицы, кабатчицы московской, под боком ощущалось.
– Вставай, потрох, – послышался голос Осляби. – Не хочу тебя ногами пинать, всё ж родственники мы. Вставай!
Пересвет поднялся. Кряхтя и сплевывая кровавую слюну, он с опаской посматривал на Ослябю, а тот уж держал в руках его огромный меч. Держал легко, на отлёте, воздев остриё клинка к чёрным небесам.
– Дрына моя, – пробормотал Пересвет.
– Утёк пленник твой, – будто невпопад, ответил Ослябя. – Отпустил я его. Надоел, собака. С утра его вкруг стен ваших гонял, не мог поймать. Озлился, устал. Думал: настигну – выпотрошу. А он, тварь, на стену взлез, словно дятел по древесному стволу. А стены-то у вас хороши: гладкие, ровные и как только сумел?
– Говори, говори… – усмехнулся Пересвет, поглядывая наверх, на стену. Где-то там Никитка-дружок? Почему молчит?
– Ну что ж поделать! Раз тебя мне Господь послал, выбирать не приходится. Молись, потрох.
– Погоди…
– Молись, а то я подмёрз, и жрать охота приспела.
– Андрюха…
– Ты родственник мой, потому не стану тебя потрошить. Голову снесу и до своей дружины побегу. Молись. Некогда мне.
Пересвет послушно принялся бормотать слова «Отче наш». Где-то ухнула совушка. Один раз, другой, третий. Теперь Пересвет увидел Никитку. Тот уж миновал выступ стены, крался, пластался, приуготовив длинный обоюдоострый тесак.
– Становись на колени, – приказал Ослябя.
– Ты клинок-то зачем заранее занес, а? Дрына тяжела, руки устанут. Как сечь меня станешь, усталыми-то руками?
– Не учи меня, потрох. Опускай харю долу и молись. Молись!
Никитка взял разбег, прыгнул, взлетел подобно коршуну, рубанул тесаком по Ослябетеву плащу. Металл заскрежетал о металл. Пола плаща опала на снег, подобно отжившему древесному листу. А тесак так и остался на боку Осляби висеть, кольчужными кольцами зажёванный. Ослябя крутанулся, Никита присел. Лезвие Дрыны звонко свистнуло над его бедовой головой, снесло напрочь хорошую, отделанную соболиным мехом шапочку. Пересвет завалился на бок, перекатился веретеном, ухватил родича за ноги, дернул вполсилы. Ослябя, гремя кольчугой, повалился в снег. Шелом сорвался с его головы, Дрына с глухим звоном отлетела в сторону. Пока Никита по снегу полз, силясь Дрыной завладеть, Сашка уж сидел верхом на родиче, крепко прижимая его руки к бокам своими коленями.
– Эй, Андрюха, не верти башкой, – приговаривал Пересвет ласково. – Дай в глазоньки родные насмотреться, дай скорби с личика твоего кровушкой смыть.
Его кулак не один раз опускался на Ослябин лик, но всё как-то неловко. Уж больно силен оказался противник, всё норовил коленями в спину ударить, боднуть, укусить и в конце концов вцепился-таки в Сашкин кулак зубами.
– У-у-у-у-у, зубы волчачьи! – взревел Пересвет.
Никита бегал вокруг них, примеряясь ударить.
– Отойди, детина! Это родственник мой! В семейное дело не путайся!
Внезапно из снежного мрака выскочил дьявол. Зубы оскалены, очи огнем неземным пылают. Никитку сшиб с ног, и тот, истошно вопя, под откос, в реку укатился. Дрына бестолковая снова одна-одинешенька в негу оказалась. А Пересвет ума поимел. С дьявольской силой связываться не стал, родича отпустил, вскочил, к Дрыне родимой кинулся. А дьявол кругами скачет, копыта острые высоко вздымает, гривой тёмной, словно знаменем, машет, звенит стременами, рычит утробно, словно и не конь он вовсе, а медведь бродячий. Пока-то Сашка Дрыну выискивал, пока дыханию заполошному требуемую ровность придавал, глядь, а Ослябя уж в седле и несется на своём дьяволе прочь, в темень, вражескими кострами подсвеченную.
– Не тужи, Андрюха! – вопил ему вослед Сашка, захлебываясь хохотом. – Знай и помни: Яшка твой при мне! Жив твой Яшка! На дворе боярина Вельяминова обретается, воинскому искусству обучается. В следующий раз как под Москву придёшь, он тебе рожу кровью умоет, обещаю!
Тут из-за выступа стены набежала ребятня. Кто с факелом, кто с секирой, кто с чем, а Тимошка Подкова с палицей огромной.
– Где лихоимец?! Где злодей?! – кричат, мечутся, десницами непорожними потряхивают.
– Утек! – счастливо улыбаясь, ответил им Пересвет.
А тут из овражка, из речного русла и Никитка лезет, морду потную рукавом утирает, лепечет жалобно:
– Вот досада, дядя! Вот обида! Упустили литовского боярина! Облажались! Вдвоем с одним не сладили.
– Как тут сладишь, коль ты безоружным явился? – буркнул Пересвет.
– Я – безоружным? А тесак?
– Вот тебе моё слово отеческое, детина: такого бойца, как мой брательник Ослябя, тесаком не одолеть. Попомни это, и проживёшь долго.
* * *
Он застал митрополита за чтением. Одинокая свеча выхватывала из сумрака опочивальни заостренную бороду, внимательные глаза. Алексий почтительно прикасался к испещренным буквами листам тонкими, белыми, почти что призрачными перстами, бесшумно переворачивал страницы, скользил внимательным взглядам по строчкам, вздыхал, хмурился.
Владыка показался Сашке усталым и печальным. С чего бы? Ведь вчера литовский князь прислал к воротам Московского кремля послов с громогласно-торжественным предложением вечного мира. А ответ Ольгерд получил обидный, но вполне внятный: перемирие до Петрова дня, на полгода и не более.
И условие это литвинами было принято. И снялись они, и по снегам глубоким к домам потопали. Тихо ушли. Получили строгое наказание: ничего не брать. Ушли с опасливой оглядкой – и на Перемышль, и на Волоколамск, и на Можайск. Там стояли, ожидая часа схватки, готовые к сражению рати.
Пересвет приблизился, стараясь не стучать сапогами. Но старые половицы оглушительно скрипели под его тяжёлой ногою. Алексий поднял голову.
– Где пропадал, Александр? Зачем смурной? Не ранен? – спросил Алексий.
– Цел я, владыка, – отвечал Пересвет, склоняя голову.
– Вот читаю «Лествицу», твоими золотыми руками переписанную. Читаю и дивуюсь, как может быть человек равно искусен и в ратном деле, и в книжном писании, – Алексий поднялся, приблизился к Пересвету, по обычаю благословил.
Хоть и высок был ростом митрополит, но всё же Сашка Пересвет, когда после благословения выпрямился, на полголовы выше оказался.
– Люблю тебя за таланты, – продолжал владыка. – За трудолюбие почитаю, и потому вдвойне обидны мне твои блудные грехи…
– Владыка, я…
– Ведомо мне, Александр, что не только к ковшу расписному ты снова пристрастился, но и Варвару-вдовицу опять навещаешь.
– Так на бранный подвиг снаряжались, владыка… да она сама зазывала…
– Полно! Не затем я тебя звал, чтоб побасёнки твои слушать. Хочу весть передать о друге твоем лепшем, боярине Василии Ивановиче Березуйском.
– Надеюсь, здоров Вясятка? Здоров и беспечален?..
– Василий Иванович пал под Волоколамском. Хитроумным образом был убит. Многие видели, многие ужаснулись.
– Не может быть!..
– И убийца его многими узнан и нам известен.
– Кто?!
– Не рычи, не тужься, не распаляйся.
Владыка усадил Сашку на скамью и сам попросту рядом с ним уселся. Отвернул в сторону благолепный лик свой, еще больше нахмурился и как будто совсем сник.
– Назови убийцу, – прошептал Пересвет. – Видит Бог, я…
– Погоди, Сашка, не божись, – вздохнул Алексий и, помолчав, добавил: – То родич твой, Андрей Ослябя.
– Судьба это злая, жестокая, будто зверь лесной или оборотень, серым волосом поросший!
Пересвет метался по митрополичьей горнице, уже не помышляя о том, сколь громко подкованные подошвы его топочут, не слыша собственных отчаянных воплей, печальных и сострадательных взглядов владыки не замечая. Всё отцу духовному выложил, всё рассказал: и как ратники московские оборотня изловили, и как они с Никитушкой оборотня допрашивали, и как бежало от них бесовское отродье. И о главном поведал: о странной встрече под московской стеной.
– Скажи мне, Саша, – тихо попросил Алексий. – А слышал ли Ослябя о сыне своём, Якове? Внял ли он твоим словам?
– Внял, владыка! Как не внять, коли я орал громогласней иерихонских труб и Яшкино имя несколько раз произнес? А вот оборотень, он…
– Не было оборотня. Это привиделось тебе, Сашка, – сурово молвил Алексий. – А виной всему твоё пагубное пристрастие к сидению в Варварином кабаке. Просохни, и видения бесовские оставят тебя в покое.
– Не повинен в сём, владыка, – взгудел Пересвет. – С начала литовщины на стене стою. Иссох весь от жажды, не доедаю, не досыпаю, Дрыну из рук не выпускаю. Уж и писать, наверное, разучился. Посмотри: ладони мозолями покрыты. Как снова перо возьму эдакими исковерканными ручищами – не ведаю.
– Полно жаловаться, – Алексий поднялся со скамьи.
Пересвет затих, склонил голову, припал к руке митрополита.
– Ну-ну, довольно мне руку бородою щекотать! – тень улыбки мелькнула по бледному челу Алексия. – Ступай, любимое чадо моё, да попусту не храбрись. Сдай Дрыну Тимофею на сохранение, берись за перья. Завтра чуть свет жду тебя для важнейших дел. Не настало ещё время для твоего подвига.
* * *
Из рукописи, сожженной воинами Тохтамыша, потомка Джучи, в году 1382-м от Рождества Христова:
«…Так и отпустили супостатов с миром. И Михайла Микулинский, ныне прегордо Тверским именуемый, вместе с прочими отбыл к себе в вотчину. И на него распространилось перемирное условие. Малый я червь неразумный, к расписному ковшу и блудливой вдовице пристрастный, но позволю всё ж себе вольность не согласиться с управителями московскими. Не стоило, нет, не стоило гордого и обидчивого Михайлу Микулинского от Москвы с миром отпускать!..
…Нет, спокойствия не наступило. Смутно в Междуречье. В прошедшую осень снег выпал рано, нивы ушли под сугробы с несжатой пшеницей. А зиму наступила оттепель, да так сделалось тепло, что снег повсеместно стаял. Подгнившие, почернелые хлеба явились на поверхность. Делать нечего, принялись жать. Что-то собрали, что-то посыпалось в землю и по Божиему промыслу всё одно взошло весною самосевом.
А по весне Михайло Микулинский, смирения не ведающий, метнулся в другую сторону, в Улус Джучи[26]26
Улус Джучи – часть Орды, управляемая Мамаем.
[Закрыть], к темнику Мамаю. О событии этом неуместном поведал владыке и князь-Димитрию гость торговый, проходимец знатный Никодим Сурожанин. Грек этот прехирый временами сам при Мамаевом дворе обретался и приезд Михайлы Александровича собственными воловьими очами видел.Бает грек, будто Мамай Михайле Микулинскому сильно обрадовался. А что? Может, и не врет волоокий! До сих пор никто из междуреченских князей к Мамаю на поклон за ярлыком на Белое княжение не прибегал. Ещё баял Сурожанин, будто наушники Мамаю уже все уши прожужжали о самовольствах Московского Дмитрия. Дескать, и дань-то он не платит, и каменную крепость выстроил, и тверского князя (это Микулинца-то!) в темнице держал, а литовскому вечного мира не дал. А Мамаю всё недосуг Дмитрия приструнить. Неспокойно в Улусе Джучи, никак не возможно отлучиться до Москвы…
…И смех и грех. Прибыл к нам на щи самолично ордынский посол. Сархожей именуется, в шелка-бархаты разодет, глаза чернющие, усы сосулицами белыми по обе стороны рта висят, под нижней губой бородёнка срамная, жидкая. А башка его круглая шёлковой чалмой прикрыта. А глаза его алчные по сторонам так и шныряют, чем бы поживиться, высматривают. При нём свита подобострастная, тоже до всякой поживы жаднющая. Все степняки жилистые, тощие, словно волки весенние. Но кони у них хорошие, завидные кони.
Сархожа-посол явление свое на Москве посланием оскорбительным предварил. Владыка удостоил меня, ничтожного, высоким доверием – дал послание ордынского посла прочесть. В послании говорилось, что, дескать, просит Сархожа Дмитрия Ивановича пожаловать во град Владимир, на торжества по поводу венчания нового великого князя Владимирского (это сызнова о Микулинце речь). Из сего послания следует, что выпросил-таки Михайла Александрович у Мамая ярлык. Да кто ж он такой, Мамай этот? Разве хан он? Так себе, темник, тьфу и растереть, прости господи!
Но у нас тут тоже не дурни праздник правят. Димитрий Иванович годами молод, да умом крепок. Повелел наш князь по всем градам, чтоб бояре и чёрные люди целовали крест на верность Москве, а Михайлу Микулинского во Владимир на Великое княжение не пускали.
Но мерами словесными Дмитрий Иванович не ограничился. С братом своим Владимиром Андреевичем, во главе войска немалого отправился к Переславлю и перерезал здесь нерльский волок, загородил дорогу Михайле Микулинскому из Твери во Владимир. Но это всё до явления Сархожи на Москве случилось. А когда уж посол ордынский прибыл, с Микулинцем дело было решено.
Сархожу принимали хлебосольно, словно и не получали от него оскорбительных приглашений. Раздобрел, потучнел на Москве Сархожа. Снизу, под глазками чернющими щеки широкие наросли, на пузе халат парчовый не сходится. Боярин Вельяминов посла соболями-куницами одарил, Дмитрий Иванович золотой казной нагрузил. Приехали к нам все верхом, а обратно, в Орду, тяжелым обозом отправились. Хитрый-прехитрый наш Дмитрий Иванович, хоть и молод ещё, а сумел ордынского вельможу обаять-очаровать…
…Летом проводили Дмитрия Ивановича в Орду. Видел я сомнения и страх владыки. Видел колебания и смуту душевную. Одно дело – алчного Сархожу в родных стенах очаровывать и совсем другое – по собственной воле лезть в адское горнило. В конце концов порешили: ехать. Дмитрия Ивановича помимо ближних бояр сопровождал преданный ему князь Ростовский – Андрей Фёдорович. Яшку моего я тоже к посольству приставил. Пусть. Когда ещё случай преставится на мир посмотреть? Однако всё же боязно. Ведь путешествие то для Дмитрия Ивановича ещё не известно, чем обернётся.
Мыслю я, что Мамай-то о многом может спросить и прежде всего спросит за самочиние: как посмел не пустить тверского князя венчаться во Владимире? Но не ездить совсем – тоже нельзя. Так вот и решили навестить могучего темника в его кочевьях, в низовьях Дона. В Сарай-то русские по нынешнему времени не ездят. Нечего делать русским в Сарае. Сколь смею я судить скудным умом своим: в Орде ныне тож замятня, междоусобье[27]27
Имеется в виду раскол Золотой Орды на Белую и Синюю. Наибольшая из двух Орд, в то время включавшая в себя Поволжье, Северо-Восточный Кавказ, часть современного Казахстана и Западной Сибири, находилась под управлением Мамая.
[Закрыть]. Один хан сменяет другого, и всякая власть недолговечна.Двинулись с Дмитрием в низовья Дона речным путем. Погрузились на суда. Владыка, невзирая на свои годы, не располагающие к странствованиям, решился сопроводить князей сколь можно. И я, грешный, при нём снова поменял гусиное перо на длинную Дрыну. Плыл владыка с князьями до самой Коломны, окрепляя советами, и тут благословил напоследок. Яшке моему четырнадцатый год пошёл. Скоро уж можно женить, а он что-то ростом не задался, мелок, не в нашу породу. Я вот думаю порой, может, это от пережитого ужаса в нём росту нет? Где нашел-то я его и в каких обстоятельствах – страшно и помыслить, а он всё пережил детской, неокрепшею своей душой…
…Князюшка Дмитрий Иванович за порог, и тут же у ворот посольство от Ольгерда. На этот раз хитроумный литовец зятя, Городецкого князя Бориса Константиновича, прислал. Послы оказались одновременно и сватами: Ольгерд предлагает и перемирие до октября по Дмитриев день[28]28
Дмитриев день – 26 октября по старому стилю.
[Закрыть] продлить, и дочь свою Елену за Владимира Андреевича отдать. Владыка послов принял, желания их одобрил и удовлетворил, перемирную грамоту печатью скрепил. Я, грешный раб ковша расписного, при сём действе присутствовал. Но вся премудрость в том состоит, что в грамоту вышеозначенную вошло много всего такого, что Ольгерд литовский не предполагал и не намеревался в неё включать. Среди прочих условий обязали Михайлу Микулинского отозвать своих наместников из захваченных им великокняжеских городов и сёл. Если же до Дмитриева дня в сроки перемирия Микулинец опять примется пакостить в великом княжении или грабить, то Московский князь самолично решать будет, как с ним поступить. Грамота воспрещала великому князю Ольгерду и брату его, князю Кестуту, а равно и детям их за Микулинца вступаться. Но мало этого! В грамоте, владыкой замысленной и моею рукой похмельною написанной, было объявлено, что великое княжение Владимирское отныне является наследственной вотчиной московских князей. Дело небывалое и замысловато сделанное. Так уж хитроумно условие это наиважнейшее среди прочих условий грамоты было втиснуто, но как недвусмысленно прописано!..…По осени уже Дмитрий Иванович благополучно вернулся на Москву. Да не один вернулся. Выкупил наш князь у Мамая сына неуемного Микулинца, Ивана… Эх, Ванюша! Славный отрок, но, сдается мне, не жилец он, ой, не жилец!..»
* * *
Их было трое: Ослябя, Дубыня и Пёсья Старость. Да три коня, да Дубынина чугунная палица. На этот раз они в дозор доспехов не надели, вооружились лишь ножами, чтобы в случае чего местными хлебопашцами сказаться. Хотя какие из них хлебопашцы? Даже в престаром Лаврентии, в стремительности его движений, в лёгкости походки, свободной от тяжести лат, видна была выучка бывалого вояки. А кони? Этих зверей борзых, злых, неугомонных только безумец иль слепец примет за пахотное тягло. Рожденные в этих местах, все трое дозорных давно уж утратили связи с семьями. А если кто из троих и имел понятие о родичах, то знал наверное лишь одно: все они были в одном месте, чуть ниже по течению, в обезлюдевшем после мора городишке Любутске, на церковном погосте. Так залегли Ослябя, Дубыня и Пёсья Старость в секрете на крутом склоне оврага, коней положили, затаились.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































