Текст книги "Последний бой Пересвета"
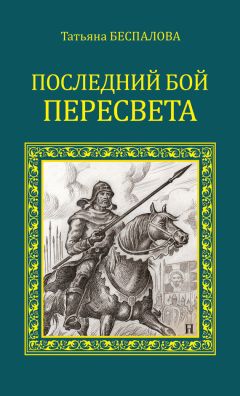
Автор книги: Татьяна Беспалова
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Солнце трижды поднималось из-за острых вершин соснового бора на противоположном берегу реки Любутки. Дважды, совершив положенный ежедневный путь, опускалось оно в непролазную чащу позади затаившихся дозорных. Уж третий день клонился к вечеру. Над их головами в густых ветвях ольшаника засвистал переливчато соловушка. По утру была разделена по-братски, на троих, последняя чёрствая краюха, и теперь одной лишь студеной водой приходилось пробавляться, благо дальновидный Ослябя выбрал место для тайника под боком у шумливого ручейка.
– Пора до своих, Андрей Васильевич, – гундел Пёсья Старость. – Слышь, как Дубынина утробушка соловьиным трелям вторит? Аж эхом в лесу отдаётся. Если б не соловей, пёсья старость, да не ручеёк, заметили б нас давно.
– Андрей Васильевич, – вторил старому дружиннику оголодавший Егорушка. – Неровён час московиты на том берегу услышат трубный глас моего чрева. Тогда конец нашим секретам – скрутят и в острог, на дыбу.
Ослябя знал – слева от них и чуть дальше, на закат, выше по течению стоит сторожевой полк Ольгердова войска с Дмитрием Брянским во главе. Там, с Дмитрием Ольгердовичем, остатки его дружины – всего-то полтора десятка всадников. Сторожевой полк стоит наготове в ожидании вестей от Осляби, кони вестников уж под седлами. Полк кострами не дымит, каши не варит – так жуют, всухомятку, что Бог послал.
Эх, мысли о еде! Когда ж вы, докучные, оставите усталого воина? Когда вкусит он банного тепла и свежего, пахнущего выменем молока? Когда насладится чрево горячей, пряными травами приправленной ухой? А уха-то вон она, знай себе в Любутке плещется, пускает по зеркалу вод круги широким хвостом. А достать её, уху-то, нельзя! Тихо надо сидеть, московское воинство дожидать, а завидев, весть о нём Ольгерду Гедиминовичу нести. Хорошо хоть нынче лето, июнь, хоть не холодно душе.
А Ольгердово войско стоит у дозорных за спинами, таится по ложкам в лесах. Ждёт прихода супротивника, вняв слухам недосужим, будто ведёт войско московское сам Дмитрий Иванович. А посему здесь, на берегах тихой Любутки, состоится долгожданная битва. Сойдутся Литва и Москва в открытой схватке.
* * *
Противник вышел на берег Любутки на третий день, засветло. Пёсья Старость заранее учуял вражеский разъезд. Навзничь лег на землю, вытянулся, прижал к хвойной подстилке ладони. Потребовал полнейшей тишины. Так лежал он не менее получаса, неподвижен, словно поваленный бурей древесный ствол. Прикрыл глаза и, казалось, перестал дышать. Лишь губы его шевелились и дергались глазные яблоки под веками.
– Идут, идут… – шептал Пёсья Старость. – Кони, много коней. Слаженно идут, уверенно… не таятся, в рога трубят… близко уж… солнце не успеет сесть, как выйдут на берег… Попомни моё слово, Андрей Васильевич, с ходу станут нападать…
Забыв про голод, смотрели все трое дозорных на сверкающие доспехи всадников, на украшенную чеканным золотом сбрую, на высокие шеломы и на багровое полотнище с ликом Спаса Нерукотворного. Передовые отряды московского войска застыли на противоположном берегу. Всадники становились в ряды, перестраиваясь из походного порядка в боевой. Ни один из них не спешился. Они и не помышляли об отдыхе. В центре строя, наряду с широким, украшенным огромной бородой дядькой, восседал на кауром жеребце высокий воин. Перепоясанный огромным мечом, в багряном плаще и островерхом шлеме с золочёным налобьем, он казался на голову выше соратников.
Ослябя присматривался, стараясь различить черты лица дядьки, которые казались знакомыми. Кто ж таков? Не Боброк ли Волынец? Нет, ведь Боброк широк чревом и бороду имеет седую. Да и вот же он, Димитрий Михайлович, рядом. Вот и конь его мышастый. И не Васька Березуйский – его Ослябя самолично насмерть подколол в позапрошлую зиму, на мосту возле Волока Ламского.
В здешних местах Любутка была довольно широка, и потому, глядя через реку, казалось, трудно разглядеть лица московских воинов – оставалось только гадать. А кто ж тот высокий на кауром жеребце? Может, Ванька Золоторожец? Вряд ли. Ванька постарше Осляби будет, Ваньке давно уж на пятый десяток перевалило. А этому витязю и тридцати ещё нету – красивый, благолепный, товарищами почитаемый. Неужто сам Дмитрий Иванович?
Между тем московское войско оставалось недвижимым. Трубы утихли, замолчали бубны конные[29]29
Бубны конные – ратные барабаны в виде небольших котлов. В отличие от пехотных бубнов использовались не по одному, а в паре. Их привязывали к седлу впереди всадника, который ударял по ним вощагой – специальной ременной плетью с шаровидным наконечником.
[Закрыть]. Любутские разведчики заскучали, вспомнили о голоде.
– А это кто ж таков? – ухмылялся Дубыня.
– Который? – нехотя переспросил Лаврентий.
– Да тот вон! В красном плаще, на кауром жеребце, под стягом.
– Эх, Дубынюшка! Неужто не понятно? Князь это, пёсья старость.
– Нешто сам Димитрий, коего пренебрежительно Митькой величают? – продолжал удивляться Дубыня.
– Пёсья старость! Да, он это, Митька! – в сердцах бросил Лаврентий.
– Если так, то неправа молва. Негоже славного богатыря Митькой называть, пусть даже и враг он…
– Вот сейчас раскроит тебя, пёсья старость, славный враг мечом тяжёлым пополам, тогда язык прикусишь! – совсем уж рассердился Лаврентий.
– Правда ли, Андрей Васильевич, Митька перед нами? – не унимался Егорушка.
– Видать, и вправду, Митька это. Но почему не идёт через реку, чего ждет?
Кто из них не бывал в бою? Кто не слышал вой трубы и утробный грохот ратного бубна? Кто не был ослеплён едкими каплями бранного пота, не оглушён внезапными ударами меча? Кто не терял Божий свет из вида, вылетая из седла? Кто не задыхался от боли? Кто не терял разум, слыша вопли раненых? Кто не грыз землю, не рвал на челе волос, потеряв в бою товарища?
Ах, это напряжение перед началом боя, когда ждёшь, что враг вот-вот ударит! Уж сочтена каждая минута перед схваткой. Трепещет, замирая, сердце. Рука сжимает древко копья, срастаясь с ним в единое целое. Конь пляшет под седлом, клонит шею, натягивает повод, но остаётся на месте, удерживаемый властной рукой всадника. Вот глухо ропщет земля под тяжкой поступью вражеской конницы. Вот уж ясно различимы сосредоточенные лица врагов, слышны их воинственные крики, молнии воздетых для первого удара мечей блещут и, кажется, затмевают небесный свет. Наконечник каждого копья будто нацелен именно в твою грудь, и мнится, что самая смерть летит на тебя, взмахивая зловонными крылами.
Они услышали трубные звуки, грозное гиканье, плеск потревоженной воды, звон булата. Но всё это не здесь, не на этом лесистом склоне, приютившем их всего лишь на три дня. Звуки смертной сечи достигли их слуха издалека, оттуда, где выше по течению Любутки стоял сторожевой полк.
– Песья старость! – прорычал Лаврентий. – Говорил я тебе, Андрей Васильевич, что с хода они кинутся в атаку, не станут дожидать!
– На конь! – рявкнул Ослябя.
* * *
Скакали без утайки. Вослед им, с противоположного берега неслись обессилевшие стрелы – слишком легки оказались луки в свите князь-Дмитрия, и потому стрелы не достигали цели, с печальным шелестом падали в высокую траву. Не повезло одному лишь Северу. Пущенная верной рукой, стрела угодила ему в заднюю часть спины, рядом с основанием хвоста, у крестца. Конь вздрогнул от боли, но бега не замедлил. Как положено верному слуге, вынес своего всадника на место смертной сечи.
Они явились к шапочному разбору. Сторожевой полк литовского войска умирал быстро, застигнутый врасплох, смятый, растерзанный. Над истоптанным заливным лугом затихали человеческие стоны, досадливая ругань и дребезжащий звон булата. Высоко в небе кружили падальщики, готовясь приступить к пышной трапезе. Ослябя освободил Севера от тяжести своего тела, выхватил из чьей-то мёртвой руки оружие. Меч показался легковат, будто не из булатной стали был выкован, а вырезан из кости. Но искать другой, по руке не представилось возможности. Невдалеке кипела схватка. Бойцы с обеих сторон заметно устали. Исход могла решить любая случайность. Ослябя на пробу секанул лезвием нечаянно подвернувшийся смородиновый куст. Рука прошла по-над кустом ровно, без задержки, словно сквозь чистый воздух. Веточки, увешанные гроздьями зеленых ягод, осыпались на окровавленную траву. Острый! Минутное промедление: где свои? Где любутские дружинники? Над бранным полем мелькали лишь стяги московитов. Сколько их здесь? Один, два, три? Эх, большой силой навалилось московское воинство на сторожевой полк! Где же «Погоня»? Неужто Дмитрий Ольгердович пал или того хуже – бежал? Наконец взгляд нашёл знамя. У дальней опушки, над затихающей схваткой, то взмывая к небу, то пропадая за спинами сражающихся, реял белый всадник, скачущий по кровавому полю. Там оказался и сам Дмитрий Брянский, целый и невредимый, верхом, окруженный конными соратниками. Всего брянцев было человек двадцать, не более. Окруженные с трёх сторон полусотней противников, они пятились к опушке леса, но пока не бежали. Ослябя искал глазами своё знамя – белую храмину на зелёном поле в золотом солнечном окоеме и не находил. Ярость и отчаяние наполняли его легкие, мешая дышать.
– За что умирать станем? – подсыпал свою щепоть сомнений Лаврентий.
Ослябя обернулся. Старый дружинник сидел верхом на своем Дружочке, здоровенном гнедом жеребце. Север был рядом с ним. По бедру Ослябева друга сочилась кровь, но стрелы в спине уже не было – Пёсья Старость успел позаботиться.
– Ступайте в лес, прячьтесь! – зарычал Ослябя. – Вы последнее, что у меня осталось. Встрянете в бой – сам порешу. Помрёте легко, без мучений, обещаю.
– Андрей Васильевич…
– Сбереги мне коня, Лаврентий!
Ослябя рванулся с места. Его взгляд наконец нашел зелёное полотнище. Рваное, окровавленное, оно металось над сражающимися неподалеку от «Погони». Значит, жива ещё любутская дружина, не все пали!
– Стой! – кричал ему вслед Лаврентий. – Не ввязывайся! Ты без доспеха!
Ослябя знал: и Дубыня, и верный Лаврентий не ослушаются приказа. Он найдет их в лесу живыми. А пока – Погибель его имя. Неминуемая, неотвратимая Погибель.
Ослябя врубился в схватку, сея смерть и увечье. Странный меч с небывалой легкостью рассекал плетение кольчуг, разрубал кости, без задержки, словно воду, пронзал плоть. С головы до пят залитый кровью, оглохший от воплей боли и ужаса, перепрыгивая через мёртвые тела, Ослябя наконец добрался до своих.
Дмитрий Ольгердович, хоть и раненый, но держался молодцом. Превозмогая боль, он неутомимо отражал удары наседающих противников.
– Надо уходить! – прохрипел он, завидя Ослябю. – Отступаем в лес!
Но Ослябя не мог остановиться. Лица врагов превратились в неподвижные маски, подобные изображениям злых божеств на языческом капище. Он чуял лишь запах крови, слышал только лязг металла, видел только окровавленное острие своего меча. Наконец битва утихла. Они стояли полукругом, подпирая спинами древки стягов литовского и брянского. Вокруг них, в лужах крови испускали последние вздохи поверженные враги. Остатки передового полка московского войска на рысях уходили в сторону Любутки. Оттуда, с противоположного берега реки, трубили им отступление.
Алёша Ротарь в изнеможении упал на колени. Алые струйки окрасили его молодую бороду в бурый цвет, кровь капала на чеканный нагрудник. Алёша выпустил древко из ослабевшей руки, но Федька Балий не дал упасть стягу любутской дружины.
– Чего застыл, Ослябя? – прохрипел Дмитрий. Князь уже спешился. Его конь был тяжко ранен и едва держался на ногах. Шестеро оставшихся в живых дружинников, все пешие, все раненые, пятились к лесной опушке, с опаской посматривая в сторону Любутки. Оттуда явилась к ним лютая смерть, в ту сторону умчались остатки передового полка московского войска.
– Пятеро моих и один твой – вот все, кто выжил, – Дмитрий стоял, тяжело опираясь на рукоять меча. – Остальные пали… А ты-то, Ослябя, в кровище весь, не ранен? Как уберёгся без доспеха?
– С Божьей помощью… – тяжело дыша, ответил Ослябя.
– Да и меч-то у тебя чудесный. Не видывал такого! Откуда?
– Погибель это. На поле подобрал. Уж не упомню где.
* * *
– Они налетели, как ураган… – бормотал Алёша, неслышно шагая следом за Ослябей.
И ведь как идет! Ранен, едва жив от усталости, а всё равно ни один сучок под ногой не треснет. Вот что значит Ольгердова выучка! Так всю жизнь его войско по лесам да по оврагам крадучись шатается. Но на этот раз вышла незадача. Как верно Дмитрий Иванович войско навстречу литвину вывел! Словно знал доподлинно, в какую сторону старый вояка покрадётся.
– Злые глаза, косые лица… – продолжал Алёша.
– Косые, говоришь? – переспросил рассеянно Ослябя. – Разве они татары?
– Татары не татары, но очень уж лютые. Так набросились, словно мы род каждого из них под корень извели. А что мы ищем, дядя Андрей? Не может быть, чтобы кто-нибудь из наших выжил. Всё пали, все…
И он наконец заплакал.
– Схорон тут мой, Алёша. Щит, меч, доспех, муки мешок и сторож при добре, – ответил Ослябя. – А пали не все. Егор да Лаврентий, да мы с тобой, чем не дружина? Ты ступай-ка, парень, вкруг лужка, по краю леса. Встреть Лаврентия с Егором. Потом ступайте вместе на луг. Надо тела земле предать. Там и я вас разыщу.
* * *
Острые сучья, покрытые иглами ветви шиповника, словно привязчивые попрошайки, хватали за одежду. Ноги проваливались в прогнившие стволы, лицо облепила паутина, но Ослябя всё шёл и шёл в кромешной тьме сквозь непролазные дебри. Полная луна освещая верхушки крон, оставляя подбрюшье леса на съедение ночной темени. Было так темно, что Ослябя не видел собственных рук. Но он так устал, что и света белого не взвидел бы. Так билась в ушах его кровь, что не слышалось ничего, кроме её биения. Это и позволило врагу подкрасться. Едва Ослябя остановился, чтобы перевести дух, кто-то цапнул его за спину между лопаток. Да так крепко цапнул, что зубами с треском выгрыз кус кафтана. Ослябя обернулся, занося клинок для удара и замер, едва сдерживая смех. Зыбкий лунный луч, чудом проникнув под сосновую крону, осветил вороно-пегую морду Ручейка.
– Ах ты, паршивец! Сторож ты мой родимый! Ну-тка, показывай, где мой схорон. Да не спеши так! Пусти в седло, я едва жив.
Ручеёк дрожал, скалился, чуя кровь, но Ослябю к схорону с доспехами и едой доставил исправно.
* * *
До полудня следующего дня хоронили убитых. Лаврентий несколько раз отлучался на берег – посмотреть, послушать. Неизменно доносил одно и то же: вражеская рать стоит на противоположном берегу. Выставили дозоры, жгут костры, не унывают, но и к решительным действиям переходить не собираются.
Едва успев смыть с тела вражескую кровищу и пропитанную смертью грязь заливного луга, Ослябя был вызван в великокняжеский шатер. И поделом же! Разве настало уже время скорбеть о павших? Разве не настал час для решительной битвы, для окончательной победы над зарвавшимися родичами? Ишь ты, осмелели! Вышли навстречу, да как далеко назади осмелились стены кремля оставить! А ну как удача – развесёлая вертихвостка – вместо лика прекрасного явит непутёвым смельчакам изуродованный гнойными язвами затылок? Неужто бесповоротно в силе своей уверились? Неужто Ольгерда Гедиминовича прехитрого, осторожного, осмотрительного победить надумали? Да как победить! В чистом поле, в открытом бою!
– Почему они больше не нападают?! – ревел Ольгерд. – Зачем стоят на берегу без движения? Ну что стоит умелому полководцу перевести войско через овраг, а?
Ольгерд сдал, постарел. Ослябе нечасто приходилось видеть великого князя Литовского и Русского с обнаженным челом, без шелома и даже без собольего картуза. Теперь же этот лысый, обрамленный белой куделью кудрей, испещрённый синими венами, костистый череп Ольгерда выдавал превеликие его года. Старший брат Ольгерда, Кейстут, огромной грудой восседал в походном резном дубовом кресле. Натруженные мечом, покрытые шрамами руки князя Жмуди, Троки, Гродно и Берестья сжимали порожний кубок. В неровном свете очага лицо Кейстута походило на изваяние Перкунаса – жестокого божества, пращура рода Гедиминовичей.
– На этот раз не удалось тебе, брат, навязать Московии свою волю, – молвил Кейстут. – Смирись и думай, решай, как дальше поступить. Что толку в бесновании твоем? Который день уж стоим мы на берегах невзрачной речки. Душа дела просит! Не переусердствовал ли ты, брат, в опасливости своей? Дай нам волю, и мы преодолеем овраг, схватимся с врагом, а там…
Речь Кейстута была самым неприятным образом прервана Андреем Полоцким.
– Перейти реку, дяденька?! – взревел седоволосый воитель, обращаясь к старшему родственнику. – Коли мы отважимся спуститься в болотистый овраг, местными пахарями речкой Любуткой именуемый, то он-то и станет для нас готовой могилой! Не допустит нас московское войско на другую сторону оврага! Ни за что не допустит! Не напрасно ли вы, мои старшие родичи, пренебрежительно величали Митькой Дмитрия Ивановича Московского, великого князя Владимирского? Не напрасно ли не приняли во внимание великую мудрость митрополичью?
– Митька – трус! Избегает схватки, не вступает в бой… – чело Ольгерда сделалось багровым.
Грудь его, не вмещавшая гнев и смятение, судорожно вздымалась. Наконец великий князь Литовский рухнул на покрытое коврами ложе, пробормотал едва слышно:
– Невелика честь, быть помилованным заносчивым сопляком!
Ослябя неотрывно смотрел в лица первородных сыновей литовского князя. Смятение, неверие, горечь, стыд омрачали их души. Оба рассматривали узоры на княжеских коврах, пытаясь не замечать ни Ольгерда, ни Кейстута. Удрученный Дмитрий молчал, брезгливо кривя рот. Мужественный Андрей поглядывал на Ольгерда с пренебрежительной жалостью. К каким бедам, к каким унижениям приведет повиновение отцу? Вынужденное бездействие на виду у московской рати – срам и позор. Получалось, что каждый приход литовского воинства в Московскую землю выглядит невзрачней предыдущего. А на этот раз они и вторгнуться-то толком не смогли, остановились на рубежах. Переминаются стыдливо, словно неопытные отроки перед ложем записной блудницы. Позор, позор на их седые головы!
Между тем великокняжеское внимание обратилось к любутскому воеводе.
– А ты, Ослябя, послужи-ка нам ещё, – прохрипел Ольгерд. – Знаю я, не только на мечах ты здоров драться. Не только в кулачных боях победителем выходишь. Ступай-ка на берег. Смотри в оба. Сообщи, если случится время для ответного удара.
* * *
Ослябя садился в седло. Застоявшийся Ручеёк нетерпеливо перекатывал во рту грызло, перебирал ногами, надеясь на добрую скачку.
– Андрей Васильевич! – Дмитрий Ольгердович подошёл к его стремени вплотную. Огромен был князь Брянский! Бархатный верх его куньей шапки оказался вровень с Ослябевым плечом.
– Коли вновь сведёт нас судьба, – прогудел великан, – ты уж не забудь, как я ради твоего спасения солгал отцу.
– Не забуду, – отвечал Ослябя. – Да вот только рано нам прощаться. Стоять нам, князь, плечом к плечу. Стоять не перестоять.
Ослябя поудобней устроился в седле и зашагал в сторону реки, но, прежде чем скрыться в зарослях прибрежного ивняка, добавил, обернувшись:
– Не устыдись отца, князь. Позволь ему одержать последнюю победу, а там уж и решай, с кем тебе далее быть, а меня ложью не попрекай.
* * *
На этот раз казалось, что весь белый свет позабыл об Андрее Васильевиче Ослябе. Сидел Ослябя себе в секрете на берегу родимой Любутки. Сидел и один день, и второй, репку грыз, за супротивником наблюдал. Ручеёк скучал, толкал пёстрой мордой в плечо или в спину, бегать просился. Но куда ж тут побежишь, когда такие дела творятся!
Видел Ослябя из тайника Ольгердово посольство. Наблюдал, как под белым полотнищем примирения князь Андрей с братом своим Дмитрием переехали Любутку и как поднялись на противоположный берег.
Вроде бы встретили их там с добром, а под вечер того же дня случилось увидеть, как ехало посольство обратно, в Ольгердов лагерь. Князья возвращались довольные, вполпьяна – значит, успехом дела завершили. Собрался уж и Ослябя размять кости, Ручейка прогулять, остатки любезной сердцу дружины навестить. Но запутался, запнулся. Ох, и высоки ж травы на берегах Любутки! Эк ноги опутали, ступить невозможно! И шага не ступил Андрей Васильевич – так в полный рост и повалился в высокую траву. Мягко, тепло, приятно, с небес солнышко ласковое вечернее светит, под боком водица светлая журчит, а он уж не только ногами, но и руками шевелить не может. Только головушкой из стороны в сторону крутит. Глядь, а рядом с ним малец на корточках сидит, левой рукой за уздечку коня своего придерживает, на правую ладонь конец тонкой верёвки намотан.
Конь у мальца старый полудохлый. Вместо гривы седые космы. Один глаз слепой из-за бельма. Животина едва стоит, словно сей миг ляжет и уснёт или, пуще того – дух испустит. Малец тоже неприглядненький, да и одет бедно – в синих холщовых штанах и простой льняной рубахе. Однако справа на поясе висит колчан непорожний, а слева – налуч, в котором до поры покоится лук хороший, хоть и небольшой. Также на поясе болтаются ножны.
Что за юный пахарь? Да и что за оружие у него в ножнах? Для меча они слишком малы, для ножика слишком велики.
– Сабелька это, – молвил парнишка, словно угадав мысли. – Пером я владею много лучше, нежели мечом. Вот, наградил меня дяденька сабелькой. Бывает, я ею на вражьих мордах узоры рисую.
– Убьешь теперь? – осторожно спросил Ослябя.
Любутский боярин пытался ослабить петли верёвки, опутавшей его руки и ноги. Но всё тщетно. Как же ухитрился неказистый малец так его скрутить? Полонил самым постыдным образом, без боя. А как ухитрился обнаружить? Как место схрона смог раскрыть?
– А я из этих мест, – хмыкнул парнишка, снова угадав мысли. – Из городка Любутска, что теперь заброшен. С малолетства тут все закоулки разведал. Каждая излучинка мне знакома, каждый кусток. Каждый карась в Любутке меня приветствует и по имени-отчеству величает.
– Ври да не завирайся, – буркнул Ослябя. – Ишь ты! Любутский! Любутских не осталось почти. Я их всех знаю наперечёт.
– Конь тебя выдал, – будто не слушая, засмеялся парень. – Экий разноцветный!
Неказистый парнишка, некрасивый. Голова большая, а ростом невысок, неширок, некрепок. Лицо неправильное, но живое, подвижное, словно вода текучая. Смотришь, долго смотришь и оторваться невозможно, а любоваться-то не на что: нос пуговкой, глаза зеленые, как у Агафьи-покойницы, но маленькие и вокруг радужки тёмный ободок. Да и конь, опять же, под парнем невзрачный, ледащенький. Такой от врага не унесёт.
– Не в коне сила воина, – произнёс парнишка. А Ослябя уж привык, перестал дивиться его догадливости.
– У самого-то у тебя не животина, а чудо из чудес, – продолжал парень, посмеиваясь. – Что за окрас? Словно кто-то на него нынче утром белой краски плеснул. Его ж отовсюду видно, словно знамя полковое. Тоже мне разведчики! Разве так в дозор ходят?
– Да кто ж ты таков, чтоб меня учить?! – возмутился Ослябя. И так ему сделалось гневно, так чувствительно, что аж дышать стало невмочь. И говорит-то малец так дерзко, ни вида, ни взгляда, ни мощи Ослябиной не опасается.
– Да известно ли тебе, недоросток, что со мною, Андреем Ослябей, так дерзко и безнаказанно мог говорить один лишь человек на свете?! Да и тот человек – баба, жена моя Агафья. Да и то она уж седьмой год как мертва… Эй, парень, да что с тобой?
А с недоростком творилось неладное. Зачем-то конец веревки выпустил, зачем-то путы на теле Осляби принялся кромсать. Потом подумал, покумекал, рот скривил, на землю лег. Что такое? Не то плачет, не то смеется, ногами странно дёргает, лепечет непонятное. Прощения просит? Не поможет ему это! А может, стрела неслышно прилетела? Может, ранен? Ах, жалость! Сердце дрогнуло в Ослябевой груди, замерло, снова задрожало, заколотилось так, что аж дух занялся. И хоть не стало пут на нем, а всё равно с места двинуться невмочь. А парнишка-то между тем слова странные лепечет:
– Прости меня, прости… Не могу это слово произнесть. Отказывается язык, отказывает ум мой. Похоронил я тебя в душе моей, горе избыл, счастливо жить хотел. Думал я, бредит дяденька. Думал, снова к ковшику наприкладывался и побасенки сочиняет… Ну как, как мне произнести словцо заветное!..
Что за незадача? Что за срам? Парень вдруг пуще прежнего плакать принялся, да как плакать! Рыдать, биться! Ослябя к парнишке приблизился, на колени опустился. Ручеёк следом за ним, неотступно. Тоже парня жалеет: гривой трясёт, в ухо недоростка мордой тычет. А парень совсем себя забыл, плачет, ревёт уже в голос.
– Ты не ранен, сынок? – только и смог произнести Ослябя.
– Цел я, тятя… А дяденька-то правду сказал про тебя…
– Какой дяденька? – не веря ушам своим, пробормотал Ослябя.
– Братаник твой, Сашка Пересвет. Он по пьяни мне баял, как с тобой под московскими стенами дрался, да не поверил дяденьке сынок твой, Яшка Ослябев…
* * *
Они уселись на берегу Любутки. Вечерние стрекозы посверкивали призрачными крылами над бегущей водицей. Родная Любутка завивала пряди струй, ворковала нежно о прошедших годах, о потерянной семье, о забытых могилах, о неизжитой тоске, о нечаянной радости.
– Заберёшь Ручейка себе, – говорил Ослябя. – Он будет твоей боевой добычей. А про меня скажешь так: дескать, сначала стрелой его ранил смертельно, а потом и горло перерезал.
– Не поверят… – вздохнул Яков.
– Ещё как поверят! Коли Ольгерду Гедиминовичу против своих свойственников[30]30
Свойственники – близкие не по крови, а через брачный союз.
[Закрыть] со злодейским умыслом на бранное поле возможно выйти, почему же в угаре схватки сын не может отца своего положить?
– Как же мы расстанемся теперь? – не унимался Яшка. – Только нашлись – и снова порознь жить?
– Иначе не выйдет. Нельзя мне на Москву. Злой я человек, много вреда московским князьям принёс. Позорной смерти предадут – и будут правы.
– А мне с тобой?
– Своих предать? Семья – дело важнейшее, но не я сейчас твоя семья. Оставайся при Сашке и служи князю Дмитрию. Дмитрий молод, правое дело и сила за ним стоят.
– Почему?
– И хитроумен он, и силён, и мудрых советчиков имеет. Но главное не в этом…
– А в чём же, тятя?
– В вере православной он твёрд. Стоит за неё без сомнений и колебаний, в другом участь свою не мысля. У нас же всё иначе: то земные поклоны иконам животворящим, то бесовские камлания. Мерзость, неправота, куда ни посмотри…
– Послушай, тятя! Послушай меня! – Яшка аж подскочил. – Есть на Радонежье гора Маковец. От этого места недели три пути будет. Там скит, в скиту монахи живут и игумен Сергий среди них. Поначалу-то Сергий-игумен в этом месте долго один жил. Непролазные чащи кругом, безлюдье, тишина. Владыка Алексий рассказывал мне, будто к игумену Сергию во времена одинокого на Маковце жития мишка из лесу приходил. Будто дружили они… Вот так! Я сам один лишь раз владыку на Маковец сопровождал. Видел чудесного старца Сергия. Уууу, человечище! Я при нём и слова молвить не смел, хоть, вообще-то, болтлив. А ты-то, тятя, зачем так странно смотришь?
Ослябя и вправду смотрел на Якова молча и пристально – так, словно на целую жизнь родные черты в памяти запечатлеть пытался. Наконец, когда пришло время проститься, Ослябя достал из схорона тот странный меч, подобранный на поляне. Белое лезвие матово блеснуло на солнце.
– У меня нет для него ножен. Недавно приобрёл, ножны не успел спроворить. Ты уж сам, сынок, об нём позаботься, а он, глядишь, позаботится о тебе. Попробуй-ка. Мыслю я, что он как раз по руке тебе придётся.
Яков поднялся на ноги. Клинок, направляемый неуловимым движением кисти, в три взмаха искрошил в труху веревку. Ту самую веревку прочную, которой за несколько минут до этого был обездвижен непобедимый Андрей Ослябя.
– Да ты, я смотрю, умелец, – засмеялся Ослябя. – Видна, видна Сашкина выучка! Клинок хороший, сила в нём волшебная, и как раз он по твоей руке. Я назвал его Погибель. Теперь он твой.
* * *
Вороно-пегая гривка Ручейка мелькнула в зарослях ивняка и пропала. Унёс добрый конь Ослябева сынишку, нечаянную радость, вновь обретённую надежду. Андрей смотрел им вослед, улыбался беспечно, припоминая рассказ Якова о горе Маковец да о чудесном старце, живущем на ней. А что, если и вправду?.. И он побрел до своих: лечить Севера, думать, надеяться, принимать решение.
* * *
– Умей отличить опытного бойца от ярмарочного драчуна. А отличив, рассчитывай силы, старайся бить сразу насмерть. Не вздумай играть с опытным бойцом, язвить его, жалить попусту, подобно снулой весенней осе! Озлишь – убьет наверняка и быстро. Озлишь сильно – примешь смерть долгую и мучительную, но равно неминуемую. Не показывай всуе силу и умение, умерь гордыню. Гони прочь бесовское наваждение, тщеславием именуемое. Учись превозмогать соблазн скорой победы. Дай врагу побеситься вдосталь, дай восторжествовать и тогда рази. Рази насмерть. А сам-то смерти не бойся. Будь весел, будь беспечен перед лицом её безобразным. И она ужаснется, сбежит от твоего веселья, истает, подобно мороку, от беспечности твоей, – говоря так, Пересвет и сам был доволен своею речью.
Здесь, на дворе бояр Вельяминовых, он чувствовал себя, как у Христа за пазухой. Расхристанный, вполпьяна, в кованых наручах и нагруднике, надетых на голое тело, с Дрыной в правой руке и расписным ковшом в левой, Сашка являл собой зрелище притягательное, но не слишком уж потребное. Особенно для молодых девиц, коим престарелый управитель вельяминовского двора, Лука Старостин, строжайше запретил присутствовать при воинских упражнениях, особенно в те дни, когда Сашка возобновлял тесную дружбу с расписным ковшом.
– Эй, Староста! – вопил Пересвет. – Прикажи прислуге кадку студеной водой наполнить! Жарко нам, потно! Трудимся мы, жажда мучит, пот глаза застит!
– Воды ему подай! – ворчал Лука. – Где столько воды взять, каждая кружка наперечет. Пылью дорожной утрись, беспутный!
Засуха, мор, глад, колодцы пересохли. Чад, дым, гарь. Вокруг Москвы горят леса, посевы сохнут на корню, светопреставление! А тут проезжие прощелыги принесли вести и вовсе дурные. Ночевали они в сельце, неподалеку от Ржевы. Только на полати залезли, только засыпать начали, слышат шум, гам, треск, топот. Примчалась верхами хозяйская золовка, простоволосая, босая, почерневшая от страха. Чума, кричит, чума! Хозяева кабака оказались людьми добрыми, не стали родственницу ночью за порог гнать, в риге спать уложили. А наутро прощелыги эти проезжие чуть свет из опасного места подались. Пересвет забеспокоился, уж собрался десятника позвать, чтобы тот непрошеных гостей за городские ворота выставил. Но те слёзно божиться стали, клялись и крест целовали, будто две седмицы по лесам, по безлюдью таскались и в город стольный явились, только уверившись, что не больны.
От чумы одно лишь спасение: Божий промысел. Зачем бояться, когда перед тобой в ряд стоят ученики и смотрят на тебя с преданностью и надеждой? Юные, отважные, готовые внимать каждому слову, пусть даже спьяну, для похвальбы произнесённому. И ещё знал Пересвет, наверняка знал: смотрит на него сейчас боярышня Марьяша, сиротка, родственница Василия Вельяминова. Видит, видит, Пересвет серые её, ясные очи. Жмурится девица на яркое солнышко, через широкие щели меж досками в клеть засвечивающее. Жмурится, но взгляда не отводит.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































