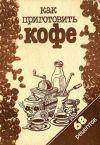Текст книги "Мокко. Сердечная подруга (сборник)"

Автор книги: Татьяна Ронэ
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Мне очень хотелось рассказать Арабелле о моих ночах. Мне не удавалось заснуть. Чтобы не беспокоить Эндрю, я уходила на диван в гостиной и дожидалась, когда ночь закончится. А она казалась бесконечной. Доктор предложил мне успокаивающие лекарства, снотворное, но я отказалась. Если же мне удавалось забыться тяжелым, непроницаемым сном, через несколько часов я резко просыпалась – с одышкой, ощущением огромной тяжести в груди, которая мешала дышать. Ужасное ощущение, что я вот-вот задохнусь, утону. Мои пальцы никак не могли нащупать выключатель. Сердце билось как сумасшедшее. Мне хотелось закричать, позвать Эндрю – настолько я была уверена, что умираю.
Мне хотелось рассказать все это Арабелле, освободиться от тяжести, которая угнетала меня, и больше об этом не думать. Пока она пила чай, Джорджия умостилась у нее на коленях. Арабелла не сводила с меня глаз. У нее удивительные глаза – бледно-голубые с желтыми пятнышками… Всегда такая сдержанная. Элегантная. Я знала, о чем она думает. Что ее невестка совсем себя забросила. Небрежно собранные в пучок волосы, лицо без макияжа. Обгрызенные ногти. Помятая одежда. И все же в ее взгляде я прочла любовь и ободрение.
– Не теряйте веры, Джустин. Не теряйте веры, darling.
В памяти вдруг всплыло все, что я знала о своей свекрови, о чем мы никогда не говорили. В молодости она серьезно заболела и чудом выздоровела. Их брак с Гари был трудным, полным конфликтов, но я не знала подробностей. С годами они научились лучше ладить друг с другом, однако в детстве Эндрю и его сестра Изабелла натерпелись от постоянных размолвок родителей. И наконец, last but not least[41]41
Последний по счету, но не по значению (англ.).
[Закрыть] печальным фактом семейной истории стала смерть их младшего сына, Марка. Эндрю тогда было восемь лет, Изабелле – шесть. Об этом никогда не говорили вслух. В квартире на Квин Гейт Плейс, где вырос Эндрю, среди его фотографий и снимков Изабеллы, развешенных на стене в холле, имелась фотография этого таинственного маленького мальчика с родителями, Арабеллой и Гари. Эндрю сказал мне: «В день, когда Марк умер, я все забыл». Я не осмелилась его расспрашивать. От чего умер? Как умер? Где? Я так этого и не узнала. Never explain и так далее.
Мне вспомнилось наше первое Рождество после свадьбы, в Лондоне, у его родителей. В квартире было ужасно холодно, однако этого никто, кроме меня, похоже, не замечал. Каждый угол стола был украшен остролистом, как и дверной проем. Омела, под которой полагалось обмениваться нежным поцелуем. Чугунная печка, которую топили день напролет и на которой готовились самые разные аппетитные яства. Дегустация mince pies – маленьких пирожных из песочного теста с джемом, которые традиционно пекутся к рождественским праздникам. Считалось, что нельзя разговаривать, пока не прожуешь такой пирожок, – это приносит несчастье. Изабелла и Эндрю, как могли, старались рассмешить мать, но Арабелла держалась изо всех сил и в стоическом молчании жевала свой mince pie.
Пока моя свекровь любовалась рисунками Джорджии, я пила чай и рассматривала ее лицо, слегка напоминающее лицо Вирджинии Вульф, ее руки, огромные и изящные. Арабелла была полна спокойной бодрости, гармонии, которая произвела на меня успокаивающее действие. Она была единственным человеком в моем окружении, кому это удавалось. Почему, ну почему она не приехала раньше? Почему я не подумала о ней в эти черные, тяжелые дни?
Она протянула мне несколько листков бумаги. Записка от Гари, полная ласковых слов. Длинное письмо от Изабеллы, такое нежное и сострадательное, что мне на глаза навернулись слезы. И послания других членов семьи – от тетушки Лилии, сестры Арабеллы, которая жила в Бате, от дядюшки Хамбо, брата Гари, из туманной Шотландии, от двоюродных сестер и братьев Эндрю: Сары, Вирджинии, Лоренса. Все желали нам мужества и посылали свою «love». Да-да, англичане «посылают свою любовь». Мне это выражение всегда казалось очаровательным. «Send you lots and lots of love. Send you all my love. Send Malcolm all our love»[42]42
Посылаем вам нашу любовь. Посылаю вам всю мою любовь. Посылаем Малькольму всю нашу любовь (англ.).
[Закрыть]. И маленькие крестики – ххх, символизирующие поцелуи.
Позже, у кровати Малькольма, когда Арабелла встала рядом и обняла меня за плечи, я полной мерой ощутила ее благотворную силу. В ее присутствии я оживала, куда-то улетучивалась пассивность, зато поднималась голова и расправлялись плечи.
Шепотом она спросила, как идет расследование. Я все ей рассказала. Ложный след, ложные надежды. Нерасторопность полиции. Судебные каникулы. Эндрю, терпение которого доводит меня до сумасшествия.
Арабелла стояла прямо, как «i», и ее заостренный профиль четко вырисовывался на фоне слишком белой, слишком гладкой стены. Она молчала, но я, как всегда, знала, что мыслями она со мной.
Рука ее так и осталась лежать у меня на плече, и в первый раз я черпала у своей свекрови силу, насыщалась ею, росла вместе с ней.
* * *
Он был дома. Запах сигарет проникал из-за двери на лестничную площадку. Оттуда же доносились звуки включенного телевизора, по которому шел футбольный матч. Он был один. Время от времени отвечал на телефонные звонки. Разговоры. Смех. Звук открывающегося холодильника, потом щелчок – и банка с пивом открыта. Близилась пора отпусков и каникул. Через несколько дней он собирался присоединиться к Софи в Осгоре.
На пыльный, грязный город опускалась ночь. Я была далеко от дома. И мое ожидание длилось долго. Я даже немного вспотела. Но ничего, я знала, что у меня получится. Я была готова. Пора! Он как раз говорил по телефону, несколько раз повторил, что Софи ждет его в Осгоре. Я позвонила в дверь. Он замолчал. Наверняка посмотрел на часы и удивился, кто бы мог прийти в такое время. Он что-то пробормотал. Я услышала, как он положил трубку, потом подошел и, не спрашивая, кто за дверью, распахнул ее. Распахнул так, словно совсем не опасался человека или людей, которые могли прийти к нему домой так поздно.
Когда же он узнал меня, лицо у него вытянулось. Он не знал, что сказать. Наверное, подумал, что я спятила, раз нашла его адрес и явилась в столь поздний час. На нем была черная футболка и старые джинсы. Ноги босые – ни носков, ни тапочек. Сейчас он показался мне более молодым, чем в комиссариате, где я всегда видела его в форме. У него за спиной я видела просторную однокомнатную квартирку с книжным шкафом и включенным телевизором. Мы довольно долго молча смотрели друг на друга. Потом он шагнул назад, давая мне пройти. Я вошла в квартиру и села на маленький диванчик перед телевизором. Озадаченный, он потер ухо, аккуратно закрыл дверь, приглушил громкость телевизора, но выключать его не стал.
Я сказала:
– Никто не может дать гарантий, что мой сын очнется.
Он кивнул, не отнимая руку от уха. Вид у него по-прежнему был растерянный. Набрав в грудь побольше воздуха, я продолжала:
– Вы, конечно же, скажете, что я не имела права приходить сюда, врываться в вашу квартиру. Что это полное сумасшествие с моей стороны и вы можете выставить меня за дверь. Но я пришла, только чтобы с вами поговорить. Сказать вам кое-что, вы понимаете?
Он снова кивнул.
– Время идет, а полиция до сих пор не нашла того водителя. У моего мужа, в отличие от меня, получается жить с этим. Он доверяет вам, не знаю, как это у него выходит, но он думает, что на расследование действительно нужно время, что такова процедура, и готов ждать. Я… Я ждать не могу. Это я и пришла вам сказать. Я больше не могу ждать.
Молчание. Он смотрел на свои босые ноги.
– Я знаю, что вы уезжаете в отпуск. К Софи, которая сейчас в Осгоре.
Он посмотрел на меня с подозрением и тревогой.
– Вы подслушивали у дверей?
Я не смогла сдержать улыбку.
– Да. Я знаю, что скоро вы уедете. Для всех пришла пора отпусков. Люди разъезжаются. Да, уезжают почти все. Но я никуда не поеду. Я остаюсь здесь. Вы знаете почему.
Снова молчание.
– Я пришла попросить вас кое о чем. Выслушайте меня, пожалуйста.
Он выключил телевизор и повернулся ко мне. Он помрачнел – было видно, что ему не по себе.
– Я немного могу сделать, мадам.
– Нет, вы можете много, Лоран. Перед тем как уехать в отпуск, разыщите для меня это имя. Пусть это долго, пусть у вас сокращенные рабочие дни, пусть вам скоро уезжать. Прошу вас! Вы же знаете, что из-за судебных каникул дело не сдвинется с мертвой точки раньше начала сентября. Вы это знаете.
Он встал и зажег сигарету. Потом отошел к раскрытому окну. На улице было совсем темно. Жара спала. С улицы доносились шум машин и голоса пешеходов. Летние звуки Парижа: смех, хлопанье дверей, шаги по тротуару. Довольно долго мы молчали. Он курил, время от времени поворачиваясь, чтобы стряхнуть пепел в маленькое блюдце. Я ждала. Я рассматривала его квартиру и пыталась представить жизнь этого молодого мужчины. На полке книжного шкафа – фото темноволосой девушки. Наверняка его Софи. Среди книг – произведения Марка Леви, Мэри Хиггинс-Кларк, собрание сочинений Агаты Кристи.
Он вздохнул:
– У вас мощная хватка.
– Я знаю.
– А если я найду это имя? Я не имею права вам его сообщить, вы это прекрасно знаете.
Он начал терять терпение.
– Я все равно найду способ его узнать.
– С помощью вашей подруги-адвокатессы?
Он посмотрел на меня с ироничной усмешкой.
– К примеру.
– А потом что вы собираетесь делать? Вершить правосудие своими руками? Поедете допрашивать тех людей, будете сами вести расследование? Как в кино?
Я подошла и положила руку ему на плечо.
– Нет, вы меня не поняли. Расследование и все прочее – это ваша работа. Работа полиции. Я же просто хочу знать. Знать, что этого человека нашли. Человека, который сбил моего сына. Знать, понимаете?
Произнося эти слова, я понимала, что не говорю всей правды. Знать, просто знать – этого мне недостаточно. Знать – это только начало. Я хотела знать все. Знать, почему этот человек не остановился в ту среду. Знать, как и почему он продолжает жить с таким грузом на совести. Знать, что он больше не в безопасности.
Я намеревалась его разыскать. Чтобы его жизнь переменилась, как моя жизнь и жизнь Малькольма.
Но я ничего этого Лорану не сказала. Поверил ли он мне? Вид у него был озадаченный. Он долго смотрел на меня своими светлыми глазами. Похоже, мое прикосновение его взволновало.
Я вдруг показалась сама себе смешной, жалкой. Бедная жалкая мать, слетевшая с катушек, существо на грани отчаяния. Наверное, ему было меня жаль. Мне же стало стыдно.
Я пробормотала:
– Простите, что надоедаю вам со своим делом. Я ухожу. Простите. Хорошего вам отпуска.
Я побрела к двери. Глаза застилали неизвестно откуда взявшиеся слезы. Он схватил меня за плечо и развернул к себе.
Так странно плакать в объятиях мужчины, который не мой муж и не мой брат! В объятиях чужого человека. Незнакомый запах, незнакомый затылок… Он обнимал меня крепко, как поранившегося ребенка, как человека, которому вдруг стало плохо. И говорил, что нельзя сдаваться, что я очень мужественная, что мой сын мог бы мною гордиться. Я слушала и плакала, плакала… Скоро футболка у него на плече стала мокрой.
– Обещаю, я вам помогу.
Я ему поверила. Улыбнулась, вытерла слезы и, даже не посмотрев ему в глаза, ушла.
Не знаю, чем он занимался той ночью. Наверное, вернулся в комиссариат, за свой компьютер. Ввел пароль, чтобы добраться до достославных досье STIC. Я узнавала, что это такое STIC. Компьютеризированная система обработки информации криминального характера. Имел ли он право это делать? Я не знала. Рисковал ли он чем-то? Он всегда мог сказать, что решил перед отпуском поработать сверхурочно. Сколько часов он провел в комиссариате? Сколько времени понадобилось, чтобы раздобыть искомое? Мне не суждено было это узнать. Когда я шла по улице Д., возвращаясь в свою тихую квартиру, он надел туфли, схватил ключи и отправился в комиссариат. Когда я ложилась спать на диване в гостиной, он уже сидел перед монитором и начинал поиски. А когда я провалилась в тяжелую полудрему, подстерегавшую меня ночь за ночью, он проверял каждую страницу, каждый техпаспорт, который подходил под критерии поиска. «Мерседес» старой модели. Цвет «мокко».
Я проснулась с болью в спине. Эндрю уже ушел. Джорджия играла в «Play station». Скоро должна была прийти Арабелла, она остановилась в одном из маленьких отелей на соседней улице.
Я включила мобильный, как обычно по утрам. Несколько сообщений: от сестры, решившей меня подбодрить, от подруги, которая уезжала в отпуск и желала мне терпения и мужества.
И еще одно, отправленное в четыре утра с неизвестного номера:
Марвиль Эва
Вилла «Etche Tikki»
Проспект Басков
Биарриц 64000
Я почувствовала, как замерло сердце. Мне вдруг стало трудно дышать, и пришлось сесть.
Марвиль Эва. Белокурая женщина за рулем.
То была она. Я была совершенно в этом уверена. Если Лоран прислал мне сообщение, то и он тоже знал это наверняка. То была она.
И теперь я знала.
Часть III
В зеркале ванной собственное лицо показалось мне свежее, чем обычно, веки – не такими опухшими, взгляд – более ясным. Можно было подумать, будто одного того, что я знаю имя и адрес этой женщины, достаточно, чтобы часть меня – редко дающая о себе знать, незнакомая – наконец ощутила облегчение. Я оделась как обычно. Никому не стала звонить – ни Эндрю, ни Эмме. Почему? Я и сама не знала. Я наслаждалась своим тайным знанием.
Эва Марвиль. Эва Марвиль.
Пока я пила чай, это имя крутилось в голове, как припев надоедливой песни. Я совсем не знала Биаррица. Я там никогда не была. Кажется, там имелся красивый отель – «Hôtel du Palais», у самого пляжа. Маяк. Волны. Скала Святой Девы.
Эва Марвиль. Блондинка за рулем. Женщина, которая не остановилась. Я решила, что никому не стану о ней рассказывать. Иначе получится как с Секреями – что-то снова не сработает. На этот раз я предпочла промолчать.
Я завезла Джорджию в развлекательный центр, оттуда поехала в больницу. Наклонившись над сыном, я прошептала ему на ухо:
– Ангел мой любимый, я знаю, кто это был. Я знаю, кто это.
На мгновение мне показалось, что он сжал мои пальцы. Слышал ли Малькольм мой голос, ощущал ли прикосновение моей щеки к своей щеке? Слышал ли он меня в своем странном забытье? Что собой представляла его кома? Снились ли ему сны? Или он пребывал в постоянной темноте, куда не проникал свет? Интересно, какой язык он слышал в своих снах, на каком языке думал? Однажды сын признался мне, что двуязычие причиняет ему серьезные неудобства. Получалось, что у него нет родного языка. Он выучил два одновременно: английский благодаря отцу, французский – со мной. Еще он сказал, что сожалеет о том, что у него нет чувства родины, потому что волнение в душе в равной степени вызывает и «Марсельеза», и «God Save the Queen»[43]43
«Боже, храни королеву» – британский национальный гимн (англ.).
[Закрыть], и он не знает, за кого ему болеть во время матча футбольных сборных Англии и Франции. «Я словно бы сижу меж двух стульев! – часто восклицал Малькольм. – Наполовину лягушка, наполовину ростбиф! Отвратительнейший микс! Доказательство того, что две нации, которые обожают ненавидеть друг друга, способны влюбиться и родить общих детей. Забавно, правда?»
Однажды он спросил у отца, почему англичане и французы так презирают друг друга. Эндрю с ироничной усмешкой ответил: «Англичане ненавидят Лягушек за то, что они убили их принцессу». Малькольм воскликнул: «Bollocks!»[44]44
Чушь, ахинея (англ., груб.).
[Закрыть] Отец даже не сделал ему замечание за то, что он употребил довольно грубое слово. Но в тот вечер я поняла, что моему сыну не слишком нравится постоянно жить в смешении культур. И что, возможно, в подростковом возрасте ему будет еще тяжелее переносить то, что он так отличается от большинства своих сверстников.
Когда я вышла из больницы, на глаза мне попался рекламный плакат. На нем была изображена загорелая брюнетка, лежащая на смятых простынях. Она была обнажена. И надпись огромными буквами: «CHARNELLE»[45]45
Чувственная, плотская (фр.).
[Закрыть]. А ниже такая фраза: «Сладострастная магия, которая овладевает вами». Это была реклама того самого парфюма, с переводом пресс-релиза к которому я столько мучилась. Парфюм, от которого несло камфарой и который наводил на мысли об ингаляциях, который проходил в рекламных текстах под кодовым номером. Это граничило с сюрреализмом: изображение обнаженной томной женщины – квинтэссенция ничтожества, и мой сын в коме, там, в мрачной палате, в больнице, у меня за спиной.
Болезненный контраст картинок. Рекламные плакаты нового парфюма были буквально на каждом углу. От них просто не было спасения. В витрине парфюмерного магазина эта брюнетка заняла все пространство, из конца в конец. Все теми же плакатами пестрели автобусные остановки. Я не хотела на них смотреть. Я просто не могла на них смотреть. Мне вдруг стало не по себе. Я ощутила, что меня охватывают отчаяние и страх. Руки и ноги вдруг начали подрагивать. Взгляд упрямо старался избежать столкновения с рекламным баннером, когда я покидала больницу.
Пришло время. Пора сделать что-то конкретное. Я хотела взять дело в свои руки, верно? Так вот, теперь у меня появилась такая возможность. И я сделаю это сама, без чьей бы то ни было помощи. Потому что я так решила!
Эва Марвиль. Биарриц.
У меня появилось ощущение, что время остановилось. Оно все тянулось и тянулось. Оно утратило темп и ритм. Размякло, растянулось. Это было так странно, что у меня разболелась голова. На вокзале «Монпарнас» я купила билеты: три билета на высокоскоростной поезд до Биаррица. Для Арабеллы, Джорджии и меня. Ни свекровь, ни дочь понятия не имели о моих планах. Я им ничего не сказала. Это было так просто – заказать, заплатить, забрать билеты. Отправление в четверг утром. В четверг мы едем в Биарриц. Что потом? Увидим. Вопрос с отелем уладим на месте.
Вернувшись домой, я так никому ничего и не сказала. Меня ждала работа: предстояло разобраться со счетами и почтой. Я не стала включать компьютер, не распечатала письма. Я просто тихо сидела за своим письменным столом. Я никому ничего не рассказала, и когда Эндрю признался мне в измене. Никому, ни слова. Не захотела делить ни с кем этот стыд, эту боль. Молчание защищало меня. Я не смогла довериться даже сестре, подругам. Но я настояла на том, чтобы узнать о той женщине все: какая она и почему мой муж занимался с ней сексом. Знание это причинило еще больше боли. Эндрю не знал, что отвечать. Он смущался, говорил невпопад. Я узнала массу отвратительных подробностей. По его словам, отношения с той женщиной ничего для него не значили, это было идиотство, чепуха. Поэтому он и рассказывал мне все. Но мне было очень плохо. Она была полной противоположностью мне: рыжеволосая, невысокая. Я представляла себе ее тело. Руки Эндрю скользят по ее коже. Эндрю в ней. Их связь продолжалась год. Потом Эндрю разорвал отношения. Она любила его. Он, по собственному признанию, любил меня. Сидя за столом, положив ладони на столешницу, я сказала себе, что лучше бы снова пережила ту, давнюю боль, тот ужас, когда Эндрю ощутил необходимость рассказать все об их интимных встречах, о месте, где эти встречи происходили, об одежде, которую она носила. Та боль была мне знакома, я уже пережила ее однажды. И знала, как свернуть ее в комок и швырнуть под кровать.
Та боль была не сравнима с ужасом, который жил во мне теперь. Ужасом, овладевшим мной в день, когда Малькольма сбила машина. Я хотела одного – чтобы мне вернули сына. Вернули невредимого – не мертвого и не в состоянии маленького овоща, подключенного к врачебному аппарату. Верните мне моего Малькольма с его низким голосом, голубыми глазами и кроссовками сорок четвертого размера! Верните мне его вместе с его прошлым, его настоящим и будущим, которое его ждет, когда он станет подростком, который не желает убирать в своей комнате, выключать компьютер, мыться в душе, делать домашние задания. Верните мне его со всеми его недостатками, с его нахальством, его грибком на ноге, со шрамом на предплечье и пластинкой для исправления прикуса, которую мы как раз собирались заказать у дантиста. Верните мне Малькольма со всеми воспоминаниями, которые следуют за ним, как рыбки-лоцманы за акулой: двухлетний Малькольм с напряженным лицом сидит на горшке и голосом премьер-министра вещает: «Нужно ждать!»; Малькольм, снова вернувшийся из школы после двух часов дополнительных занятий в качестве наказания за то, что осмелился отпустить комментарий по поводу произношения преподавателя английского; пятилетний Малькольм, который сказал мне вскоре после смерти прадедушки: «Посмотри на небо, мама. Видишь самолет? Этот самолет – душа дедушки, помаши ему рукой!»; десятилетний Малькольм во Флориде плавает с дельфинами, схватив одного за плавник и ошалев от счастья… Верните же мне моего сына, черт возьми, чтобы я увидела, как он растет, легко перерастает мои метр семьдесят три сантиметра и достигает высот своего отца. Верните мне моего малыша, плод моего лона, невероятное и уникальное смешение франко-английского духа, смесь Эндрю и меня: удлиненное лицо Эндрю, его голубые глаза, мои брови, мой подбородок. Верните мне моего маленького франгличанина!
* * *
Однажды летом в Сен-Жюльене, пять или шесть лет назад, приехав в пятницу вечером, мы обнаружили в комнате Малькольма большое гнездо шершней. Оно располагалось у окна и было похоже на светло-желтый шар. По комнате летало несколько десятков шершней. Эндрю настоял на том, чтобы вызвать пожарных. По его мнению, с шершнями шутить не стоило. Два укуса один за другим – и человеку конец.
Приехали пожарные в костюмах, напоминавших одеяния пчеловодов, которые произвели огромное впечатление на Джорджию, тогда еще совсем маленькую. Мы вчетвером сидели в нашей с Эндрю спальне, пока они уничтожали гнездо. Это заняло около получаса. Потом мы долго рассматривали выпотрошенное гнездо в мусорном ведре. Удивительная конструкция, идеально симметричная, состоящая из расположенных по спирали тысяч ромбовидных ячеек с личинками. Семилетний Малькольм долго молчал. Из всех комнат дома шершни выбрали именно его спальню, и вот их прекрасное гнездо разрушено, часть насекомых убили, остальных прогнали. Он вдруг расплакался от гнева и печали и ничего не хотел слушать о том, какую опасность представляют собой эти насекомые.
Почему мне вдруг вспомнился именно этот день? Воспоминания, связанные с сыном, неожиданно всплывали в памяти, заставляя замирать мое сердце. Переживал ли Эндрю нечто подобное? Он об этом не рассказывал. Он закрылся в своей тайной пещерке, куда мне путь был заказан. Впрочем, у него было на это полное право. Каждый реагирует по-своему. Каждый защищается, как может. Некоторые предпочитают забыться ожиданием. Другие идут вперед на свой страх и риск. Я знала, что Эндрю выбрал ожидание. Я – действие. Грустно было только то, что я нуждалась в нем. И не способна была об этом ему сказать.
Тринадцать лет. Думает ли тринадцатилетний подросток, что его жизнь может оборваться? Нет, конечно, этого просто не может быть! Тринадцать лет – это только наметки, эскиз будущего взрослого человека. Тринадцать лет – рассвет, начало жизни. Никто не должен умирать в тринадцать лет. Об этом не может быть и речи.
Повинуясь внезапному порыву, я принялась перебирать старые бумаги. О своей ранней юности я помнила мало. Мучительный, утомительный период. Костлявые ноги, комплексы, более симпатичная сестра… Не без труда, в забытой пыльной папке я нашла фотографии своего класса, письма, документы. Вот я в возрасте Малькольма. Я никогда ему ничего этого не показывала. Теперь эта девочка на фотографии кажется мне намного симпатичнее, чем в то время, когда фото было сделано. Длинные каштановые волосы, лукавые искорки в глазах. Джинсы фирмы «MacKeen». Свитерок с аббревиатурой калифорнийского университета UCLA. Черные шведские сабо. Значок с фотографией шведского теннисиста Бьёрна Борга. Туалетная вода «Green apple». К своему удивлению, я вспомнила день, когда была сделана эта фотография нашего класса. Слева от меня – Мадлен, у нее слишком сильно накрашены глаза. Роксана и ее декольте. Антонелла и ее узкие джинсы «Levi’s». Кристин и ее ультракороткая стрижка. Мы все уже тогда были маленькими женщинами. У нас за спинами, прямые как свечки, выстроились мальчики – с выступающими адамовыми яблоками и лицами, усыпанными подростковыми прыщами.
Глядя на эту фотографию с пожелтевшими краями, я поняла, что в тринадцать уже не считала себя ребенком. Я читала «Лолиту» Набокова, у меня был возлюбленный – как там его звали… ах, да, Людовик, – и я многое понимала об окружающем мире, о любви, о том, как хрупка жизнь. Открытие это потрясло меня. Выходит, Малькольм уже столько всего знает! Достаточно было посмотреть на собственный портрет в его возрасте, чтобы лучше понять его, моего сына. Возможно, он не обладает еще внутренней зрелостью, в этом девочки обычно опережают мальчишек, но уже находится на пути к взрослению, к юности – со всеми ее трудностями и переменами…
Эва Марвиль, блондинка за рулем автомобиля цвета «мокко» старой модели разрушила все это, потому что в ту среду в обеденное время куда-то торопилась. Сбила подростка на переходе, уехала и теперь, беззаботная, продолжала жить своей жизнью в Биаррице, в то время как Малькольм увязал во тьме и я вместе с ним.
Зазвонил телефон. Я позволила включиться автоответчику. Мои родители. Они ездили к Малькольму в больницу и рассчитывали застать меня там. Голос у мамы, как обычно в таких ситуациях, был неприятный, плаксивый и дрожащий. «Крошка моя дорогая, мы так переживаем за тебя, бедная моя девочка, и за твоего сыночка. Твой отец и я, мы много думаем о тебе. И как ты только держишься, котеночек мой, лапушка моя…»
Я испытала приступ тошноты. Второй раз за день: первый был, когда я увидела рекламный плакат. Я вышла из комнаты, я просто не могла больше это слушать. Этот голос, эти слова. Ты спрашиваешь, как я только держусь, мама? Я просто не могу по-другому. Мама, мне остается только держаться или сдохнуть. Ты это понимаешь, или я открыла для тебя Америку?
Во мне росло презрение к матери. Неужели это норма – дожить до сорока и вдруг понять, что презираешь родителей и в этом нет твоей вины? Не в подростковом возрасте мы их презираем, нет, это случается намного позже, когда мы понимаем с каким-то ликующим ужасом, что ни за что не хотим быть на них похожими. Об этом не может быть и речи.
Мама, ну почему ты так не похожа на мою свекровь? Почему у тебя нет ее чувства такта, ее умения поддержать, ее внутренней силы? Почему тебе обязательно надо все проговаривать, выворачиваться наизнанку перед окружающими? Почему ты всегда отступаешь перед трудностями, стонешь и жалуешься? Почему вы с папой опускаете руки, хнычете, смиряетесь? В отличие от вас, я держусь, мама, держусь, твоя бедная девочка держится. Я держусь, потому что в четверг я уеду, чтобы увидеться с той женщиной. Встретиться с ней лицом к лицу. Ткнуть ее носом в ее же собственное дерьмо. Уеду, увижу ее. Я хочу понять. Если я этого не сделаю, я сдохну, мама!
Вот так, моя бедненькая, вечно хнычущая мамочка… Передай привет своему муженьку, раньше времени превратившемуся в старую развалину, моему отцу.
* * *
Я не отвечала на письма, приходившие по электронной почте. Мои клиенты пребывали в полнейшем недоумении: что случилось с Жюстин Райт, безупречно выдававшей результат в указанный срок и никогда не опаздывавшей? Я не отвечала на их телефонные звонки, не обращала внимания на письма. Я ждала четверга.
Вечером в среду Эндрю спросил:
– Что происходит? Ты какая-то странная. Ты не заболела?
Я посмотрела на него и невесело улыбнулась.
– Нет, я не заболела, Эндрю.
Он выглядел растерянным. Он не понимал. Оказывается, он считал, что это я замкнулась в себе.
– Но я могу сказать то же самое о тебе, Эндрю! Ты тоже замкнулся в себе. Мы живем параллельными жизнями, которые пересекаются только у кровати нашего сына. Неужели ты этого не замечаешь?
Нет, он ничего такого не заметил. По его мнению, отчуждение произошло по моей инициативе. Это я погрузилась в себя. Это я перестала с ним разговаривать. Он сказал, что мне следовало бы подумать о нем, о Джорджии. Следовало бы сделать над собой усилие. Еще мне нужно привести себя в порядок. По мнению Эндрю, я слишком запустила себя – не слежу за прической, ношу бог знает что. Мне нужно бы чаще смотреться в зеркало. Нужно что-то с этим делать!
Я рассвирепела. И как он только смеет? Как он может говорить мне такие вещи? Мне захотелось его ударить, совсем как свою мать несколько дней назад. Но в следующую секунду мне уже было на все наплевать. К чему драться с собственным мужем? Я отвернулась. Повернулась к нему спиной.
Стена – вот во что мы с ним превратились. Спина к спине. Он – в своих переживаниях, я – в своих. И ни он, ни я не можем поделиться своей болью друг с другом. Не можем помочь друг другу. А ведь в трудные моменты нашей жизни Эндрю всегда был со мной рядом. И я, я тоже всегда его слушала, давала советы. Мы были одной командой. О нас говорили: Жюстин – болтушка, проказница, шутница, а Эндрю – скала, Эндрю – молчун. Замечательная команда. Команда, которой все нипочем. Когда наши друзья вдруг стали по очереди разводиться, оспаривая друг у друга право опеки над детьми и сражаясь за алименты, мы держались. Скала и смех. Сила и радость жизни. Райты. Жюстин и Эндрю – крепкий союз. Жюстин и Эндрю – это на всю жизнь. Ну да, какое-то время Эндрю встречался с одной рыжей, но это так, маленькая «постельная история». Они сумели «перевернуть страницу», Жюстин подала пример, как должна вести себя достойная супруга, Эндрю – пример искренности, и гроза миновала. Жюстин и Эндрю – прекрасная пара. Спина к спине. Стена. Я – в гостиной. Он – на нашей постели. Мы – прекрасная пара…
В темноте гостиной я смотрела на потолок. Завтра мне придется поговорить с Арабеллой. Но что сказать? Как объяснить? «Мы с вами едем в Биарриц, чтобы я смогла встретиться с женщиной, которая сбила Малькольма. Я хочу увидеть ее до того, как к ней придет полиция. Хочу понять. Джорджия едет с нами». Абсурд? Сумасшествие? Нет. Она поедет. Арабелла поедет, я это знала. Завтра.
Завтра. «Завтра на рассвете, в час, когда над полями забрезжит свет, я отправлюсь в путь». Малькольм учил это стихотворение в прошлом году. Виктор Гюго. Стихотворение на смерть его дочери Леопольдины, утонувшей вместе со своим супругом. Малькольм рассказывал его мне в кухне, держа свою морскую свинку на коленях. «Я пойду лесом, пойду через горы»… Голос Малькольма звучит в моей голове. И мурлыканье морской свинки. Я стою с учебником в одной руке и с деревянной ложкой, которой время от времени помешиваю макароны, в другой. «И когда я приду к цели, я положу на могилу букет из зеленого остролиста и цветущего вереска».
Завтра, на рассвете… Поездка. Эва Марвиль, которая ни о чем не догадывается. В этот час она будет спать в своей постели. Она не будет знать, что завтра я сяду в поезд и каждый пройденный километр будет приближать меня к ней. Она будет спокойно спать. Что ж, спите, мадам. Спите крепко и ни о чем не тревожьтесь…
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!