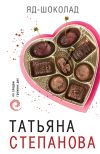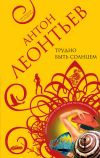Текст книги "Часы, идущие назад"
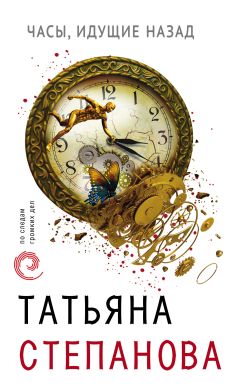
Автор книги: Татьяна Степанова
Жанр: Полицейские детективы, Детективы
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Глава 12
Судья
Возможно, те, кто когда-то жил в этом купеческом особняке, отданном под музей, любили подслушивать. Или внутренняя отделка имела изъян, но он слышал каждое слово, доносящееся из зала коллекций.
Их разделяла только стена, на которой висел портрет мертвой жены купца. А с другой стороны стены к залу коллекций примыкала комната библиотечного фонда, приспособленная для работы, вобравшая в себя черты старой музейной библиотеки и офиса. Здесь стоял удобный стол без тумб и ящиков – у самой стены. Так что слышно было превосходно.
Бывший председатель районного суда Петр Репликантов сидел за столом над раскрытыми старыми конторскими книгами и пожелтевшими чертежами. Но сейчас он отложил все в сторону – он слушал. Говорили о нем. И еще о разных вещах.
Репликантов по договоренности с музеем имел допуск в библиотечное хранилище, но, хотя теперь у него была масса свободного времени, приходил сюда нечасто. Лишь когда сносно себя чувствовал и надеялся продержаться целый день без приступов и лихорадочного приема таблеток. И еще потому, что в библиотечный фонд по будним дням часто, точно гадюка, заползала она – Машка Молотова, старая хитрая тварь. Вон и сейчас ее отродье – племянник – как тень бродит по залам.
Судья напряженно слушал, однако голоса стихли.
Но пока и этого было достаточно. Итак, полиция явилась в музей. Вот так сразу. Как только фотограф сдох, они пришли именно туда, куда и надо было прийти.
Хотя имелись и другие места. Но музей всегда фигурировал в списке. И что же это означало? Откуда полицейским стало известно то, чем они интересовались и о чем спрашивали? Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться: они кое-что узнали, причем сразу. У них имелась некая информация.
А что это значило? Лишь одно: проклятый фотограф успел что-то разнюхать.
Что он узнал? Что нашел?
Судья Репликантов напряженно смотрел на стену, что пока отгораживала, защищала его от вопросов полиции и самих полицейских. Это ненадолго. Они придут и к нему со своими вопросами. Надо подготовиться к этой встрече. Он проработал в правоохранительной системе достаточно и знал, что в некоторых случаях, когда попадаются особо рьяные полицейские, они начинают копать и копать, давить и давить, собирать информацию по крохам и в конце концов узнают, как оно было на самом деле.
Хотя это почти нереальная вещь – установление истины. Той самой истины, в ее конечной ипостаси. Он слишком долго проработал судьей, чтобы не сомневаться в этом.
Как судья и профессионал Петр Репликантов ценил себя очень высоко. За его плечами были годы судейства, и он до конца оставался честным и беспристрастным судьей. Он в полной мере выполнял свой долг, служил правосудию ревностно и фанатично, не потому что желал быть честным и беспристрастным, а из чувства полного презрения к окружающему его миру. Он просто не желал становиться частью всего этого распада и тлена. Он не хотел уподобляться им.
Тем, кого видел-перевидел за свою долгую карьеру судьи. Тем, кто умел приспосабливаться, ловчить, ползать на брюхе, холопски раболепствовать, держаться мейнстрима под несущееся из всех телевизионных щелей и дыр злобное кваканье, под нескончаемую травлю и словесный понос. И при этом воровать и тырить бабло, прятать, писать доносы, участвовать в провокациях, где одни ублюдки ловили на липовых взятках других ублюдков и при этом лжесвидетельствовали и лгали, страшась, однако, повторить свои обвинения в суде, и даже не скрывали, что надменно, по-хамски презирают и суд, и закон. И при этом снова тырили и стяжали, старались сохранить накопленное, фиктивно разводились с женами. Готовы были ради сохранения своих капиталов и должностей отказаться от детей и родителей, тягали друг у друга то, что еще можно было отнять и поделить. И опять, опять писали доносы и докладные, устраивали провокации, сажали друг друга, корча из себя служивых людей, но при этом оставаясь в душе рабами и дрянью, готовой в единый миг изменить и собственное мнение, и свою жизненную позицию.
Судья Репликантов презирал все это. И он был строгим и справедливым судьей, опираясь на свое презрение. Порой от них и от их поступков хотелось блевать, а он выносил приговор.
Но с некоторых пор и это отошло на второй план. Стало неважным. Может, болезнь была тому виной.
С тех пор как врачи сказали ему, мир как-то сузился вокруг него. И все бытие свелось к одной-единственной цели. К одному-единственному желанию. Которое он жаждал исполнить.
Свою отставку в этом свете он воспринял как освобождение от оков. У него просто уже не было времени на все это – на правосудие, амбиции. Он должен был сосредоточиться на самом главном. Жизненно важном.
У судьи Репликантова имелась и еще одна черта: он не испытывал жалости. Когда-то именно это помогало ему быть беспристрастным и справедливым. Он не жалел тех, с кем сталкивался в процессе.
Не жалел он и покойного фотографа Нилова.
Он лишь хотел знать, что стало известно этому молодому идиоту. И как, как он докопался, как сумел?! Почему он?! Где он это нашел?!! Там, в Доме у реки? Значит, он не единожды приходил туда, ошивался там и… С какой стати именно ему выпал такой шанс, когда он, судья Петр Репликантов, положил месяцы и годы, чтобы…
Это ли не насмешка судьбы?
Судья Репликантов достал из кармана пиджака таблетки. И проглотил две. Он уже давно привык не запивать лекарство.
Он тупо смотрел на пожелтевшие чертежи, которые отыскал в библиотечном фонде музея. Это были старые чертежи фабричных корпусов. И чертежи по строительству башни. Кипа плотной бумаги с пометками на английском языке. Строительные пометки его не интересовали – он все равно ничего не понимал в архитектуре и инженерных штуках. И самое главное в чертежах отсутствовало – та их часть, которая относилась к часам. К устройству часового механизма. Имелся лишь небольшой рисунок гуашью, эскиз циферблата и стрелок.
Они не изменились с тех пор. Он часами их рассматривал, гуляя возле башни.
Гляди-ка, Окорок шествует… На прогулку выполз…
Он знал, как его за спиной зовут в городе. И это он тоже презирал – и кличку, и городских недоносков. Его упрекали в том, что он и его семья – не нищеброды, как остальные, что они сумели хоть что-то сделать полезное, организовали ферму по выращиванию свиней, чтобы кормить этот сучий Горьевск колбасой и сосисками. Они – горожане – смеялись и упрекали его за то, что он кормил их свежим мясом по сходной цене! Где, в каком месте еще такое возможно – весь этот дикий абсурд, вся эта нищая жлобская зависть!
Но и это тоже отошло на второй план. Его обида на город, его малую родину.
Болезнь учит многое отсекать от себя как уже малосущественное и неважное.
Важной оставалась теперь для Репликантова одна вещь на свете. Он хотел, чтобы его желание – одно-единственное желание – исполнилось. Он искал способ сделать это.
И пока это не представлялось возможным. Он никак не мог найти то, что искал. И фабричные чертежи не помогали.
Не могли помочь и старые конторские книги – это была малая часть фабричного архива, как-то ухитрившаяся не кануть в небытие. Среди расходных и бухгалтерских книг, исписанных приказчиками фабрики, Репликантов нашел распадающуюся на части тетрадь в переплете из телячьей кожи, всю исчерканную чернилами, заполненную колонками цифр – по годам. Он был уверен, что это личная расходная книга старого купца Шубникова. Возможно, он вел ее там, в Доме у реки, когда сидел в помещении своей несгораемой кассы за конторкой и наблюдал в зарешеченное окно, как строятся фабрика и башня.
Среди корявых пометок и бухгалтерии на страницах, относящихся к 1858 году, имелись разводы – словно какие-то записи пострадали от влаги, а может, их намеренно так размазали – замазали. Но среди всей этой неразберихи, синих чернильных разводов и пятен внимательный судья Репликантов, вооружившись лупой и сильными очками, сумел разобрать одну фразу.
«Не подходит. Больной…»
Это было выведено дрожащим неуверенным почерком на полях.
И судья Репликантов не имел сомнений в том, что автор записи – сам старый Шубников, их отец…
Глава 13
Дом с башнями
11 апреля 1903 года. Вечер
Жизнь инженеру Найденову спасли – Игорь Бахметьев сам, лично, вместе с управляющим Иосифом Пенном отвез его в больницу, к хирургу. Кучер Петруша так гнал всю дорогу, что едва не опрокинул шарабан. Инженер потерял много крови и, возможно, навсегда утратил способность говорить. Но Елена Мрозовская ожидала худшего, и поэтому новость о том, что инженеру сделали срочную операцию под хлороформом на гортани, ободрила ее.
Она не хотела знать, что происходило в Доме у реки после того, как Аглаю привязали к креслу. Управляющий фон Иствуд сразу перевез ее в Дом с башнями – так в Горьевске называли фамильный особняк Шубниковых. Памятное для Елены Мрозовской место. Слишком памятное. Она со страхом переступала порог и этого дома. Она хотела одного: чтобы в данный момент Игорь Бахметьев находился рядом. Но из больницы он сразу уехал на фабрику. А она все ждала его, ждала. Она осмотрела свой фотоаппарат Мите. От удара об пол разбился объектив. К счастью, остальное осталось цело. И можно было извлечь стеклянные пластины-негативы и делать фотографии, чем она и занялась – в одиночестве, в полной темноте, в душной комнате с закрытым ставнями окном, в башне, где была для нее уже оборудована незамысловатая фотолаборатория. Все необходимое фон Иствуд перечислил – указывая на полки с реактивами и химикатами.
Мрозовская работала до самого вечера, прислушиваясь к царившей в Доме с башнями заполошной суете. В особняке сохранилась старая прислуга Шубниковых, которая многое знала и многое помнила из того, что стряслось здесь полтора года назад, да и раньше. Но все хранили молчание, у всех был запуганный вид. Фон Иствуд в отсутствие Бахметьева отправил в Дом у реки здоровенного лакея на подмогу сиделкам.
В шесть часов вечера в дверь фотолаборатории робко поскреблась горничная, спросила: «Подавать ли обед, мадам?» От еды Мрозовская отказалась. Тошно было подумать о еде после того, что стряслось утром. Да и эти стены… этот особняк…
Она ощущала, как дрожат руки, когда возилась с химикатами, чувствовала, как дрожат колени. Как она замирает от малейшего шороха, от дуновения сквозняка, от скрипа паркета.
Оставив фотоснимки сохнуть, она заперла импровизированную фотолабораторию на ключ. И пошла по анфиладе комнат, присматриваясь к тому, что изменилось в особняке Шубниковых с тех пор, как она в страхе и ужасе покинула его.
Многое изменилось. В некоторых залах почти не осталось мебели. В других кресла и диваны укутали белыми чехлами, и холщовые чехлы обтягивали дорогие хрустальные люстры. Со стен исчезли картины. Нет, Игорь Бахметьев, в чьем ведении как главного опекуна теперь находился особняк, не распродавал имущество и антиквариат Шубниковых – все ценное паковалось в ящики со стружкой и складывалось во флигеле, соединенном с главным зданием великолепной застекленной галереей, где все еще располагался зимний сад. Произведения искусства решено было переправить в музей, который планировали учредить и подарить городу еще старый Шубников и отец Игоря – тогдашний городничий. Игорь Бахметьев просто выполнял их посмертную волю – выкупил для музея прекрасный дом, настоящий дворец.
Елена Мрозовская видела его из окна гостиной. В будущем музее начали ремонт, но потом, из-за трагических событий, все остановилось. Елена Мрозовская разглядывала из окна двор музея, заваленный кирпичами и корытами с засохшей известью.
Игорю предстоит здесь много работы. Но он упрямый, он доведет все до конца…
Если останется жив…
Эта мысль поразила как молния. Елена Мрозовская не знала, почему подумала об этом. Она ощутила знакомые холод и страх. Отвернулась от темного окна и медленно прошла в соседний музыкальный салон.
Здесь все как тогда… И пианино… Сейчас крышка его закрыта.
Но она знает: это французское фортепьяно и клавиши его отделаны пожелтевшей слоновой костью. У музыкального инструмента есть секрет.
Они ей о нем не говорили… Сестры Шубниковы… Прасковья и Аглая…
Она как во сне приблизилась к фортепьяно и коснулась его черной крышки. Свечи в бронзовых подсвечниках, вделанных в стенку инструмента, давно оплыли. Звук был всегда немного расстроенным, потому что они… они постоянно на нем бренчали.
И пели дуэтом.
У Прасковьи – старшей – голос фальшивил, Аглая пела гораздо лучше и старалась петь громче сестры. Французские песенки из репертуара Иветт Гильбер. Елена Мрозовская когда-то слушала ее в Париже, когда училась в мастерской Надара. Сестры все спрашивали, какой была Иветт – рыжей, грубой, обаятельной? А Сара Бернар? А тот мальчик, лорд Альфред Дуглас, из-за которого писатель Оскар Уайльд сел в тюрьму? Они спрашивали ее. А она рассказывала им про Париж, устанавливая свой фотоаппарат здесь, в этом музыкальном салоне. И в грандиозной примерочной, полной шкафов, полной платьев самых последних модных фасонов, шляп, безделушек, туфелек, кружев. Прасковья полностью обновляла гардероб к свадьбе. Ловкая болтливая портниха-модистка подгоняла на манекене парижские туалеты. Аглае тоже кое-что шили новое. Но в основном она, как левретка, вертелась возле сестры и портнихи.
А Елена Мрозовская фотографировала их. Она хотела сделать не только парадные свадебные портреты наследницы многомиллионного состояния и ее юной сестры, но и такие вот домашние, камерные снимки девушек, где было много света, много улыбок, много смеха, много моды и кружев и…
Много фальши…
Так много фальши…
Но ее фотокамера не могла этого зафиксировать. Того, что там было, присутствовало всегда – в тени, за кадром.
– Елена Лукинична, а что Блок вам сказал, когда вы его снимали на карточку? Он такой был красивый, а потом взял и женился… ууууууу…
– А Комиссаржевская? Правда, что у нее никогда не было любовника?
– Елена Лукинична, а тот великий князь, который у вас постоянно фотографируется, мы в «Ниве» видели, он тааакой дууушечка…
Звуки фортепьяно…
– Барышни, не заставляйте меня краснеть!
Она отбивалась от них, как кукушка от камышовок. Нет, они никогда не были птахами сизокрылыми, особенно она… Скорее стервятниками…
Только и этого фотографии не смогли уловить, передать.
Они пели по-французски. Аглая аккомпанировала. Она бойко играла на фортепьяно.
Но инструмент имел секрет, этого Мрозовская не учла.
Она возилась со своим фотоаппаратом. Устанавливала новые венские светочувствительные пластины. Готовилась сделать парадный портрет Прасковьи в свадебном платье. Его привезли на примерку. Прасковья переодевалась. А Аглая играла на фортепьяно что-то приятное, потом зазвучал старинный французский гавот.
– Аглая, я хочу вас сфотографировать у инструмента! – объявила Елена Мрозовская и, подняв громоздкую и тяжелую треногу, потащила фотоаппарат в музыкальный салон.
Но там никого не было. А пианино играло само. Хитроумный механизм заставлял клавиши вздуваться и опадать – тра-ла-ла… Словно по ним скользили руки призрака.
Мрозовская тогда замерла от неожиданности. Она отлично знала про механические пианино, но видела впервые…
Послышался короткий сдавленный стон. Он донесся из стеклянной галереи, из зимнего сада. Мрозовская оставила фотоаппарат, пересекла салон, спустилась по ступеням и…
Сквозь стеклянную крышу лился свет, но внизу все равно было сумрачно от разросшихся пальм в кадках, лиловых глициний, пышных орхидей и тропических растений с широкими глянцевыми листьями.
Сладкий стон, звук поцелуя…
Елена Мрозовская увидела их в глубине зимнего сада – Прасковью и Бахметьева. Как он появился в тот день в доме Шубниковых, никто не знал. Знала, наверное, лишь Прасковья, потому что это их свидание не было случайным.
Жених и невеста…
И они уже не хотели, не могли ждать до свадьбы.
Он прижимал ее к толстому волокнистому стволу пальмы. На ней был лишь белый атласный корсет. Юбка свадебного платья валялась на полу. Корсет был впопыхах разорван, и ее нежные розовые груди терлись о плотное сукно его черного пиджака. Ее голые ноги обвивали его бедра. Он двигался ритмично и все сильнее вдавливал ее спину в дерево-пальму, а Прасковья запрокидывала голову и стонала и вскрикивала, истекая желанием, отдаваясь своему жениху не как неопытная семнадцатилетняя девственница, а как жадная и пылкая любовница. Он держал ее на весу, в позе «восточного дерева», проникая в ее плоть все глубже, усиливая толчки, пока она снова не вскрикнула в его объятиях, не начала бешено молотить голыми ногами, а потом раскинула руки, запрокинулась и замерла, вся отдаваясь наслаждению и экстазу.
Елена Мрозовская, которая невольно оказалась в роли соглядатая, отшатнулась.
Но разве фотографы – не соглядатаи жизни?.. Разве они не врожденные вуайеристы? Нет, о нет!
Даже спустя полтора года она помнила ощущения, охватившие ее тогда, когда она увидела сцену этого полного страсти, неистового полового акта. Стыд… смятение… горячка… бессилие… томная нега, разлившаяся по всему телу… тупая тяжесть внизу живота… желание… и опять стыд… страх, что они заметят ее…
Но они были слишком заняты друг другом в тот момент. Зато она заметила кое-что еще.
Глаза, блестящие, остекленевшие, в которых застыло такое странное сонное выражение – смесь хищной жажды и любопытства, отвращения и…
Еще что-то жгучее, как огонь…
Мигнул огонь и погас…
Среди орхидей и пышной листвы зимнего сада Елена Мрозовская увидела светлые волосы… мелькнула кружевная оборка… рука с тонким запястьем сорвала глянцевый лист и скомкала его. И все пропало – ни звука шагов, ни шороха, ничего.
Словно померещилось.
Но она знала, что видела в зимнем саду Аглаю, которая тоже подглядывала за утехами сестры. И за ним, за Игорем… словно потерявшим в тот момент все, все, чем он так гордился – выдержку, хладнокровие, невозмутимость. Все бросившим под ноги пьяной от похоти и счастья Прасковье, которой не терпелось испробовать твердость его члена.
Кто мог знать, во что это вскоре выльется? Вся эта пусть и постыдная, но игра с подглядыванием? Вся эта страстная предсвадебная канитель?
Он должен был знать! Он был вхож в их семью с давних пор. Он знал всех Шубниковых! Сестры росли на его глазах. Он был их опекуном. Он знал об их родителях то, чего, возможно, не знали другие. Он должен был принять меры, остерегаться…
А он вел себя как последний кобель!
– Елена Лукинична.
Ее рука соскользнула с закрытой крышки пианино. Она не слышала, как он вошел в музыкальный салон. Вечно он застигал ее врасплох!
Не ревность тогда была всему причиной. Если бы Аглая просто ревновала, это было еще можно понять. Они бы с этим справились. И это не вылилось бы в тот ужас, который…
– Елена Лукинична… Елена…
Игорь Бахметьев пересек салон.
Выглядел он усталым, но решительным. Вся его одежда была грязной – в пыли и… Да, пятна крови. Он же вез инженера Найденова в больницу. И не счел нужным или так и не успел переодеться. Наверное, когда ездил на фабрику, просто надел сверху пальто.
– Фотографии получились, Игорь Святославович.
– Простите, что так вышло. Мы снова вас сильно напугали.
– Вам не за что извиняться. Хотя это было… несколько неожиданно.
Она старалась говорить как можно строже. Она фотограф, профессионал. Ее пригласили сделать съемку для медицинского освидетельствования. И все. Все!
– Аглая больна, – сказал Игорь Бахметьев. – После того случая мы… Шло полицейское расследование, и я хотел, чтобы высказался специалист. Мы пригласили к ней сюда, в Горьевск, профессора Бехтерева из общества Русской патологической психологии. Он осмотрел Аглаю. И счел ее случай интересным. Уникальным. Она больна. Это душевная болезнь. И все, что вы видели сегодня, – перепады ее настроения, ее сексуальное бесстыдство и даже ее дикая агрессия – это все признаки, симптомы безумия. Это и Бехтерев нам подтвердил. Она душевнобольная. А все остальное, что вы, возможно, сейчас слышали… То, о чем болтает глупая суеверная прислуга…
– Я ничего не слышала. Я ни с кем не разговаривала. Я работала над фотографиями.
– Все, что болтают, – это вздор, суеверный дикий вздор, – он стиснул кулак. И тут же разжал его.
– Она просто стала невероятно сильной, и… она такая быстрая. Я не успела среагировать. Это как-то… это даже глазу не видно. Но фотоаппарат это заснял.
Игорь Бахметьев встретился с ней взглядом. Елене Мрозовской казалось, что он что-то решает про себя.
– Аглая – наследница миллионного состояния. Фабрика, деньги – все до сих пор принадлежит ей, пусть и формально. Она Шубникова. Я не могу позволить отправить ее на каторгу, к убийцам и… И в сумасшедший дом я не могу ее отдать. Если она умрет…
Умри она, и ты лишишься статуса опекуна. И фабрика и капиталы могут уплыть из твоих рук. Назначат торги.
– В это производство было вложено слишком много сил и денег. Ради него шли на большие жертвы, – продолжал Игорь Бахметьев. – Чужим этого не понять. Чем обязан Горьевск фабрике и всему, что с ней связано. Я не могу позволить, чтобы все здесь растащили по кускам на аукционах, чтобы производство развалилось, обанкротилось, чтобы все, чем мы жили… я, и Мамонт, и… его отец, и…
– А Савва? – спросила Мрозовская.
– Он тоже был к этому причастен. Они все… И Глафира, и девочки… Елена Лукинична, Елена, помогите мне.
Он подошел к ней так близко, что в ней сразу смолк голос разума. Лишь сердце билось в груди, как метроном. Он взял ее за руку. Поднес руку к своим запекшимся губам. Поцеловал.
– Елена, пожалуйста…
Обольститель… Он всегда им был… я всегда это знала… О, черт! Я же видела его с ней… я видела его в полном бесстыдстве… Ох, какой же он…Столько силы в нем… столько силы, когда он хочет и берет…
– Лена…
Он целовал ее пальцы. Повернул руку и начал целовать ладонь, запястье. Ее руки фотографа с пятнами на коже, что оставили едкие химикаты.
Снова прижал ее руку к губам. И этот поцелуй длился так долго, что…
– Не уезжайте, не оставляйте меня сейчас, – прошептал он. – Нам надо сделать фотографии. Что бы ни случилось, мы должны…
Она высвободила руку из его крепкой хватки. Надо остановиться, поставить ему заслон. У нее есть женская гордость. Она никогда не признается ему в том, что влюблена в него. Она устоит.
– Случится что-то еще? – переспросила она. – Вам мало того, что было? Мало того, что мы видели – сегодня и тогда, полтора года назад?
Он как-то сразу весь сник. На его широких сильных плечах словно повис камень. Он не смотрел на нее.
Он вспоминал?
Или он тоже не мог забыть, как и она?
Ничто ведь не предвещало.
Тот эпизод в зимнем саду в галерее был единственным. Неужели он стал причиной, катализатором?
Они все разошлись рано в тот вечер, накануне бракосочетания. Венчание было назначено в городском соборе на одиннадцать утра. Игорь Бахметьев нанес визит в особняк Шубниковых утром и сразу уехал на фабрику. А потом к себе. Его не было в доме в ту ночь. Он появился потом, сразу, как за ним послали лакея.
Елена Мрозовская приняла горячую ванну. И легла в постель. Она помнила все до мельчайших подробностей – мысли текли медленно, словно река. Завтра трудный день, их свадьба… Надо сделать много хороших фотографий. Жениха и невесты, гостей… Из знаменитостей ждали чуть ли не самого Шаляпина – он должен был дать сольный концерт в честь бракосочетания.
Елена Мрозовская лежала в постели, листала книгу. «Цветы и травы покрывают зеленый холм, и никогда сюда лучи не проникают. Лишь тихо катится вода. Любовники, таясь, не станут заглядывать в прохладный мрак…Там, там глубоко под корнями лежат страдания мои, питая вечными слезами…»
Блок… Когда он пришел фотографироваться в ее ателье, он ей показался манерным кудрявым гимназистом с капризным женским ртом. Поэт… И вот она лежит в кровати с его стихами накануне свадьбы человека, которого она…
Любовники, таясь, не станут заглядывать…
Где счастье брезжит нам порою, но предназначено – не нам…
Манерный мальчик с капризным ртом – Блок, поэт словно прочел ее, как книгу, и сделал свой собственный фотопортрет – ее, одинокой, влюбленной в чужого жениха, уже ставшего мужем для своей избранницы в физическом смысле. Можно сколько угодно грезить и страдать…
Чертова феминистка… Ее наняли как технический персонал снимать чужую пышную свадьбу, а она влюбилась в нанимателя. Одного его взгляда хватило, пары слов.
Да, так она думала тогда, полтора года назад, когда все казалось таким горьким, но обычным, житейским! Когда не было столько крови и на полу, и на стенах…
А сейчас он сжимал ее руку в своей и все никак не мог оторвать губ от ее ладони. И ей хотелось коснуться его лица, его обветренной кожи… Столько мужества и силы…
– Игорь, я не уеду. Я останусь. Я сделаю все, чтобы помочь вам.
Он смотрел прямо ей в глаза. В какой-то миг она подумала: мы на грани поцелуя. Но почти сразу же догадалась, о чем он на самом деле думает в этот момент, что стоит перед его взором.
И картина явила себя, словно старый кошмар.
Любовь… Как можешь ты, любовь, цвести среди того, что видели наши глаза?
Тогда, полтора года назад, когда она читала Блока при свете старинной лампы с шелковым абажуром, ночную тишину особняка Шубниковых вспорол крик.
Крик потряс дом до основания. Словно кого-то разорвали пополам… Словно с кого-то заживо содрали кожу.
Дикий вопль боли… Визг…
Что-то грохнуло на пол. А потом снова раздались неистовые вопли. Трудно уже было понять, кому принадлежит этот крик – человеку или зверю, столько в нем было муки.
Елена Мрозовская вскочила с кровати. В ночной рубашке, босая, она даже не накинула халат. Но схватила свою репортерскую пресс-камеру!
Это было что-то вроде инстинкта фотографа. Она сразу поняла: в доме случилось что-то плохое. Жуткое. Но все, что встречалось ей на жизненном пути, она хотела заснять, запечатлеть.
Инстинкт фотографа.
В тот момент она была уверена: в дом, набитый произведениями искусства, столовым серебром и фарфором, проник вор, душегуб. Он убивает кого-то из слуг!
Но когда она выскочила в коридор, крик, оборвавшийся на самой высокой ноте, снова пришел со стороны комнаты Прасковьи. По коридору бежали заспанная горничная и лакей. Он включил электричество.
Свет ярко вспыхнул.
Прибежал еще один лакей, по старинке вооруженный топором, и ногой выбил дверь спальни, из которой теперь доносились какие-то странные звуки – словно что-то волокли и грызли…
В спальне стоял кромешный мрак. И пахло…
Так воняет на бойне, когда свежуют тушу, – запах свежей густой крови и требухи.
Лакей дотянулся до шнура и включил верхний электрический свет. Они словно ослепли все, застыв в дверях, – кровать с пышными подушками была вся залита алым. На светлых шелковых обоях – алые пятна и потеки.
Но сначала они никого не увидели в спальне. Кровать загораживала от них то, что было на полу.
А потом увидели все.
Прасковья лежала на спине – голая, ее ночная сорочка превратилась в лохмотья. Ее живот от грудины до лобка был разодран, и вся окровавленная, осклизлая масса внутренностей была выворочена из огромной зияющей раны.
Полиция позже тщетно искала в спальне орудие, которым было причинено это чудовищное увечье. Полицейские так ничего и не нашли – ни в спальне, ни во всем доме. А врач, делавший осмотр, шептал полицейскому приставу, что это «не разрез, а разрыв тканей».
Что-то зашевелилось в углу за кроватью и выползло оттуда на четвереньках.
Приподнялось, встало на колени, осторожно огляделось, утопая руками, до самых локтей покрытыми запекшейся кровью, в белом атласном одеяле.
Светлые, как слюда, глаза уставились на Елену Мрозовскую и слуг. Рот искривился в гримасе оскала.
Она смотрела на них, вся покрытая кровью своей сестры.
А потом тихонько разжала пальцы. И на атласное одеяло выкатилось нечто, оставляя за собой алый след.
И в этот миг потрясенная Елена Мрозовская сделала снимок своей репортерской пресс-камерой.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?