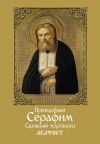Читать книгу "Колодец забытых желаний"

Автор книги: Татьяна Устинова
Жанр: Остросюжетные любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Олег Петрович потащился за счетом самостоятельно, а барышня у него за спиной моментально прошмыгнула в дверцу, на которой была нарисована девочка в юбочке. Она хоть и светская львица, и по телевизору ее показывают, но по малолетству еще не знает, как сбегать в туалет так, чтобы остаться в глазах малознакомого мужчины трепетной ромашкой и нежной фиалкой.
Он заплатил, пристроил под куртку свою драгоценную икону, подхватил с вешалки шубку, пахнущую духами и хорошо выделанным мехом, посмотрел в окно на Гену и кивнул.
Гена думал, наверное, секунду, а потом тронул машину и аккуратненько причалил к крыльцу, так что задняя дверь оказалась прямо напротив расчищенных ступеней. Не зря они так много лет проработали вместе!..
Облачив Викторию в меха, Олег опять согнул руку кренделем, и опять она сделала вид, что не заметила, и, чуть опередив ее на ступенях и заранее наслаждаясь, он распахнул перед ней дверь своей машины.
Глаза у нее стали круглыми, и розовый, свеженапомаженный в туалете ротик открылся.
– Может, я вас все-таки подвезу? – осведомился Олег Петрович. – Идти пешком холодно, да и страшные лесные разбойники не дремлют! Во главе со своей атаманшей.
Генин затылок выражал массу эмоций, в основном, конечно, одобрение. Девушка была высокого класса, Гене явно понравилась. Почему-то такие девушки особенно нравятся именно водителям.
Рукой в перчатке Виктория взялась за блестящую черную дверь, сделала неуловимое движение, и оказалась внутри, и изящно подобрала полу шубки, и даже ее нос выражал восторг.
Все правильно. Все правильно, дорогая, так и должно быть.
Олег обошел машину, Гена уже поджидал его с другой стороны у распахнутой двери и снизу вверх вопросительно кивнул головой. Олег чуть заметно приподнял брови.
«Это кто?»
«Пока не знаю. Пока просто барышня».
«А-а. Ну-ну».
– Как называется эта машина? – спросила Виктория, едва лимузин тронулся, и огляделась, словно пришла в картинную галерею. Впрочем, в салоне было на что посмотреть.
– «Мейбах». Хорошая немецкая марка.
– Я знаю, что хорошая, – весело сказала она. – А… откуда у тебя такая машина? На антиквариате хорошо зарабатываешь?
Он отметил и «ты», и веселость тона. Правила игры – великая вещь, особенно когда ты о них хорошо осведомлен.
– Я вообще прилично зарабатываю.
В просторном салоне они сидели совершенно свободно, но Виктория, посмотрев плутовским взглядом, чуть-чуть придвинулась к нему поближе.
Мама будет в восторге! Кавалеров на «Мейбахе» у дочки еще никогда не было. Ну, подумаешь, лысый и одевается как-то странно! Это все мы поправим. Волосы можно нарастить в клинике, теперь все лысые делают себе волосы в разных клиниках. Переодеть тоже можно, и она искоса взглянула на Олега, прикидывая, какая из итальянских марок ему больше всего пойдет. Пожалуй, он был бы вполне хорош в том стиле, в котором одевается знаменитый адвокат Павел Астахов. Вот ведь несправедливость жизни какая!.. Того и переодевать не нужно, и собой хорош во всех отношениях, но… занят. Женат давно и надолго, у них на курсе это даже обсуждали как-то, и все сошлись на том, что развести его с женой не удастся, хоть что ни делай!..
Машина притормозила у знакомой промерзшей двери, Олег вытащил из-под куртки икону и сунул ее в сторону Гениной спины. Икона моментально исчезла, как и не было ее!..
– Я на пять минут зайду к Василию Дмитриевичу, – сказал Олег, натягивая перчатку. – Ты меня подождешь или зайдешь со мной?
– Не хочу я больше видеть этого старьевщика, – объявила Виктория. – Он мне кресло не нашел, хоть и обещал! Я лучше тут посижу, в тепле. У нас такой ужасный климат!..
– Ужасный, – согласился Олег. – Славянские племена совершили роковую ошибку, решив здесь поселиться, тут я с тобой полностью согласен. Гена, ждите меня, я скоро.
– Проводить, Олег Петрович?
Вопрос был задан просто так, потому что его полагалось задать по сценарию. Сценарий следующий: мы производим впечатление на девушку сказочной красоты. Машина в сценарии шла в первой картине, а во второй должна идти вооруженная до зубов личная королевская охрана.
Эх, Олег Петрович, мне бы ваши денежки да ваши возможности, у меня бы такая охрана была, не то что девушка, сам президент бы позавидовал!..
– Провожать не нужно, – сказал Олег Петрович внушительным тоном – все в соответствии со сценарием. – Виктория, не скучай, я скоро вернусь.
И он выбрался на улицу, подышал морозным воздухом – как он любил мороз, ледяной застывший воздух, скрип снега, громкие голоса детворы, катавшейся с горки посреди лысого скверика!.. – и второй раз за сегодняшний день поднялся по хорошо знакомым обледенелым ступеням и толкнул примерзшую дверь.
– Василий Дмитриевич! А Василий Дмитриевич?! Вы где?
Рефлектор пыхал в полумраке раскаленным рыльцем, что-то тоненько звенело, как будто кто-то задел хрустальную подвеску на старинном торшере и звон все еще тянется, длится в тишине.
– Василий Дмитриевич! Вы в прятки играете? Выходите, будет вам!
Никто не отзывался, и звук постепенно затих, и Олег вдруг насторожился.
Что-то не так. Что-то явно не так.
– Василий Дмитриевич!
Слабый стон раздался из-за ширмы, и у Олега что-то взорвалось в голове, словно вспыхнула и погасла перегоревшая лампочка. Он еще постоял, а потом осторожно приблизился и заглянул за ширму.
В середине дня с работы вдруг нагрянула мать, а это в его планы никак не входило.
– Федька! – позвала она с порога. – Федь, ты дома, что ли?
Он сделал вид, что не слышит. Ему некогда было разговаривать с матерью.
Некогда и страшно.
– Федька! Ты почему не на работе?! Где ты?
Он сопел, застегивая неудобные «болты» на джинсах.
За дверью зашуршало, потом загремело, по полу знакомо зашаркали подошвы, и дверь распахнулась. Федор все никак не мог застегнуть проклятые штаны.
– Федя! – зачем-то удивилась мать. – Ты дома?!
Он молчал, сопел, застегивал.
– Федь, ты чего? Ты ж с утра на работу ушел! А?!
– Чего пристала, – пробормотал нежный сын себе под нос. «Болты» все никак не давались.
Мать помолчала.
– Да я не пристала, – грустно сказала она. – Просто так спрашиваю.
– А ты не спрашивай. – Он наконец справился с железяками и схватил со стула рюкзак. Рюкзак потянул за собой штаны, а за ними потянулось еще что-то, и он с досадой сгреб одежду в огромный ком и швырнул обратно на стул.
Мать проводила ком глазами, хотела что-то сказать, но промолчала.
Федор протиснулся мимо нее в коридорчик – быстрей из дома, и чтоб не отвечать ни на какие вопросы, и не слушать претензий, и не видеть мать с ее жалостливым овечьим взглядом!..
– Фе-едь! Ты хоть полслова-то мне скажи!
– Чего тебе сказать?
– Ты почему не на работе?
– У меня выходной, – соврал он с ходу, и неудачно соврал. В этом вопросе мать была подкована хорошо.
– Да какой у тебя сегодня может быть выходной, когда ты только что два дня отгулял!
Он зашнуровывал ботинки – высокие, неудобные солдатские ботинки, вечно натиравшие косточку на щиколотке и собиравшие гармошкой бумазейные носки, нелепейшие, истончившиеся на пятке, унижающие его человеческое и мужское достоинство, но никаких других у него не было – ни ботинок, ни носков!..
– Фе-едь!
– Мам, я пошел, короче!..
– Куда пошел? А придешь когда? А?
– Когда, когда!.. Когда надо, тогда и приду!..
Мать еще помолчала.
– Ну, сегодня-то придешь?
Он шуровал на полке, искал завалившуюся шапку – куда без шапки в такой мороз! А на улице, может, придется долго простоять. Может, день целый, откуда он знает!..
– Сыночек, ты мне хоть чего-нибудь скажи! – И тон такой специальный, добрый, чтобы он почувствовал, как виноват перед ней. Перед ней все и всегда были виноваты.
Он ненавидел слово «сыночек» и ее просительный тон, и, кажется, в этот момент мать ненавидел тоже.
Он выпрямился, став сразу почти вдвое выше ее.
– Может, поел бы, Федь? А?
Она умоляла его, будто затягивала обратно в болото, из которого он мечтал вырваться всю жизнь и уже почти вырвался, немножко ему осталось, последнее усилие, самое последнее, малюсенькое усилие, и он будет свободен!..
Свободен, а там посмотрим!.. Может, окажется, что и он чего-то стоит, может, не так-то уж он плох и никчемен и из него будет толк!..
Про толк ему Светка сказала. Он бы сам не догадался.
– Не будет из тебя никакого толку, – сказала она и зевнула, потом подумала и натянула на голое молочное плечо капроновые кружевца халатика, который она гордо называла почему-то «кардиган». Не знала, бедная, что это называется пеньюар, а Федор знал, но поправлять ее не решался. – И мама говорит, что толку не будет, и денег тоже, и ничего никогда у нас с тобой не будет.
Он тогда перепугался и заверещал, что все будет, будет, будет, но Светка слушать не стала, поднялась с дивана, с неаппетитных, скомканных, серых от многочисленных стирок простыней, ушла на кухню и стала там курить. Наверное, форточку открыла, потому что оттуда сразу потянуло пронзительным холодом и свежим сигаретным дымом.
И у него в мозгу именно так все и сложилось: нет никакого толку – это когда застиранные простыни, подмерзающие на крашеном полу босые ноги, морозный воздух с кухни и запах сигаретного дыма!..
Федор наконец нашел шапку, нахлобучил ее и поплотнее пристроил к ушам, чтоб не поморозить. Видела бы его сейчас Светка!..
– Короче, я пошел, мам!..
– Феденька, ну, придешь сегодня?..
– Не знаю! – заорал он. Специально так заорал, чтобы разозлиться на нее, чтобы не жалеть, ничего не чувствовать к ней – она не заслуживала его чувств.
Мать даже отшатнулась и пробормотала:
– Не кричи, не кричи…
– Да чего там – не кричи! Что ты все пристаешь ко мне?! Что ты лезешь?! Свою жизнь загубила – и мою хочешь загубить?! А я не хочу, понимаешь?! Я нормальный мужик, я жить хочу, как все нормальные люди живут!
– Да кто ж тебе не дает, сынок? – испуганно тараща овечьи глаза, спросила мать, и он взвился, чуть ногами не затопал:
– Да ты мне не даешь! Все лезешь, все пристаешь, контролируешь – куда пошел, да с кем пошел, да зачем пошел!! Какое твое собачье дело, куда я пошел и с кем?!
Мать заплакала. Из глаз вдруг ручьем полились слезы, прозрачные, как у маленькой девочки, у которой отобрали мячик.
– Федя, да я же ничего… ничего не хотела… я просто…
– Чего просто! – проорал он, ненавидя себя. – Просто! Не была б ты такая дура, жили бы мы как люди, а ты дура!.. Вот и сиди в дерьме, а я не хочу, не хочу!.. А еще все про Париж мне толкуешь!
– Федя, я же… я… тебя одна растила, и трудно было, и болел ты, и свинка у тебя была… А Париж… это я просто так…
– Просто так, – повторил он с отвращением. – Все, дай мне пройти. Я опаздываю уже!
– Куда ты опаздываешь?
– Куда, куда! На кудыкину гору!
Он поддал ногой стул, так что от него отвалилось сиденье, вытертое до такой степени, что из засаленной и прорванной ткани в разные стороны торчали нитки и грязный поролон, кинулся к двери, кое-как отпер и выскочил на площадку, где было холодно и гулял сквозняк.
На площадке обреталась бабуся Ващенкина с пятого этажа, наверняка подслушивала. У ног ее стояла нейлоновая сумища в странных выпуклостях – за картошкой, что ли, ходила? – и терся облезлый длинный черный кот.
Дверь в квартиру с грохотом захлопнулась.
– Здрасти, – рявкнул Федор на бабусю и, тяжело топая, ринулся вниз.
– И тебе не хворать! – бодро проорала в ответ бабуся. – Все с матерью лаисся?! Все жисти ее учишь?!
– А вам-то что?! – Это он крикнул, не сбавляя ходу, уже с площадки.
– А мне-то ниче! Только вот помрет мать, будешь знать тогда! Сведешь ты ее в могилу и останешься один-одинешенек!
Получалось, что он кругом виноват – перед Светкой виноват в том, что от него нет никакого толку, и перед мамой виноват!.. Только, если б не бабуся Ващенкина, ему бы никогда и в голову не пришло, что она на самом деле может… умереть. Вот просто взять и умереть, и он тогда останется один!
Впрочем, он ничего в жизни так не хотел, как чтобы его оставили одного!.. Одного и в покое!
Он бабахнул подъездной дверкой из тонкой фанерки, под которую лезли широкие языки снега, на миг ослеп от солнца, поскользнулся и со всего маху шлепнулся на задницу посреди раскатанной пацанами ледяной дорожки.
Да что за день такой сегодня!..
– Дядь, шапку не потеряй!..
– Смотри, как брякнулся, копыта в разные стороны!
– Бежим, Тимон, а то он нам щас ка-ак наваляет!
– Наваляю, – пообещал Федор и стал, кряхтя на манер бабуси с пятого этажа, подниматься на ноги. Поднимался он неловко, задницей вверх, и перчатка отлетела далеко в снег, и проклятая шапка съехала на глаза, закрыла весь белый свет!
Морщась от боли в спине и в пятой точке, он кое-как добыл свою перчатку, уронив шапку в снег, и замахнулся на пацанов, которые все скалились неподалеку.
Они даже не стали делать вид, что испугались.
– Па-адумаешь, – задумчиво сказал самый здоровый и, должно быть, храбрый, – чего вы обоссались-то? Чего он вам сделает? А сделает, так ему Витек даст!.. Ты, банан облезлый!.. Шапку свою подбери, чтоб она тута не отсвечивала!
Даже пацанье подъездное его не уважало и нисколько не боялось!
У него было два дела, и оба ему не нравились, и из-за них он нервничал так, что наорал на мать и она заплакала, а он так жалел ее, когда она ни с того ни с сего принималась плакать!..
Впрочем, ему нужно только одно – чтобы его оставили в покое, и точка!..
Первое дело, трудное, почти невыполнимое, тяготило его значительно больше, чем второе, тоже трудное, но какое-то веселое и как будто ненастоящее, словно он и не должен его делать, а просто посмотреть про него кино. И хотя непонятно еще, хорошее кино или плохое и чем оно закончится, но это просто кино, и больше ничего!
Начать придется с первого, трудного и невыполнимого, да он и не мог приняться за второе, пока не разделается с первым!
Федор Башилов надел шапку, вбил пальцы в мокрую и холодную перчатку, подтянул на плече рюкзак и под гогот пацанов, которые совсем разошлись и теперь выкрикивали ему в спину что-то уж вовсе непристойное и оскорбительное, зашагал к остановке.
Морозный ветер налегал, заставлял ежиться, и кожа на лице становилась будто картонной. Куртчонка у него была так себе, не то чтоб не по сезону, вроде даже на меху, но на рыбьем. Мать всерьез называла этот мех «искусственный кролик», а Федору всегда было стыдно – мало того, что кролик, так еще искусственный!..
Троллейбус пришел не сразу, и Федор к тому времени совершенно окоченел. Стуча зубами, он полез в теплое и влажное с мороза нутро, где покачивались немногочисленные пассажиры, похожие в своих дубленках и шубах на тюленей и котиков, какими маленький Федор видел их в зоопарке. Он залез, уцепился за поручень и огляделся, прикидывая, есть ли на линии контролер, или, может, обойдется. Хорошо бы обошлось. Платить ему не хотелось.
В зоопарк его тогда отец водил. На табличке было написано «Тюлени и морские котики», и Федор все тянул и тянул отца за руку в ту сторону, куда показывала стрелка на табличке, а когда они пришли к огромному, огороженному высокой решеткой бассейну, наполненному мутной водой, в которой плавали куски булки, фантики от конфет и какие-то ветки и палки, Федор был страшно разочарован. Он ожидал, что морские котики похожи на настоящих котов, только… как бы это выразиться… ну, просто как будто обыкновенные коты, только здоровые и плавают, а на лапах у них… ласты. А тут какие-то непонятные туши выползают на камень из грязной воды!.. Он даже и не разобрал толком, кто из них котики, а кто тюлени. И те и другие были противные, мокрые, и щетинистые морды у них ничего не выражали, кроме равнодушия и усталого презрения к людям, которые толклись вдоль решетки и все швыряли им разную еду вроде кусков хлеба и конфет, но они это не ели.
Ужасно. От горя он тогда даже стал сопеть носом и всхлипывать, а отец сердился – в кои-то веки повел ребенка в зоопарк, а тот недоволен, вон глаза на мокром месте!..
Впрочем, они никогда не понимали друг друга, и Федор привык думать, что мать виновата в том, что они друг друга не понимают.
Вскоре после того, как они смотрели моржей и котиков, отец ушел от них – Федору тогда было шесть лет, но он почему-то запомнил, как тот уходил. Он почти ничего не помнил из детства, только зоопарк, и вот как отец уходил – запомнил.
Накануне вечером родители сидели на диване, и у них были странные лица – не тревожные, а грозные, и шестилетний Федор очень боялся, что разразится скандал. Он ненавидел скандалы, а родители скандалили то и дело. Из-за пустяка, ерунды, самой распоследней малой малости они начинали орать друг на друга, а Федор метался между ними, поскуливал, искательно заглядывал в глаза, просил молока, или воды, или поесть, или тянул за руку в свою комнату, где нужно срочно приделать Буратино оторванную голову или почитать то место из книжки, где Кролик хотел избавиться от Тигры, а сам заблудился, а Тигра выскочил и всех спас! Это было самое любимое место в книжке – где Тигра всех спас, и маленький Федор все время представлял, что это он заблудился в лесу вместе с мамой, а папа выскочил и их спас! И они все тогда стали обниматься, целоваться и поняли, как любят друг друга!
Федор очень сильно любил их обоих и, когда они ссорились, так боялся, что до крови обкусывал ногти на руках, и мать потом водила его к врачу, который назывался очень трудно и непонятно, и врач, поглядывая на Федора, говорил матери, что он – «очень нервный мальчик». Федор не знал, хорошо это или плохо, но на всякий случай пугался и начинал скулить, и мать в сердцах вытирала ему слезы носовым платком, у которого был жесткий, противный кружевной край.
А в тот вечер они не ссорились. По крайней мере, Федор из своей комнаты, в которую его услали, ничего не слышал, хотя только делал вид, что играет, а на самом деле не играл, а, весь напрягшись, слушал, что происходит в большой комнате.
Он сидел на полу, вытянувшись в струнку и прислушиваясь изо всех сил, и бессмысленно складывал из конструктора нелепейшую башню такой высоты, что она постепенно все кренилась и кренилась набок. И точно знал, что, как только он положит еще одну, последнюю деталь, башня обрушится со страшным грохотом, обломки разлетятся по всей комнате, и нужно будет лезть под кровать и подползать на животе в самый дальний и темный угол, где всегда было пыльно и про который он придумал, что там живет страшенный паук. И он уже заранее боялся этого паука и со сладким ужасом ждал, что башня рухнет и нужно будет ползти.
Потом мать громко сказала:
– Прекрати шуметь!
Голос у нее дрожал.
А отец сказал:
– Хоть к нему-то не вяжись! – подошел и плотно прикрыл дверь.
Тогда шестилетний Федор бросил свою башню и лег на бок у закрытой двери, чтобы не пропустить скандал, вовремя выскочить, если понадобится.
Тот самый непонятный врач, который назывался длинным и трудным словом, часто говорил матери, что ее сын «не по годам серьезен», и, лежа под дверью, Федор вдруг вспомнил это выражение и некоторое время думал о том, что значит «не по годам». Как это – не по годам? По годам ему шесть, он знал это точно, скоро будет семь, и он тогда в школу пойдет. Тут он стал думать, что бы ему хотелось на день рождения, и придумал, что ему хочется красную пожарную машину с лестницей. Только непременно с лестницей. Нужно об этом сказать отцу, потому что машины – Федор это знал – дело мужское.
За дверью что-то говорили, довольно тихо, и, устав бояться и прислушиваться, он лег щекой на руку и стал изучать свою комнату из этого неудобного положения. Комната казалась странной и по-другому устроенной. Вон шкаф, там на нижней полке лежат его пожитки, а все остальные полки заняты плоскими белыми штуками. Штуки сложены аккуратными стопками. Время от времени мать достает из шкафа такую штуку, взмахивает ею, и она превращается в пододеяльник или простыню. Вон столик и стульчик, за ними он должен играть. Отец всегда говорит, что у человека должно быть место, чтобы играть, как будто можно играть за столом!.. Как там играть-то? Даже к паровозу вагоны не прицепить. Паровоз на столе помещается, а вагоны уже нет!.. Вон медведь на кровати, его бабушка подарила, отличный такой медведь, с кофейной мягкой шерстью и коричневым носом. Медведя Федор обожал и звал его Мишей.
Так он лежал, размышлял, удивлялся и совершенно отвлекся от того, что происходило за дверью, и вдруг вбежала мать. Она так резко распахнула дверь, что ударила его, но Федор от удивления даже не захныкал. Мать больно схватила его под мышки, подняла, как будто он был тяжелой сумкой, и стала трясти им перед отцом. У Федора с ноги даже сандалик свалился, и колготки съехали и болтались.
– Ты бы хоть его пожалел! – говорила мать и трясла Федором. – На меня наплевать, а он как же?!
Она не кричала, и Федор решил, что ничего страшного не происходит, можно не бояться, и не боялся.
Отец сидел отвернувшись, на него и на мать не смотрел.
А потом посмотрел с отвращением.
– Не так, а эдак хочешь меня достать, – сказал он, но тоже негромко. – Нашла чем меня останавливать, идиотка! Да я его знать не хочу! Весь в тебя… урод!
Это Федор потом понял, что отец про него сказал «урод», уже когда был большой, а раньше никак не понимал. Он только знал, что «урод» – плохое слово и бабушка его говорить не велит.
– Папа, – сказал шестилетний Федор и стал болтать ногой, чтобы скинуть и второй сандалик тоже, – бабушка говорит, что про людей нельзя говорить, что они уроды. Ты про кого так сказал?
– Убери его, – попросил отец ласково. – Убери его сейчас же, или я за себя не отвечаю!
Федор тогда тоже не знал, как можно отвечать или не отвечать за себя, и собрался было даже спросить, но не успел. Мать прижала его к себе крепко-крепко, так что ему стало неудобно, хотя он любил с ней обниматься и обнимался всегда от души, с чувством, подолгу, и потащила обратно в комнату.
Тут он вдруг заподозрил неладное и встревожился. Ему показалось, что мать вот-вот заплачет, а для него не было худшего горя, чем ее слезы.
– Мам, ты чего? – спросил он испуганно и посмотрел ей в лицо. – Ты чего, а?
– Ничего, ничего, сыночек. Все хорошо, – сказала мать, и он понял, что не зря заподозрил – у нее был странный, насморочный голос и нос покраснел. Может, простудилась? Федор не любил простуживаться. Бабушка натирала его скипидаром и ставила горчичники, которые жгли.
– Мам… я макарон хочу!
– Сейчас, сейчас будем ужинать. Скоро.
– Ну, я пошел, – объявил с порога отец. – До свидания. Вещи мои завтра соберешь, я заеду.
Мать вцепилась в Федора так, что он взвизгнул:
– Больно!
– Прости меня, сыночек.
Держась очень прямо и не выпуская плечика Федора, за которое она ухватилась, мать повернулась, и Федор вынужден был повернуться вместе с ней.
– Мам, пусти!.. И я макарон хочу.
– Почему прямо сейчас? – спросила мать ужасным, не своим, мертвым голосом. – Зачем сейчас? Что за спешка? Может быть, утром поедешь?
– Да какая разница, утром, не утром, – устало ответил отец. – Самое главное, мы все решили.
– Решили? – переспросила мать.
– И не начинай! – Отец повысил голос, и Федор окончательно перепугался. Выходит, скандал все-таки будет, а он не успел, не сообразил, не отвел беду заранее!
– Мама, – заскулил он в надежде отвлечь ее, – я макарон хочу!.. Или каши! Каши даже еще лучше!
Он не любил кашу, но знал, что мать всегда была довольна, когда он ее ел. Каша считалась «полезнее» макарон.
– Ну и уходи, – выговорила мать. – Давай, мчись, вдруг опоздаешь! Или тебе там по шее дадут, если вовремя не примчишься? Давай-давай, мы и без тебя справимся! – И она опять больно подхватила Федора под мышки и прижала к себе. – Правда, миленький? Правда, мой хороший? Никто нам не нужен, мы сами, сами!..
Вот этого подросший Федор и не мог ей простить – того, что они «сами»!.. Он помнил это очень отчетливо всю жизнь и, когда подрос, стал помнить даже острее, чем в детстве.
Отец ушел не за хлебом и не к бабушке поехал, он ушел навсегда, вот что означало их сидение на диване с грозными напряженными лицами. Он ушел и как-то очень быстро про них забыл – и про мать, и про Федора.
Несколько раз он приезжал, и Федор тогда все еще до конца не понимал и каждый раз удивлялся, почему отец забирает его на улицу и они торчат там так долго. На улице, на продуваемом со всех сторон унылом пространстве московского двора, было скользко и неуютно. Они слонялись возле гнутых ржавых железок, которые когда-то давно были каруселькой и лестничкой – в этих карусельках и лестничках выражалось «благоустройство московских новостроек».
Все время была зима, из своих немногочисленных встреч с отцом Федор Башилов помнил почему-то только зиму, или отец больше никогда и не приезжал?..
Они слонялись, и Федор даже пытался лазать по гнутым железкам – так он себя развлекал – и катался с деревянной облезлой горки, только кататься было неудобно. В волосатые рейтузы моментально забивался снег и смерзался в ледяную корку, шапка съезжала на глаза, и узковатое пальтецо мешало ужасно. Отец смотрел на него с отвращением, а может, это Федор потом придумал, что с отвращением!.. После он приводил сына домой, где всегда пахло одинаково – щами и стиральным порошком. По выходным мать стирала и варила огромную кастрюлю щей, чтобы хватило на неделю. В будни готовить ей было некогда. После того как отец ушел, она устроилась еще на какую-то дополнительную работу, и Федор за это на нее очень сердился – она совсем перестала бывать дома, и книжку про Тигру они больше не читали. Она теперь приходила поздно, садилась на кухне прямо в сапогах и дурацкой вязаной беретке, которая очень ее портила, закрывала глаза и сидела так подолгу, Федору казалось, что несколько часов. С сапог натекала небольшая грязная лужица, и Федор, сопя, тащил из ванной огромную жесткую тряпку и сосредоточенно ползал по полу вокруг ее ног, подтирал лужицу.
Иногда она открывала глаза, улыбалась и говорила ему, что он ее «помощник».
– Никто нам не помогает, – говорила она тогда, – ну и ладно. Мы сами справимся, правда, Феденька, сыночек?..
Он соглашался, пока был маленький, а потом перестал соглашаться.
Она никогда не плакала, наверное, чтобы не пугать его, и заплакала только один раз.
Ему было уже лет двенадцать, и он уже ненавидел жизнь, которой они живут. Ненавидел крохотную квартирку, где был слышен каждый звук, ненавидел двор, нищету и запах щей и стирального порошка. И постоянную усталость, в которой жила мать, он тоже почти ненавидел и все вечера проводил у телевизора, где показывали совсем другую планету: дорогие машины, красивые женщины, романтика и фейерверк развеселой бандитской жизни – вот что было тогда в телевизоре!
Мать однажды пришла с работы и, как обычно, сидела на кухне, закрыв глаза, а в телевизоре очень красивый комментатор значительно говорил что-то про Париж, про коллекцию картин, про культурные связи и все в таком духе.
Мать вдруг разлепила веки, тяжело поднялась и зашла в комнату, где Федор неотрывно смотрел в экран.
– Сапоги бы хоть сняла, – пробурчал он.
Он уже не ползал с тряпкой вокруг ее ног и не старался навести чистоту, ему тогда уже почти на все было наплевать.
– Я там была, – вдруг сказала мать.
– Где? – не понял Федор.
– В Париже, – и головой она показала на экран.
– Когда? – поразился Федор.
– Еще в институте. Тогда это называлось по обмену. Я же учила французский язык, и меня на практику послали в Сорбонну. Я прожила там сорок восемь дней.
Федор перевел взгляд на экран, где уже рассказывали о чем-то другом, и пожал плечами.
Его мать не могла иметь никакого отношения к той жизни, которую показывали по телевизору. Не могла, и все тут!
Она вдруг сорвала с головы беретку, прижала ее к груди и одной рукой стала неловко стаскивать сапоги.
– Сейчас, сейчас, – бормотала она, – сейчас я тебе покажу!.. Как же я про них забыла!..
Прямо в пальто, с береткой в руке, которая ей мешала, она проворно протиснулась к серванту, стала на колени, раскопала в вазе, заваленной телефонными счетами и какими-то желтыми от времени и пыли квитанциями, потайной ключик от нижнего отделения, распахнула дверцу и стала вываливать что-то на пол.
Федор знал, что нижнее отделение серванта всегда заперто, и знал, где лежит ключик, и не раз туда заглядывал, но там не было ничего интересного – какие-то бумаги в картонных папках с белыми тесемками, альбомы с черно-белыми фотографиями стариков и старух с неулыбающимися застывшими лицами, корочки дипломов, всякая дребедень.
Возле серванта выросла целая куча бумаг, и Федор, заинтересовавшись, слез с дивана, подошел и стал на колени рядом.
– Сейчас, сейчас, сынок, – говорила мать, и глаза у нее сияли, и прядь вывалилась из пучка. – Я тебе покажу!
– Что покажешь, мам?..
Из самого дальнего угла она вытащила маленький альбомчик с выпуклой розой на бархатной крышке. Берет все еще был у нее в руке, и она нетерпеливо сунула его в карман.
– Вот смотри.
Бережно, как нечто драгоценное и хрупкое, мать открыла альбом, и Федор с любопытством в него заглянул.
Там не было стариков и старух с чопорными черно-белыми лицами. Там был какой-то цветной сказочный город, слегка выцветший и поблекший и, может быть, именно поэтому показавшийся Федору таким настоящим. Он был жемчужно-серый, бесконечный и в то же время уютный. По этому городу бродила девушка. Она рассматривала витрины, болтала ногой на мосту, пила кофе из маленькой белой нерусской чашечки и даже ехала на мотоцикле, короткие волосы развевались, и щеки горели!..
Федору девушка понравилась, и он спросил, кто это.
– Дурачок! – сказала мать и засмеялась. – Это же я!
Он не поверил.
Вот эта девушка на мотоцикле не может быть его матерью! Что бы ни случилось с ней потом, та девушка никак, ну уж точно никак не могла превратиться в его мать, с ее вечно усталым лицом и потухшим взглядом!..
– Да точно тебе говорю! Мне здесь… сколько же? Да, девятнадцать лет, – весело сказала мать. – Слушай, неужели я так изменилась, а?
Он пожал плечами. Он не знал, что ответить. Почему-то эти фотографии вдруг показались ему оскорбительными. И даже мысль о том, что та девушка – его мать, показалась оскорбительной тоже.
Мать рассматривала себя, и лицо у нее было светлым.
– Через год ты родился. Я вернулась, вышла замуж и…
Он молчал.
Рукой в цыпках, с ногтями, остриженными почти до мяса, она погладила фотографию, словно приласкала.
– Погода тогда была замечательная! И свитер я себе там купила, вот этот самый, я даже помню, сколько он стоил. Двадцать франков, а это ерунда. И он мне так нравился! И мне очень хотелось его поносить, и как раз похолодало, и я все время его носила!
Федор помнил этот свитер. Собственно, он все еще был в употреблении – немного вытянутый и протершийся на локтях, старательно подлатанный, он лежал в гардеробе в его комнате, и мать надевала его, когда ей приходила фантазия покататься в выходной на лыжах. Она любила всякие глупые увеселения вроде катания зимой на лыжах или похода летом по грибы!..