Текст книги "Земля случайных чисел"
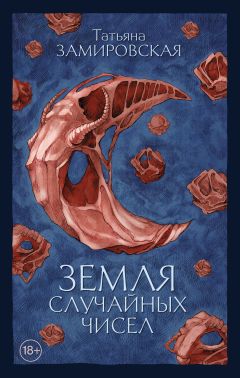
Автор книги: Татьяна Замировская
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Ваша Копия вам не верна
Некая нуклеарная семья из четырех человек за месяц до Рождества выясняет, что в наступающем черновом году у них будет потеря, она же «горе», «неожиданность», «случайность».
Потеря в семье в описываемые времена – непредсказуемое событие, ставшее административно предсказуемым вследствие оптимизации процессов, связанных со случайностями. Все трагические случайности, зафиксированные на протяжении чернового года, сообщаются во времени назад за пару месяцев до наступления налогового, белого года, чтобы удобнее было подсчитывать налоги и вести статистику. Всему лучше обнуляться в один и тот же момент.
Все равно, разумеется, необходимо праздновать, выготавливать, подыскивать подарки, ведь никогда не узнаешь, кто именно и в какую секунду, обычно как раз повод собраться на последний ужин, провести вместе время; напутствия какие-то, прощания. (Элиминация потерянного также происходит в рождественскую ночь: знание о случайности не помогает ее предотвратить; нарушить этот закон невозможно, и некая семья это прекрасно понимает.)
Но тут такое дело: папа, мама, Ребенок 1 младшего школьного и Ребенок 2 промежуточного школьного – это полный и симметричный вариант нуклеарной семьи; потеря любого из кормильцев может оказаться невыгодной и разрушительной, потеря ребенка же может оказаться невыносимой. Поэтому семья в лице двоих кормильцев, посовещавшись, подает на благотворительный грант, попутно вложив в это дело все свои сбережения. В итоге они почти даром выигрывают резервную нуклеарную копию в качестве потери.
Нуклеарные копии выдаются далеко не всем – это экспериментальная версия балансировки между черновым и налоговым годом. Создание нуклеарной копии – длительный и трудоемкий процесс, но некоторые семьи с высоким налоговым и кредитным индексом имеют право попробовать.
Копия обычно приходит за месяц до Рождества, не позже, чтобы успеть за это время стать членом семьи. Но и не раньше, потому что предел чернового времени для человечества только год – возможно, через пару десятилетий этот предел расширится, но сейчас никак. Семья должна постараться, семья должна очень постараться, чтобы все получилось, напоминает Мама остальным за ужином, потому что иначе все разрушится, и мы больше не будем вместе, вы же помните, близость и эмпатия, и понимание, и любовь. (Ребенок 1 обычно приносит из школы низкие баллы за близость и эмпатию, и понимание, и любовь, но что поделать).
Сходили всей семьей сдали кровь, буквально через неделю все было готово.
Когда приходит Копия, Ребенок 1, заваливавший в школе близость и эмпатию, и понимание, и любовь, выбежав в коридор, выдыхает и спрашивает у Мамы и Папы будто бы через нос, сжав сведенные судорогой восторга челюсти: это ангел, да, правда, это нам, это мне? Копия приходит бледный и красивый, у него будто бы крылья, но на самом деле не крылья, а некое защитное облако чистоты, новизны и прозрачности словно следует за ним; может быть, это и есть крылья на самом деле, возможно, крылья сейчас такие, или эту вещь раньше изображали как крылья, чтобы мозгу было проще обрабатывать информацию через знакомые образы.
Копия совсем белый-белый, как бумага, потому что на него все будет записываться. Он стоит в коридоре с дымящей чем-то осенним и прозрачным спортивной сумкой в руках, и коридор как будто наполняется дождевой водой и луговым, сенным запахом случайного догорающего костра за поворотом на черный влажный лес.
– Как вас правильно называть? – смущенно спрашивает Папа.
– Ну дайте имя какое-нибудь, – говорит Копия, – Михаил, Рафаил, Варахиил, что-нибудь бытовое такое. Иофиил. Как у вас в семье обычно называют.
– Дай сюда паспорт свой, – говорит Папа. – Все равно документы у нас должны храниться.
Копия протягивает техпаспорт, хотя не очень понятно, как он может держать его крыльями или что там у него.
По паспорту Копия называется сложной комбинацией из цифр и букв, Папа звонит в налоговую, ему объясняют, что Копии лучше дать имя кого-нибудь из прадедушек, бабушек каких-то любимых, обычно все так и поступают, так проще сблизиться. Копию решают назвать Снежком в честь кота Снежка, который был у Папы в детстве. Это Папа не сориентировался, а потом было уже поздно, Снежок и Снежок, дети его так и называли.
Копия вроде как изначально понимает, в чем дело, но с ним не говорят ни о чем прямо; поначалу между всеми участниками проекта возникает некоторая неловкость. Копии выделяют комнату, одну из детских спален, хотя не очень понятно, ребенок он или взрослый: по виду взрослый, по поведению, скорей, ребенок, не разобрать. В документации и паспорте Копии написано, что Копии проходят что-то вроде обучения на протяжении чернового налогового года, а потом их отправляют во времени назад в приблизительно за месяц до Рождества (резервный, черновой год используется для моделирования и планирования года актуального), и вроде они должны что-то понимать, но прямо спрашивать, что они там понимают, страшно.
Копия улыбается и послушно, как на казнь, идет в ванную со стопками выданных паровых розовых полотенец. Утром является к завтраку – свежий, смущенный, улыбчивый, похожий на них всех, но такой новый, новее не бывает. Мама вспоминает, что даже Ребенок 2 женского пола не был таким новым, когда родился (Ребенок 1 мужского пола почему-то с самого начала был какой-то поживший, видавший виды, будто немного потасканный, Мама тогда решила, что все мальчики, видимо, изначально такие).
– Мы хотим, чтобы ты чувствовал себя как один из нас, – говорит Мама, скривившись и накладывая Копии побольше омлета.
– Я один, – говорит Копия. (Это, видимо, просто сокращенный ответ.)
Не очень ясно, насколько Копия заинтересован в том, чтобы стать одним из них, но он в каком-то смысле действительно совсем один. Выяснить, как себя вести с Копией, фактически негде, не у каждой семьи такое было, потери происходят у всех время от времени, но получить копию удавалось единицам, это большая удача. В Сети о правилах поведения с Копиями ничего толкового не написано, только слухи. Все обычно подписывают молчание, поэтому если где-то и есть тексты про жизнь с Копией, там явная ложь: подписание молчания делает любое обнародование информации структурно невозможным. По идее, думает Папа за завтраком, с тех пор, как потери стали предварительно индексировать так же, как прочие расходы, прикрепив их для удобства к налоговому году, у некоторых его знакомых явно что-то такое случалось – но как узнать, как посоветоваться, как вести себя с этим белым, странным, неясным, чужим?
– Снежок, – говорит Ребенок 2, – ты будешь мне помогать уроки делать, да?
Снежок послушно бредет в комнату Ребенка 2: длинные, тонкие цапельные ноги, низкая жужжащая облачность журавлиных плеч, идеальная жертва, думает Папа, даже бесит. Копия их семьи должна была выглядеть более витально, бойко, задиристо, не настолько нескладно.
«Щавлик какой-то», – брезгливо думает Папа. Как-то странно сыграл кровяной коктейль.
Тем не менее, кровь работает кровью. Ребенок 2 играет с Копией в какие-то развивающие интеллектуальные игры. Маленький Ребенок 1 тоже что-то такое с ним делает: разучивают стихи, что ли. Детям как-то проще сближаться с кровными незнакомцами. В какой-то момент оказывается, что Копия может восстанавливать мелких живых существ по сохранившемуся биоматериалу, поэтому Ребенок 2 с восторгом воссоединяется с черепахой Маркизой (сохранился панцирь; Маркиза ушла на чердак умирать и высохла там, фактически один лишь панцирь и нашли) и ахатиной Винни (понятно, чтó сохранилось) и проделывает с ними какие-то гуманные скоростные эксперименты для школьных проектов. Копия великолепно справляется с услугами няни: подай-принеси, со школы забери, на балет и на баян отведи. Его лучезарная услужливость слегка бесит Маму и Папу, но им неловко друг другу в этом признаваться.
Иногда по вечерам Мама и Папа предлагают Копии выпить, чтобы сблизиться с ним. Копия пьет немного («Ну какая же это наша кровь», – думает Мама), все время за это извиняется, отодвигая стакан белой дождевой ладонью. Мама и Папа рассказывают Копии свою молодость, как познакомились в студенчестве, как Папа ради Мамы вышел на карниз восьмого этажа и прошел все общежитие снаружи вдоль целиком справа налево, и как Мама после этого считала его полным отморозком и даже целоваться с ним не хотела, встречалась с кем попало, и только через десять лет, где-то встретив на конференции, вспомнила ту историю и вдруг подумала: рисковый какой был! любил, видимо! надо на кофе позвать! Копии не очень интересно (что удивляет Маму и Папу), но он вежливо улыбается мелкими жемчужными зубами, будто молочными, и Маму неприятно передергивает, почему, думает она, зачем заданы эти молочные зубы из той детской книги, они мне заданы будто нарочно, как условие, как домашнее задание, неужели они всегда вырастают с молочными, которые никогда не сменятся, сколько там у них времени. Мама вдруг с болью и отчаянием чувствует, что у нее полон рот каменных постоянных зубов, которые тихо искрят и потрескивают в ее челюсти, как электрические столбы ночью в черном мартовском поле.
Копии любые биографические нюансы не очень интересны, скорей, его интересуют совместные активности: он рвется помогать Маме пересаживать авокадовые деревья в оранжерее, помогает ей с мытьем посуды, и Маму это тоже бесит. Папа просит ее отстать от Копии, хотя бы не выговаривать ему, ведь Копия просто хочет им понравиться, хочет любви, их так учат – чтобы получить любовь, нужно стать незаменимыми, вот они и помогают.
Мама выпивает вечером коктейль с виски, предлагает Копии потанцевать, они танцуют под какой-то старый нелепый джаз, лицо у Копии безучастное, но вежливое и неизменно нежное, полное внимания, любви и абсолютной незаинтересованности в происходящем. Как любовь может сочетаться со вниманием и отсутствием интереса, думает Папа, пусть они хоть поцелуются сейчас, ну. Внезапно он начинает чувствовать что-то лихое, гарцующее, молодцеватое, что-то вроде ревности и возмущения, и от удивления и восторга чуть-чуть даже приподнимется всем телом над поверхностью кресла, но потом вспоминает, что Копия им верна генетически практически целиком, и списывает эту маленькую победу над гравитацией на всеобщее ощущение глобальной эйфории и победы над смертью, все-таки именно для этого нам Копия дана (и будет век нам всем генетически верна, повторяет мысленно Папа, доливая себе виски, чтобы больше не думать про инцест).
– Прекрати на него раздражаться. Если он не станет одним из нас, кто-то из нас умрет, – говорит Папа Маме перед сном, обнимая ее. При этом Папа вдруг чувствует страсть, потому что неожиданно понимает, что во всем их нынешнем варианте нуклеарной семьи только два человека имеют целиком и полностью различную комплектацию ДНК – это он и Мама. Все остальное это инцест. И только он с Мамой не инцест. Папу это захватывает всего целиком, как волной.
– Чего это ты, эй! – удивляется Мама. Не очень понятно, рада она или возмущена.
Через пару недель оба отмечают в негромких тайных разговорах в ванной, что Копия все же становится им близкой. Тем не менее, все еще не понятно, удается ли им ее полюбить. Без любви, возможно, потеря будет не настоящей потерей, а если потеря будет не настоящей, случится потеря настоящая. Мама постоянно спрашивает себя: уже получилось его полюбить, или все-таки нет? Это превращается во что-то вроде невроза. Однажды она видит, как Копия играет с папой в шахматы, и умиляется: это просто копия Папы, вот как он коника осторожно перенес, будто с берега на берег реки, через которую нет ни перехода, ни возврата.
– Где же вас таких делают, – удивляется Папа, когда Копия выигрывает у него в третий раз подряд.
– А нас не делают, – внезапно становится откровенным Копия, по-прежнему вежливо улыбаясь. – Мы программа. Причем мы одна и та же программа всегда, поэтому нас не делают, мы просто есть. Нас как бы задали этому всему, как задачу. То есть мы задача, а вы ее решаете разными способами сейчас, все вчетвером. Но если спросить у задачи, как именно она решается, что она вам сможет ответить? Это же самоубийство получится, а как задача может совершить самоубийство?
– Вылитый ты в студенчестве, – позже говорит мама. – Ты такую же херню говорил. Именно поэтому я к тебе даже подходить не хотела, такой противный был, напыщенный, думал, что это кого-то привлечет, фу.
Ближе к Рождеству становится понятно, что к Копии все действительно привязались и он, похоже, стал членом семьи. Всем от этого тяжело, даже младшему Ребенку 1. Оказалось, что в испуганном стремлении как можно скорей полюбить и принять Копию был такой отчаянный и невыносимый страх случайной потери, что окончательное принятие Копии перевело этот страх в категорию, находящуюся за пределами невыносимости.
За пределами невыносимости обычно располагается поле абсурда. Ребенок 1 искренне интересуется, можно ли оставить Копию себе. Ребенок 2 резонно интересуется тем, что случается с семьями, таки оставившими Копию, и как это оформляется документально. Мама объясняет: так сделать можно и это прописано в протоколе, но тогда потерей окажется кто-то из нас четырех, и мы даже не знаем, кто именно, поэтому даже подготовиться сложно – обычно в ситуациях, когда Копии не положено, семьи месяц готовятся: банковские счета, доверенности, пароли на всякий случай. А тут уже нет времени готовиться, на днях Рождество.
– К тому же вдруг речь о потере ребенка, – назидательно говорит Мама. – Представь, мы его оставляем, и ты так рада и счастлива, а наутро выясняется, что потеря – это ты. То есть у нас выясняется. У тебя уже ничего не выясняется, ясное дело. Что ты на это скажешь? Не дури.
– По-моему, он должен был быть с нами изначально, – говорит Папа. – Нас должно было быть пятеро. Почему при создании семьи сразу не выдают такого? Все намного быстрее и проще было бы. И всей этой херни не было бы (Папа знал, какой именно).
– Мы очень хотели бы тебя оставить, – объявляет Мама Копии за ужином за день до Рождества (до этого весь день вместе наряжали елку, упаковывали тайком какие-то подарки каждый в своей комнате, составляли список продуктов, обычные праздничные хлопоты). – Но оставить нельзя. Если оставляешь, это будет кто-то из нас.
– Это совсем не обязательно мне даже говорить, – улыбается Копия. – Я же специально пришел, чтобы быть вашей запланированной потерей. И нас учили отвечать так, как я сейчас отвечаю, поэтому это даже не совсем то, что я думаю.
– Мы просто знаем, что есть опция, при которой можно оставить, – смущается Мама. – И не хотим, чтобы ты подумал, что мы не думали о том, чтобы воспользоваться ей. Мы не хотим, чтобы ты думал о нас плохо.
– Как я могу думать о вас плохо, – улыбается Копия. – Я же вы, я же один из вас.
При этом Мама отчетливо понимает, что Копии даже не очень интересно оставаться. Глубокой заинтересованности в нем так и не появилось.
Интересно, любит ли он нас, думает Мама. Хотя, наверное, если любовь определяется через уровень жертвенности, все-таки любит. Но если через заинтересованность – тогда вообще непонятно. Какой-то совсем себе на уме.
В некий момент Мама ловит себя на том, что думает ужасное. Если потерей будет Папа, думает она, Копия поможет справиться с горем и вообще как-то наладить быт. А вот если потерей будет она сама – тогда, конечно, у детей никакого будущего. Эти будут только сидеть вдвоем и в шахматы играть одинаковыми жестами.
Мама интересуется у Копии, как оно там у них обычно происходит. Выясняется, что Копия просто выключается: они все работают ровно до Рождества, а потом прекращаются, когда наступает отсчет актуального налогового года, и на следующий день приезжают специальные службы и все делают, что положено.
Правда, выключается Копия в случайный, неожиданный момент – поскольку концепция случайной потери оказалась важнейшим и неотменимым элементом существования времени-пространства в его актуальной версии, происходить все должно все равно случайно (это Мама заглянула в техпаспорт Копии; но есть вероятность, что она трактовала все неверно, – возможно, это важнейший и неотменимый элемент чего-то другого, о чем нам прямо не сообщают, думает она).
Неотменимо, неотменимо. Мама долго думает это слово перед сном, и ей снится синее, гудящее неотменимо, похожее на раздутый до предела воздушный шар наизнанку, где вместо внешнего и внутреннего воздуха синяя тугая бескрайняя резина с запахом ветра и дождя, а между запахом ветра и запахом дождя – тончайшая пленка воздуха в форме шара, и вот она-то и есть неотменимо, и куда-то плывет сквозь резиновую синюю бесконечность, движение внутри которой затруднено и невозможно, но при этом – неотменимо.
Рождество было тревожным. Все боялись, что это случится прямо сейчас, в этот момент, но все не случалось; как-то дошло даже до торжественного стола и пламенного, огненного выноса шипящей индейки из духового оркестра кухонных печей, и тут уже все расслабились. Папа открыл шампанское. Пили, праздновали, даже пели какие-то песни все вместе, Папа все подливал себе и подливал. Ребенок 2 сидела на коленях у Копии и украдкой тоже пила шампанское. Мама подумала: вдруг это тот самый момент, тот самый момент, какая будет травма для Ребенка 2. Но это был все еще не тот момент.
Мама налила себе еще шампанского, собственноручно открыв третью бутылку, – у нее были крепкие пальцы, Мама в юности играла на аккордеоне – и комната закружилась, как бумажные бабочки в окне на мартовском ветру, когда разбивают форточку камнем с улицы. Оказалось, это Ребенок 2 уронила бокал. Но это был все еще не тот момент.
Когда собирались спать, Копия все еще был в порядке, улыбался, как обычно. Уложив детей, Мама и Папа провожают его до комнаты, целуют на прощание по очереди. Маму немножко шатает от шампанского и разбитой где-то внутри сердца форточки. Оказалось, что ее сердце и было тем самым камнем снаружи.
– Я боялась, что это случится в момент поцелуя, – потом признается она Папе.
– Я тоже, – признается Папа в ответ.
Мама снова не может уснуть, все кружится. Папа храпит. Маму немного тошнит. Она тихо встает, держась за стену, крадется к спальне Копии, заглядывает туда, осторожно приоткрыв дверь. Одеяло вздымается: дышит. Это все еще не тот момент.
Наверное, это случится ночью, думает мама, в самое неожиданное время. Она идет на кухню, садится за стол, щедро усыпанный терпко пахнущим мандариновым ковром. Идет дождь: редкое Рождество, когда дождь. Бывает белое Рождество, бывает водяное, думает мама, и ей тут же становится неловко, как всегда бывает, когда думаешь что-то неловкое. Можно ли полюбить кого-то за месяц, рассуждает Мама, было ли это так неизбежно, связано ли это вообще с любовью, а если бы в нем не было нашей крови, было ли бы это так же неизбежно? Как бы оно было, если бы оно было иначе? Но Мама не может понять, как все могло бы быть иначе, поэтому она выпивает еще один бокал шампанского, потом еще один, и где-то в шесть утра идет спать, прислушиваясь к неслышным шорохам внутри камина, не идет ли кто (она была готова уже дать отпор).
По дороге снова заглядывает в спальню: спит, дышит. Все дома, думает мама, как хорошо, теперь наконец-то можно заснуть, это все еще не тот самый момент, или даже уже не тот самый момент, и теперь сколько бы ни было нас, мы все проснемся в полном составе.
Утром Мама просыпается от тошноты, головной боли и непривычных, оглушающих спазмов в животе. Она долго-долго лежит с закрытыми глазами, слушая обычные утренние звуки в гостиной: кажется, там все разворачивают подарки. Все получилось, думает она. Интереса к тому, каким образом все получилось, у Мамы почему-то совершенно нет, но теперь она наконец-то понимает, что крови и любви – действительно достаточно.
Номер сто
Пожилой профессор ехал на важную встречу и потерял по дороге портфель, или дело было так – вышел из автобуса, а портфеля нет.
Автобус – саранчово-зеленый, увитый праздничными летними лентами городской маршрут номер сто – плавно уплывал за поворот, будто медленный и торжественный свадебный торт, вносимый невидимыми подземными официантами в светлый рай проспекта Победы. Профессор было решил побежать за автобусом, таким непривычно тягучим казался его душный, дурманящий реверанс, но остановил себя в нелепом полупрыжке, вздумав размахнуть для инерции всей тяжестью кожаного, книжного, привычного: потерял!
Он никогда ничего не терял еще, и тут впервые потеря, да еще такого важного – там лежала вычитанная и вся вдоль-поперек исчерканная, выправленная, как полк солдат, диссертация его свежего, вероятно последнего, аспиранта, как с грустью и чувством упоительной ответственности иногда думал он сам, – последнего, выдали последнего, дальше тишь. Может, действительно последнего, мысленно ахнул он, началось. Портфель забыл, потом что забудет, плащ? Кошелек? Имя забудет вначале, потом возраст (вот тогда и побежит за автобусом резвым пятнадцатилетним хулиганом с ломкими, пористыми костями и одеждой, пахнущей книжной полочкой и чемоданчиком), потом адрес, безымянного старичка нашли на кольцевом маршруте, лежит в отделении безымянных старичков и слушает внутреннее радио, внешнее не понимает уже.
Нет, просто случайность. Вернулся на остановку, крутился там, заглянул под скамейки, потом позвонил в автобусный парк. Там попросили перезвонить вечером. Волновался, скорей, не из-за того, что все потеряно, а из-за встречи: признаться в своей несостоятельности, отменить, расстроить все было для него окончательным признанием в том, что портфель действительно ушел, исчез, не перешел временно в некое иное, лиминальное состояние, став несущественным, невидимым, неважным. В итоге пошел на встречу так, без портфеля, не смог признаться, что потерял где-то: забыл, выбежал из дома и понял, что и портфель забыл, и ключ забыл, а дверь захлопнулась. Пусть последний аспирант (молча подливает чай, бледнеет, уже соображает что-то такое околосмертное) понимает, что он не только предположительно последний, но и подарочно первый в этом ряду свежих, как земля, неудач, а не только прежних головокружительных успехов. Пункты диссертации профессор помнил наизусть, теория запутанности, вообще сплошь теория, не страшно и потерять (успокаивал себя). Оба держались молодцом, никаких лишних вопросов, профессор попросил аспиранта показать ему диссертацию на экране компьютера и укоризненно постучал аспирантским карандашом по стеклу – вот, тут у вас непонятное, тут! – но стука не получилось, мониторы уже давно не стеклянные, и профессор осекся, но потом подумал, что и карандаши, скорей всего, уже давно не деревянные, стучи не стучи.
По дороге домой снова позвонил в автобусный парк, там сказали, что портфель нашелся, забирайте, водитель со смены пришел и отдал, все люди же, устал дико, но понимает, каждый же человек, все люди (намек то есть: не с пустыми руками приходить? Но руки ведь пустые именно потому, что потерял?)
Шел в автобусный парк пешком, все документы и проездные тоже были в портфеле. Около парка на закатной, укрытой длинными, вязкими, как кисель, вечерними тенями, увидел молодого человека с портфелем в руках – его портфелем! Это совершенно точно был тот портфель – такой же потрепанный, черный, с протершимися тканевыми сетчатыми уголками.
– Это я потерял, это мой, вот я за ним пришел, – сказал профессор и потянулся за портфелем. Видимо, это был шальной поздний работник автопарка – не дождался его и вышел встречать на скамейку, но выпил немного, бывает, все мы люди, каждый человек.
Молодой человек всхлипнул и прижал к себе портфель отчаянным, безнадежным жестом.
– Нет, нет, это мой, не отдам, – сказал он пьяным, заплетающимся голосом. Оказалось, что этот молодой человек совсем ветхий, сам похожий на шаткую тень, буквально еле сидит. Лицо у него было бледное, уставшее, полупрозрачное, как папиросная бумага.
– Вы что-то перепутали, наверное, – сказал профессор и мягко схватился за портфель, потянул на себя жестче, сильнее. – Это мой, вы что, отдайте, мне нужно.
– Это мне нужно, это мой, – завсхлипывал, как припадочный, молодой человек, хватаясь за скользкую от то ли слез, то ли разлитого пива (или что он там пил, не очень было понятно, позвякивало что-то под ногами) кожу портфеля, – я без этого нет, я не отдам. Там важнее, чем я.
Профессор подумал, что молодой человек (водитель? Просто работник автопарка, возможно, уборщик?) впал в особого рода драматический делирий, осознав сверхценность случайно обретенного. Дернул портфель несколько раз с силой и даже злобой; молодой человек что-то бормотал, всхлипывал, крючковато и вяло цеплялся неловкими, медленными пальцами, тянулся, всхлипывал, потом и вовсе начал рыдать, сползая со скамейки в черноватую ночную грязь:
– Пожалуйста, не забирайте. Я все как надо сделаю, я больше не буду это все, я понял уже, не надо только забирать, – и вдруг застонал и опал, как груда осенних листьев. От него несло ветошью, тряпьем и перегаром, совсем опустился, может, и не работник вовсе, а сутками просто тут сидит, собирает чужие вещички. Обнаружив, что его руки пусты, молодой человек беззвучно завыл и начал цепляться пальцами за скользкую от слез скамейку.
Профессор встряхнул портфель – тот, точно тот.
– Это мой, это же мой, вы знаете же, что мой, верните, умоляю, – рыдал молодой человек откуда-то уже издалека (профессор развернулся и зашагал прочь, зажав портфель под мышкой, рассчитывая, что он немного очистится, пообтершись о плащ), – пожалуйста, верните, это мой, не забирайте. Не надо, не забирайте, я все сделаю, как вы скажете, все как нужно сделаю, не будет как в прошлый раз, я обещаю, не забирайте. Как же так, я не понимаю, как же так.
Профессор даже не обернулся.
Уже дома положил портфель на стол, включил настольную лампу и задумался: а его ли это портфель? Очень уж неподдельно рыдал несчастный молодой человек – как будто с этой минуты в его жизни все теперь пойдет не так.
Вдруг ему стало очень не по себе.
Расстегнул, заглянул вовнутрь.
В портфеле лежали его обычные, повседневные вещи: футляр от очков, чужая плохая диссертация, еще какие-то мелочи, коробочка скрепок, яблоко все в хлебных крошках, носовой платок.
Правильно, выходит, забрал.
Ему уже не надо, вдруг сердито подумал профессор, уже все, зачем ему этот портфель.
Еще он подумал, что у него в молодости кто-то тоже вот так забрал портфель с его диссертацией, и, действительно, в жизни потом все пошло не так. Но выбрался как-то – и этот тоже выберется.
– Выберется! – вслух, строго и назидательно сказал он и выключил настольную лампу.
Потом позвонил жене, которая была на даче со внуками, – просто убедиться, что не случилось ничего чудовищного, что это не какая-нибудь временная петля.
Жена, сонная и недовольная, перечислила по его просьбе всех их внуков – все на месте, все совпало. Поинтересовалась, все ли с ним в порядке, не началось ли. Нет, не началось, ответил профессор, просто интересно было кое-что проверить, а собака у нас есть, есть собака? Нет, собаки у нас нет, ответила жена, что еще? Может, ты не тот телефон набрал и я не твоя жена? Может быть, у тебя никогда не было жены вообще, а с этого вечера она вдруг у тебя есть вся целиком всю жизнь, и трое детей и пятеро внуков появились ровно в это же мгновение, ты это имел в виду, да?
– Нет, не это, – испуганно сказал профессор, потому что, кажется, имел в виду именно это, как будто бы во время звонка жене на дачу вдруг выяснится, что у него никогда не было жены или никогда не было дачи, или, наоборот, внезапно есть жена и дача, хотя до этого фортеля с портфелем он был трагически и безвозвратно одинок.
Убедившись, что жизнь осталась такой же, как была, и ничего не изменилось – и, следовательно, эпизод с портфелем не означает ровным счетом ничего, кроме трагичного, кромешного совпадения нежелательного с невозможным, профессор заснул.
Утром он проснулся, позавтракал, почитал утреннюю прессу (мир остался ровно таким же, как был) и поехал на очередную встречу с аспирантом, но по дороге снова забыл портфель в автобусе – как так получилось, он толком не понял, потому что точно помнил, что выходил, крепко прижимая чертов портфель к груди. Это было похоже на неприятные, травматичные попытки вынести некий сверхценный, переливающийся всеми гранями неона и немыслимой сини объект из плавающего, звенящего пространства сна. Несешь, несешь, и потом, уже прорывая насквозь этот липкий лимб натянутой, как пузырь, яви, обнаруживаешь между ладонями тугую обманную пустоту, лишенную даже памяти о том, что ее наполняло.
Дальше все тоже было немного как во сне, что сильно обеспокоило профессора: он объяснил аспиранту, что специально не брал с собой исправленную копию диссертации, потому что должен внести еще кое-какие правки, часа три разбирал очень приблизительные ошибки (возможно, и не ошибки вовсе) в его громоздких выкладках (увидев в тексте чересчур буквально воспринятый пассаж про множество возможных миров, жестко вычеркнул, воскликнув: это же литература у вас, а у нас научная работа, научная!), после снова позвонил в автобусный парк: действительно, забыл, и снова водитель выручил, спас, не забрал себе, вот есть же хорошие люди, укоризненно прошипела в трубку старуха-диспетчер. Есть, конечно, не чета тебе, ведьма.
Подходя к автобусному парку, профессор снова увидел сидящего на скамейке молодого человека – пьяного, сонного, обнимающего черный портфель и уже заранее как будто плачущего. Он выглядел еще более опустившимся, измотанным. Профессор подошел к нему и сказал:
– Ну что, сами отдадите на этот раз или помочь?
Молодой человек зарыдал, обнял портфель так, как будто это была урна с прахом всех его нерожденных детей, умерших в прошлой жизни тихими вредными старичками, благополучно сожженными в подготовке к важнейшему переходу и внезапно лишенными прав на реинкарнацию в последнее мгновение, – только прах, только невозможность будущего – и снова начал бормотать и всхлипывать: не забирайте, не забирайте, пожалуйста, я не понимаю, что я сделал не так, но не убивайте, пожалуйста, не забирайте, я не справлюсь, не смогу.
– Справишься! – уверенно сказал профессор, выдергивая залитый горем портфель из трясущихся объятий молодого человека. – И без этого получится!
– Не получится, – завыл молодой человек. – Ничего не получится теперь, все. Это мой, это мое, это же мне было, мне. Оставьте мне. Пожалуйста, я что хотите сделаю.
– Ничего не надо делать, – строго, но неуверенно сказал профессор, пряча портфель под мышку. – Все нормально будет.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































