Текст книги "Граф Мирабо"
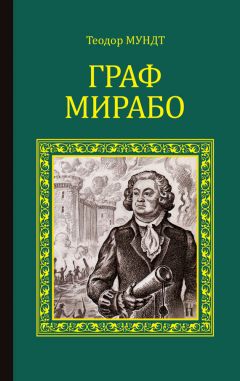
Автор книги: Теодор Мундт
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
IV. Мирабо и Генриетта
Генриетта, одна в своей комнате, сидела неподвижно все на том же месте, а воображение уносило ее вслед за рассказами сестры Анжелики. Наступила ночь; глубокая тишина окружала забывшееся в своих мыслях дитя; лишь из монастырского сада, куда выходило ее окно, деревья навевали ей страшные мелодии. Внезапно очнувшись от своих мечтаний, она стала прислушиваться и бояться, сама не зная чего. Какой-то страшный шепот и движение доносились, казалось ей, сквозь живую изгородь сада.
Вскочив с места и поспешно направляясь к открытому окну, Генриетта плотно закрыла его, зажгла свечу и стала боязливо оглядывать все углы комнаты. Тут она поняла, что ее испуг – игра воображения, и что там, внизу, только усилившийся ночной ветер шелестит по аллеям сада. Улыбаясь своему ребячеству, она села и принялась за чтение недавно начатой книги. Но ей не удавалось сосредоточить своего внимания. Отбросив книгу, она снова, прислушиваясь, подошла к окну. Теперь уже ее тонкий слух ясно улавливал какой-то шепот в саду.
В ту же минуту она услыхала тихий шорох у двери и вздрогнула, слегка вскрикнув от ужаса. Первым ее движением было защелкнуть дверь, но какое-то смутно просвечивающееся в душе ее чувство удержало ее от этого.
Дверь растворилась и в неосвещенном конце комнаты появился человек, которого Генриетта, едва владеющая собой и едва стоя на ногах, тотчас узнала.
– Это он! Граф Мирабо! – тихо прошептала она, отстраняясь рукой, как бы для защиты.
– Вы знаете мое имя, Генриетта! – воскликнул он торжествующим голосом и быстрым, неудержимым порывом приблизился к ней и схватил ее руки.
Генриетта, лишенная воли, не сопротивлялась, а он прижимал ее руки к своей груди и губам. Сознание, что она выдала себя, произнеся его имя вырвавшимся у нее криком ужаса, доводило ее замешательство до крайности. Ей казалось, что она потеряла в своем сердце всю силу сопротивления ему.
– Генриетта, – вновь начал граф Мирабо, со страстью глядя на нее, – я счастливейший из людей, потому что вижу, что тем временем вы думали обо мне. Я не хочу разведывать, кто вам выдал имя Мирабо. Да и какое значение может иметь имя, прославившееся до сих пор лишь своими страданиями и преследованиями! Но оно может подняться и воссиять во всем блеске новой жизни, которая начнется для Мирабо, если ты захочешь этого, Генриетта! Тебе, конечно, сказали то, что вся Франция знает, как мучили, пытали и травили до сих пор графа Мирабо! И вдруг теперь участь моя в твоей руке, Генриетта! Ты усмиришь бушующую бурю моей жизни и твоими милосердными устами произнесешь над нею вечный мир любви!
Генриетта молчала, опустив голову на грудь, и слушала его, неподвижная, как изваяние. Она как будто боялась, что малейшим движением ускорит решение той силы, которой чувствовала себя подчиненной. Но если в страхе она была способна оставаться неподвижною, то не могла удержать быстрого и сильного биения пульса в дрожащих руках, которые он крепко держал в своих, а это биение красноречивее всяких слов говорило ему о ее душевном состоянии.
– Повтори мне еще раз то слово, которым ты меня приветствовала, Генриетта! – воскликнул Мирабо, привлекая ее ближе к себе. – Скажи еще раз: это он! И я прочту в этом блаженное для меня признание, что ты всем сердцем отдаешься мне и хочешь следовать за мной, чтобы никогда меня не покидать, а оставаться навсегда в любви и верности, и следовать за мной сегодня же, сейчас!
Генриетта слегка покачала головой, не освобождая своих рук и не произнося ни слова. Только бессознательная, полная предчувствий улыбка скользнула по ее лицу с выражением скорее зарождающегося счастья, нежели сильной борьбы.
– Ты не хочешь мне отвечать, – начал опять Мирабо самыми ласковыми звуками своего глубокого, чудного голоса, – но ведь сердце твое открыто передо мною; и если уста твои отказываются еще раз сказать мне это он, то сердце твое, когда к нему я обращусь, молча подтвердит мне это. Да, это он, он, который, раз увидя тебя, не мог уже больше не думать о тебе и осмелился ворваться к тебе за эти монастырские стены, чтобы звать, требовать тебя! Это он, тот, что, одушевленный твоею молодостью и красотой, постучался к тебе, чтобы возвратить тебя цветущей, светлой жизни, которой ты принадлежишь всею твоею прелестью, всем твоим очарованием. Он это, желающий вынести тебя на своих сильных и верных руках из этой монастырской тюрьмы и открыть тебе двери жизни! Иди же скорей, следуй за твоим другом, который любит тебя. Все уже готово, и твои тюремщики, купленные мною, не задержат нас, будто и не видя нашего бегства.
Генриетта молча и испытующе заглянула ему в лицо, желая прочесть на нем серьезность и верность его намерений. И увидала она свет правды и любви, подтвердивший ей все, чего она втайне желала, и чему могла довериться, казалось ей, как незыблемой скале. Дикое выражение его лица, приводившее ее в трепет, сменилось выражением самой сердечной нежности и кротости, и если он представлялся ей еще подобием льва, обладающего безграничною силой, то вместе с тем она сознавала всем существом своим, что этот лев готов преклониться перед ее взглядом и словом и отдать себя в ее руки.
Мирабо опять посмотрел ей пристально в глаза и сказал:
– Так иди же, Генриетта, настала пора покинуть это место. Иди! Там твоя свобода, воздух, будущность и счастье! На меня смотри только как на своего слугу, который будет верно сопутствовать тебе, чтобы добыть счастье твоей юной жизни, бесправно похищенное и сокрытое от тебя. Пройдет несколько часов, и ночь, нас окружающая, сойдет со своих черных коней, чтобы преклониться перед восходящей утренней зарей. И при первом солнечном луче, который завтра осветит тебя, ты увидишь себя в розовом блеске свободы, никогда еще тобою не виданном; ты будешь иначе дышать, мыслить и чувствовать, чем до сих пор, и должна будешь признать за Мирабо, что он отвоевал тебе, обиженной и одинокой девушке, право твоего существования и спас драгоценное сокровище – юность твою!
Генриетта все еще медлила с решением, или, вернее, не смела высказать решения, едва сознаваемого ею самой.
– Прежде всего возьми шаль и мантилью и хорошенько укутайся, ночь холодна, – сказал Мирабо, почти повелительно указывая ей взглядом своим, сопротивляться которому она была не в силах, на то, что ей нужно делать.
Генриетта машинально следовала за этими взглядами, указывавшими на стенной шкаф. Прямо, едва шевелясь, она, как лунатик, повинуясь тайно действующей в ней воле, направилась к стене.
Взяв шаль и мантилью из шкафа, она держала их еще с минуту в нерешительности, как бы стараясь что-то вспомнить. Но Мирабо, быстро подойдя к ней, окутал ее теплою шалью, крепко обняв при этом дорогое создание.
Генриетта стояла неподвижно. Длинные ресницы совсем опустились и скрыли ее взоры.
– А теперь возьми шляпу и вуаль, мое дорогое дитя, и покрой твои чудные светлые кудри, потому что на дворе сильный ночной ветер! – продолжал Мирабо своим поразительно властным голосом.
И этому его приказанию Генриетта повиновалась тотчас же; быстрым движением руки закрыв лицо вуалью, стояла она, вся укутанная, как бы в ожидании его дальнейших приказаний.
Мирабо смотрел на нее со страстным восторгом, а она и под вуалью чувствовала, как он пожирал ее огнем своих пылающих глаз, и, точно увлекаемая каким-то электрическим лучом, стала всматриваться внутрь себя самой.
– Не забудь еще, Генриетта, – начал опять Мирабо, – взять с собой все, чем ты еще дорожишь здесь из твоего маленького имущества.
При этих словах Генриетта громко вздохнула, и теперь внезапная торопливость овладела ее до сих пор будто окоченелыми членами. Она быстро подошла к шкафу, украшенному старинною резьбой, озабоченно и поспешно стала в нем выдвигать ящики, один за другим, усердно роясь в них. Прежде всего взяла оттуда золотой, унизанный жемчугом медальон с портретом своего знаменитого отца. Благоговейно поцеловав его, она, с сияющим радостью лицом, спрятала его на груди. С этой минуты она казалась себе более обеспеченной и обнадеженной.
Побледневшие щеки вновь оживились румянцем, и в первый раз она взглянула своими лучистыми глазами на Мирабо. Как очарованная, смотрела она на него, будто пробуждаясь ото сна, и, слегка кивая головой, выражала свое счастье, свое блаженство, что пробуждение не разрушило сна, а чудом превратило его в истину здесь, перед его очами.
Но вот она опять легкой поступью газели направилась к резному шкафу, взяла оттуда маленькую шкатулку и быстро, почти радостно подойдя к Мирабо, смотревшему на нее с восторгом, подала ее в руки ему, взглядом дав понять при этом, что она поручает ему сохранность содержимого. Во всем этом было что-то столь трогательное и покорное, что граф Мирабо упал к ее ногам и с бурными ласками стал покрывать поцелуями ее руки и платье.
Однако кроме невольно вырвавшегося у нее при его входе в комнату восклицания, Генриетта не проговорила к нему еще ни одного слова. Между тем ей казалось, будто долгие переговоры велись о целой ее жизни, и при этом все, что в душе ее жило и теснилось, было высказано так полно, что ей более нечего прибавлять; она может только молча блаженствовать в его присутствии.
Но Мирабо хотел услышать из ее уст слова, о которых уже раньше умолял ее. Обняв ее и касаясь ее щеки, он тихо спросил:
– Готова ли ты следовать за мною, доверишься ли мне так, чтобы один из нас жил в другом, и чтобы, живя одним дыханием жизни, мы никогда не разлучались, а вечно принадлежали друг другу?
Генриетта молчала, а в глазах ее заблестели слезы.
– Я ли это, который пришел первым за сокровищем твоей любви? – спрашивал далее Мирабо с нежной настойчивостью. – Мирабо ли тот, кому ты обручилась в своем сердце и с кем ты связала себя? Он ли тот, с кем ты охотно пройдешь весь мир, и может ли он быть уверен в твоем прощении, твоей любви и милосердии?
– Это он! – прошептала Генриетта едва слышно и опять, будто испуганная, отвернулась от него.
– Ты вымолвила слово! – с бурным как всегда ликованием воскликнул Мирабо. – Ты сказала его, Генриетта, и оно заключило наш сладкий союз. А теперь идем! Пусть двери всех тюрем во Франции откроются любовью и свободой, как я открываю тебе твои двери, через которые ты никогда более не возвратишься в это заточение тела и души!
С этими словами он широко раскрыл двери перед нею, пропуская ее вперед, и, чтобы она была уверена в своей свите, высоко поднял руку над ее головой, дотрагиваясь пальцем до ее темени.
Генриетта, которой придавали храбрости сильная защита его руки, шла не робея и не мешкая по длинному монастырскому коридору, выходившему на главную лестницу. Хотя шаги беглецов слегка отдавались в стенах, однако спавшие обитательницы келий не были разбужены ими. Все было тихо, и Мирабо с Генриеттой дошли благополучно до монастырских ворот. Ворота были открыты, а старой привратницы не было видно.
Они вышли поспешно на улицу. В маленьком переулке, в расстоянии нескольких минут, их ожидал экипаж. Слуга графа держал дверцу открытой. Мирабо усадил Генриетту в экипаж, быстро умчавшийся в ночь.
V. Таинственное дитя
Экипаж остановился близ Бастильской площади, на улице Ла Рокетт, где с некоторых пор жил граф Мирабо. Первые лучи солнца, пробиваясь сквозь светлеющий горизонт, осветили маленький узкий дом, в который Генриетта вступала под руку с Мирабо, несколько замедляя свои шаги. В первую минуту при виде мрачного и бледного домика, в который они входили, она почувствовала себя как бы обманутой в своих возбужденных воображением ожиданиях, обещавших ей блестящий графский замок. Но один лишь взгляд на Мирабо, заботливо сопровождавшего ее по скользким каменным ступеням узкой лестницы, вновь показал ей все в радужном сиянии, и она с бьющимся от счастья сердцем вошла в помещение первого этажа, открытое перед нею слугою Мирабо.
Хотя две первые, смежные между собою комнаты были довольно обширны, однако необыкновенная их пустота, где чувствовался недостаток даже в самой необходимой мебели и других предметах жилого помещения, производила почти неприятное впечатление. При таком странном отсутствии вещей в комнатах графа Мирабо не могло, кажется, быть и речи о беспорядке в них, однако же и он бросался в глаза: немногие столы и стулья были завалены книгами, бумагами и всевозможными предметами, а разбросанные по полу рукописи и платье достаточно свидетельствовали о неаккуратных привычках обитателя этого жилища.
Граф Мирабо с тех пор, как он променял свои несчастные странствования на пребывание в Париже, не успел еще устроиться подобающим его положению образом. Полнейшая неуверенность в будущем, которое он собирался устроить себе сызнова, а еще больше совершенное расстройство его финансовых обстоятельств приучили его к бивуачной жизни, никак не подходящей для потомка одного из старейших и знаменитейших дворянских родов Прованса.
Однако даже среди более чем скромной домашней обстановки Мирабо сумел сохранить блеск некоторых аристократических привычек. Он не только держал слугу, но еще одевал его в такую великолепную богатую ливрею, что нужда господина не могла быть замечена при виде слуги. Кроме того, он имел секретаря, услугами которого пользовался при своих обширных с некоторых пор литературных работах, и который помещался в задней комнатке, непосредственно соединенной с помещением Мирабо. Как раз в эту минуту раскрылась дверь соседней комнаты и, обвязанная красным платком, в виде тюрбана, голова молодого человека выглянула с любопытством и улыбкой в полуоткрытую дверь.
– Вы не нужны, господин Гарди, – обратился к нему Мирабо, жестом руки заставляя секретаря снова удалиться.
Генриетта была бледна и измучена. Мирабо приглашал ее пойти в соседнюю комнату, где она найдет приготовленным все необходимое для отдыха. Но Генриетта выразила желание не оставлять его. Утомленная, она опустилась на диван, – одно из немногих удобств в комнате, – и стала пристально смотреть на Мирабо своими кроткими блестящими глазами, а прелестное лицо ее, бледность которого вновь сменилась нежным румянцем, приняло выражение мечтательное и сияющее радостью.
Посреди комнаты за столом, на котором тем временем слугою был подан завтрак, сидел Мирабо. На неоднократные приглашения принять участие в завтраке Генриетта отвечала отказом, продолжая сидеть в отдалении. Но мечтательно следившими за ним глазами она находилась неотступно возле него и с восхищением наблюдала за всеми его движениями.
Окончив, по обыкновению, беззаботно и небрежно свой завтрак, Мирабо опять сел у ее ног, нежно взял ее руку и стал пытливо смотреть ей в глаза.
– Я последовала сюда за вами, – обратилась она к нему едва слышным голосом, – и не спрашиваю, что со мною будет, так как я по доброй воле предала свою судьбу в ваши руки. Но чувствую, что я вся в вашей власти. Иначе поступить я не могла, действуя под влиянием какой-то неодолимой силы. Не лишите ли вы меня когда-нибудь за это вашего уважения, граф Мирабо? Не осудите ли меня втайне за то, что, забыв все заповеди и обязанности, я, по одному вашему слову, беспрекословно последовала за вами?
В первый раз обратилась она к нему со связной речью. До сих пор она выражала лишь отрывочными звуками то, что происходило в ней и что сделалось по отношению к нему сильнее всех побуждений ее строгой всегда и во всем совести.
– Ах, Генриетта, – со страстью в голосе воскликнул Мирабо, – и этими сомнениями ты делаешь меня счастливым! Они тоже своего рода признания в любви. Тем, что ты с полным доверием последовала за мной, ты навеки обратила меня в своего должника и раба, и никогда благодарность моя не уменьшится и не перестанет лежать у твоих ног, в какое бы положение изменчивая судьба ни бросила нас. Что такое уважение, Генриетта? Отравленное орудие общественного предрассудка. Деспоты и привилегированные классы требуют уважения к своему исключительному положению, потому что, обиженные Богом, они не в состоянии основать его, это положение, на любви и свободе. То, что я был бы принужден уважать, я мог бы и презирать. Мы с тобой, моя дорогая, новые люди любви и свободы, и если мы свободно любим друг друга, по заповедям Бога и природы, то уже мы достойны уважения один другого. Под нашим же небесным троном где-то там, глубоко во прахе, пусть себе барахтается уважение или презрение толпы!
Внимательная и счастливая, Генриетта слушала его и только что хотела в ответ сказать что-то, как послышался тут же рядом громкий крик ребенка. С истинным ужасом вскочила она и посмотрела на графа Мирабо с выражением такого явного смущения, что он громко засмеялся.
– Это мой маленький Люкас кричит там, – сказал Мирабо. – Если хочешь, Генриетта, навестим его; мне бы очень хотелось представить тебе и этого маленького домочадца. Мальчишка развивает уже, как видно, свой сильный грудной голос, который доносится сюда.
С этими словами он встал, быстро подвел Генриетту к двери и проводил ее по маленькому коридору в заднюю комнату своего помещения. Здесь стояла колыбель, а в ней лежал цветущий, приблизительно двухлетний мальчик. Хотя именно в эту минуту он находился, как видно, в неприятном разладе с няней, однако поражал своей необыкновенной красотой и прелестью. Генриетта нерешительно вошла в комнату, но тотчас же с улыбкой восхищения и с сильно зарумянившимся лицом подошла к колыбели прелестного малютки. Посмотрев на Мирабо, она увидела на его лице выражение такой трогательной нежности, какую едва ли можно было представить себе на этих страстных чертах.
Няня, молодая девушка в провансальском костюме, по знаку Мирабо взяла ребенка на руки и держала его для приветствия, которое со стороны графа сопровождалось такими оживленными ласками и заигрываниями, что ребенок не только тотчас успокоился, но и перешел к радостному и необузданному ликованию.
– Это мой маленький прелестный Коко, которого имею честь тебе представить, – сказал Мирабо Генриетте, с трудом освобождая свои волосы из захвативших их маленьких ручек мальчика.
– Я его усыновил, хотя и не дал ему своего имени, – продолжал Мирабо, не переставая ласкать и целовать ребенка. – Его зову Люкас Монтиньи, и это необыкновенно веселая птичка, а вместе с тем и очень честный малый. Он может равно забавно кувыркаться, как и выслушивать с самым серьезным видом, когда ему толкуют, что он скоро сделается разумным, и что терзаемая своими тиранами Франция надеется найти в нем своего избавителя и мстителя.
Эта шутка Мирабо была им сказана с такою оригинальною прелестью, что Генриетта, сильно взволнованная, притянув ребенка к себе, не могла удержаться, чтобы при этом сердечно и нежно не пожать оцарапанную мальчиком руку Мирабо.
Взяв на руки веселое дитя, которое немедленно с нею познакомилось, она стала с участием, доходившим до восторга, разглядывать его и, кажется, втайне искать сходства с Мирабо. Глаза ее радостно сияли при виде красоты ребенка, и она не переставала ласкать его. Но вдруг, положив мальчика обратно в колыбель, она, опечаленная, поникла головой и задумалась. Мирабо, смеясь, заставил ее очнуться и, грозно подняв указательный палец, стал увещевать ее бросить посторонние мысли и вновь вернуться к нему и к действительности.
Генриетта, несколько испуганная, со вздохом приняла предложенную ей руку для выхода из детской.
– Теперь Люкас Монтиньи опять уснет, – сказал Мирабо спокойным и приятным голосом, который после его только что строгой речи прозвучал новою прелестью для слуха Генриетты.
– Оставим же его одного и вернемся к себе. Я обрел сейчас отрадную уверенность, что отныне мы втроем, Мирабо, Генриетта и Коко, составим счастливую семью. Не правда ли, Генриетта, ты будешь для этого плутика, которого я люблю выше всякой меры, небесным провидением, под крылом которого ему удастся сделаться правдивым, настоящим человеком? Мы с тобой будем ведь отныне неразрывно связаны, не так ли? Так прими же маленького красавца, рождение которого покрыто тайной, в число остальных богов любви нашего союза. Согласна ли ты, Генриетта?
В ответ она многозначительно кивнула головой. Когда же они вернулись в свою комнату, то в избытке переполнивших ее чувств она бросилась в его объятия.
– И это твой сын, Мирабо? – прошептала она, с робостью и застенчивостью глядя на него.
– Весь маленький человек – тайна, как я уже сказал тебе, Генриетта! – возразил Мирабо уклончиво.
– Он сын Софи де Монье или графини Мирабо? – продолжала вопрошать Генриетта почти с мольбой, потому что сердце ее начинало испытывать самое тяжелое из всех мучений, мучение неизвестности; для душевного же спокойствия ей казалось необходимым раскрыть тайну загадочного появления ребенка.
– Ах, невинное дитя мое, – возразил он с улыбкой, – вижу, что необычайные любовные истории Мирабо проникли и в твой монастырь. И куда только они не проникали! Так, что ты знаешь, как сильно когда-то Софи и Мирабо любили друг друга? Это была любовь двух мучеников общества, очутившихся рядом из-за страха к жизни и которые, обрекая себя на гибель в бурных житейских волнах, ухватились один за сердце другого, как за якорь спасения. Благодаря жестокости своих родных она была скована с дряхлым, отвратительным старцем, навязанным ей в качестве мужа; я же, будучи в силу чудовищного и достойного проклятия закона жертвой насилия родного отца, таскался целыми годами из одной тюрьмы в другую. В Понтарлье, последнем месте моего заключения, я увидал Софи, и мы полюбили друг друга. Мы любили один в другом свободу, счастье и погубленную молодость. Вот в какое бедственное мгновение наши судьбы слились вместе. И могло ли оно быть иначе? Сначала мы бежали каждый отдельно и лишь на границе Швейцарии встретились как счастливые союзники. Но наш союз был для обоих нас источником горьчайших страданий и преследований, верь мне! В Голландии мы пожили, правда, несравненною жизнью любви; однако и здесь был, в известной степени, искусственный обман. Мы никогда не могли вырвать из души нашей жало, что любовь наша есть лишь новый удар судьбы для нас обоих. Среди этого счастья и вместе страданья настигла нас рука полицейской власти, высланной в погоню за нами; меня потащили в Венсенн, а Софи в монастырь в Гине, где в скором времени у нее родилась дочь, единственный отпрыск нашей любви. Но ребенка через несколько месяцев не стало, он умер, и от нашей полной страданиями любви, разлетевшейся, как мечта, не осталось ничего, кроме ткани поэтических мыслей, которую в наших письмах мы растягивали от монастыря до тюрьмы и которая, быть может, займет однажды между произведениями нежных сердец классическое место! Но мое сокровеннейшее сердце, Генриетта, осталось девственным для новой, настоящей любви, для любви к тебе, и в ней все мое существо обновится и вновь сделается юным! В этом маленький крикун, Люкас Монтиньи, не должен нам быть помехой.
Генриетта следила за его рассказом с самым страстным вниманием. Каждое его слово было для нее так важно и полно содержания, что она, казалось, брала их глазами с его уст и прятала в глубине сердца. Слушая и глядя на него, лицо ее светилось пламенным благоговением и готовностью следовать его велениям, которые должны решить ее участь.
Хотя Мирабо достиг уже зрелого возраста, недавно ему минуло тридцать пять лет, однако избыток молодости еще соединялся в нем с величием силы и изяществом в такой степени, что уничтожал всякое впечатление его пресловутого безобразия. В эту минуту Генриетта больше, чем кто-либо, испытывала на себе все волшебство его личности и с трепетом склонялась перед нею, как покорное дитя.
Однако ее сомнения не вполне рассеялись. С минуту постояв в раздумье, она опять с мольбой и вопросительно глядя на него, сказала тихо:
– А графиня Мирабо?
– Графиня Мирабо? – повторил он, вздрогнув. – Эта прекрасная графиня ни малейшего отношения ко мне не имеет, равно как и к нашему сожителю, маленькому Люкасу. Эмилия де Мариньян никогда меня не любила, и в то время, когда я нуждался в ней, когда кроткая и услаждающая рука женщины могла помочь, я видел лишь железную твердость ее характера. Женитьба моя была одна из глупостей моей молодости. Но мне в то время был только двадцать один год, и совершил я эту глупость, желая после рассеянной и полной приключений жизни исполнить настоятельное требование моего отца и обратиться в сельского хозяина в Провансе, честно возделывая родную землю в наших поместьях. Быть может, я был бы тоже хорошим солдатом, так как семнадцати лет я был уже офицером и участвовал в походе в Корсику; но при скупости и недоброжелательстве моего отца я не мог ожидать, чтобы он купил мне полк. И вот я задумал попробовать сельской жизни возле богатой и красивой жены, и Эмилия де Мариньян стала моей женой. Но мир этой новой жизни оказался такою же обманчивой мечтой, как и состояние моей жены, принадлежавшее будущему, а теперь выражавшееся лишь в ежегодной ренте в шесть тысяч франков. Эта печальная жизнь с нею продолжалась только два года, в течение которых при моем несчастном таланте делать долги я натравил на себя целый сонм кредиторов, требовавших с меня более ста тысяч франков. Это было новым поводом для моего жестокого отца взмахнуть опять надо мною бичом lettres de cachet[9]9
Леттр де кашэ (приказ об аресте без суда и следствия).
[Закрыть], убивающим даже в лоне семьи личную свободу во Франции. Он добыл новое повеление арестовать меня и опять держал меня в разных тюрьмах и крепостях, смотря по тому, довольно ли они были мучительны и крепки. Тут и Эмилия покинула меня, отказываясь под разными предлогами связывать свою судьбу с моею. С тех пор я ее не видел. Мальчик, родившийся в первый год нашего супружества, умер тогда же, а с ним вместе и залог примирения с женой и семьей, на что я так долго надеялся. Эмилия и я расстались навсегда. Если же до тебя дошли слухи, что после моего освобождения из Венсеннского замка я старался вновь соединиться с нею, то это случилось лишь потому, что в эту минуту я серьезно думал о правильном восстановлении всех моих личных отношений. Я хотел выйти наконец из исключительного положения молодых лет, хотел вновь явиться в свет с восстановленным социальным положением, чтобы начать работать всеми силами и достигнуть высшей и более достойной меня цели жизни. Сознаюсь при этом, что большие денежные средства, бывшие теперь уже в руках Эмилии, казались мне верным орудием для отвоевания у нашего извращенного общества тех преимуществ, которые приобретаются с таким трудом, когда появляешься с пустыми руками карманами. С этими средствами я мог бы легче подняться до той высоты положения, которое будет мне когда-нибудь предоставлено Францией, и поднял бы с собой на эту высоту Эмилию. Но она, заблуждаясь под влиянием дурных советов своего отца, согласилась вернуться ко мне, и мы вели сильную и страстную борьбу не только перед судом, но и перед лицом всей Франции. Она напечатала против меня свои мемуары, разорвавшие последнюю между нами связь. Когда же состоялся наконец наш развод, сердце мое возликовало по поводу этого нового вида своего освобождения! Но вот пришла сладчайшая награда за все мои страдания, я увидал тебя, Генриетта, и эта твоя небесная кротость, доброта и прелесть, сделавшие меня тотчас же твоим пленником, хотят вступить со мной в долгий союз, а в нем я вижу счастье, новую жизнь, и новую, с сегодняшнего дня начинающуюся, великую эпоху моего существования!
Блестящими, благодарными глазами смотрела на него Генриетта, нежно ласкаясь к нему. Ее милое, полное невинности, застенчивое личико приняло теперь выражение веселой отваги, вновь подкрепляющей те решения, которые она постановила по отношению к Мирабо. Он взял ее за руку, привел к дивану и сел рядом с ней.
– Не правда ли, Генриетта, мы ведь заключили вечный союз между собою? – спросил он, положив ей руку на плечо. – Мы будем верными товарищами в жизни, и ты не покинешь меня, а будешь держать судьбу мою под охраной твоих чудных глаз, сделавшихся божественным признаком моего нового существования?. И своей кроткой целебной рукой ты дотронешься до всего злого, что есть во мне и что создалось чудовищными отношениями к отцу, и приведешь меня к добродетели и совершенству? Да, я чувствую, что все зло, сделанное мне беспримерным отцовским деспотизмом, будет заглажено и вознаграждено драгоценным обладанием тобою!
– Как мог ты, такой, каким я тебя вижу, иметь отца, ненавидевшего и преследовавшего тебя? – спросила Генриетта с сердечной наивностью.
– О, – воскликнул Мирабо с выражением горького воспоминания, – ненависть эта была врожденной и омрачала уже первые светлые дни моего детства! Отец мой, маркиз Мирабо, возненавидел меня прежде всего за то, что я был безобразнее остальных моих братьев и сестер; далее, возненавидел он меня и был от самого моего детства до сей поры моим злейшим смертельным врагом за то, что в минуту гордого самосознания юности я воскликнул однажды, что мой отец, если бы он имел хотя бы, немного самолюбия, должен был бы дать мне свободу, потому что моя слава и мои успехи были бы тоже славой и успехами отца. Этого мой гордый жестокий отец не мог никогда мне простить и решил лучше погубить меня. Он, этот «Друг людей» («Ami des hommes»), как он озаглавил одно из своих знаменитейших сочинений, которым хотел служить интересам человечества и народа, был волком в своей собственной семье, на которую кидался, которую рвал и преследовал, где и как мог. Благодаря дружбе, которую он умел поддерживать с министрами короля, ему удалось добыть одно за другим пятьдесят четыре повеления об аресте против членов своей семьи, из-за которых так настрадались не только я и мои братья и сестры, но и жена его, моя дорогая мать. Кроме всевозможных заточений, этот отец, друг людей, осаждал еще трибуналы Франции скандальными процессами, беспрестанно возбуждаемыми против нас. О, от него я хорошо узнал, что такое деспот, и это горькое познание, если я и заплатил за него лучшею частью моей молодости, послужит однажды к добру не мне одному, но и всей Франции. Да, маркиз Мирабо вжег во все мои жилы понятие о том, что борьба против тирании есть единственная жизненная борьба нашего времени, на которую скоро должны будут подняться все, для кого личность и общество, для кого честь, свобода и счастье не простые химеры. Благодаря моим роковым распрям с деспотом-отцом, я увидал все зло этой французской монархии, эти развращенные суды и всюду продажные, попирающие право и справедливость начальство и власти, которым я был отдан в руки. Я должен был печально влачить и губить мою молодость по тюрьмам и крепостям; но в эти долгие годы заточения я научился культу свободы и, потеряв собственную молодость, начал поклоняться вечной юности французского народа.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































