Текст книги "Граф Мирабо"
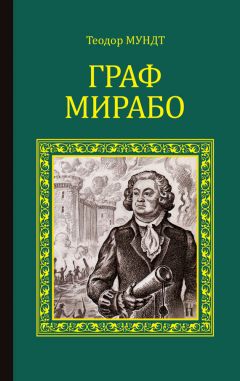
Автор книги: Теодор Мундт
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Часть вторая
I. Женевские эмигранты в Лондоне
Мирабо сидел в своем рабочем кабинете у письменного стола и, казалось, был весь погружен в работу; но если бы кто пристальнее взглянул на него, то мог бы заметить, как его глаза, постоянно отрываясь от бумаги, обращались то к окну, глядя на мрачное, туманом обвисшее небо, то с грустью останавливались на милой Генриетте, сидевшей напротив него у окна с каким-то рукоделием.
– Не могу сегодня собрать своих мыслей! – воскликнул он вдруг, вскакивая с места и подходя к Генриетте, которая тоже оставила свою работу и пытливо смотрела на него.
– Да, этот туман слишком отвратителен, – сказала она, взяв его руку, и на минуту, как бы в умилении, прислонила к ней свою прекрасную голову. – Не понимаю, как можно жить в такой стране, где день и ночь стоят эти туманы, наводящие ужас, точно перед тобою страшные привидения из сказок, слышанных в детстве. Посмотри на это туманное страшилище, кривляющееся как раз перед нашим окном и будто хлопающее руками у себя над головой! Мирабо, это к нам относится; чудовище злобно смеется над нами, что мы все еще сидим здесь в Лондоне, бесполезно тратя время и деньги.
– Чудовище право, – ответил Мирабо мрачно и уныло. – Целые месяцы просидели мы в Лондоне, как глупцы. Будь я фабрикантом ваксы для сапог, то, вероятно, успел бы здесь больше, чем с моими литературными работами, которыми я напрасно стараюсь пробуравить лондонских издателей. Я сочиняю проект за проектом, в своих подготовительных литературных работах захватываю все страны мира и затем встречаю лишь жалкие лица этих разбойников, отвечающих мне пожиманием плеч. И при таких-то напрасных усилиях все наши деньги опять вылетели в трубу. Уже несколько недель, как мы себя до жалости ограничили во всем, довольствуясь самым необходимым, а все-таки если завтра не упадет для нас манна с неба, то нам нечем будет позавтракать и пообедать. И в довершение насмешки судьбы надо мной я, сидя в этой нищете, пишу проповедь о бессмертии человеческой души!
– Проповедь? – спросила с удивлением Генриетта и разразилась громким смехом, осушившим готовые уже было брызнуть из ее глаз слезы. – Ты хочешь быть проповедником, Мирабо? Разве здесь, в Англии, можно им сделаться так просто, без всяких затруднений?
Она быстро подскочила к его столу, схватила лежавшие на нем свежеисписанные листы и жадно пробежала глазами их содержание.
– Действительно, это проповедь о бессмертии души! – воскликнула Генриетта и, пораженная, выпустила из рук бумагу. Лицо ее приняло серьезное и задумчивое выражение, а глаза бросили на Мирабо полуробкий, полупочтительный взгляд, который своим неотразимым комизмом развеселил и его.
– Одна только любезность с моей стороны делает меня проповедником и то лишь в виде этого чернового сочинения, – возразил он, взяв листы и с самодовольством рассматривая их. – Дюваль, выручивший нас тогда во время приключения на Регентстрите и освободивший из рук английской черни, обратился ко мне с просьбой о взаимной услуге, отказать ему в которой я не мог. Ты знаешь, что он принадлежит к женевским беглецам, изгнанным из отечества революцией 1782 года и гостеприимно принятым здесь, в Лондоне, и даже состоящим под особою охраной английского правительства. Между тем здесь им овладело самое мещанское страдание человечества – тоска по родине, и он начал переговоры о своем возвращении в отечество, что ему и обещано. Милостивые аристократы, правящие ныне в Женевской республике, готовы допустить его вновь к занятию духовной должности, но, как я думаю, при условии, что он будет смиренно стараться об этом, представив образцы своих новых работ. К ним-то и принадлежит проповедь о бессмертии души, которою хотят пощупать степень его веры, полагая возможным, что революционер, боровшийся за господство народа, вступил врукопашную и с догматами церкви. Вот он и обратился ко мне с просьбой сочинить ему такую проповедь на самом прекрасном и элегантном французском языке. Надеюсь, что мне удастся благополучно провести его на этом экзамене; к тому же мне самому доставляет удовольствие хоть раз очутиться в роли проповедника, и о вещах, к сожалению, крайне мало известных, щедро и уверенно расточать суждения кругом себя. Сегодня за чаем я тебе прочту мою проповедь.
– А сам ты, Мирабо, не веришь в бессмертие души? – спросила тихо Генриетта, нежно и пристально глядя ему в глаза.
– Подожди до чая, дитя мое, – возразил с улыбкой Мирабо, – и ты увидишь из моей проповеди, что блаженством будущей жизни я наделяю каждую душу. Тот, кто захочет этим воспользоваться и чувствует потребность быть бессмертным, найдет у меня целый арсенал доводов…
Генриетта робко прижималась к нему, ласково заглядывала ему в глаза и, желая прогнать его раздраженное и насмешливое настроение, стала его просить быть опять добрым и славным, как всегда.
– Да, ты имеешь право бранить меня сегодня, – сказал он после некоторого молчания мягким и печальным голосом. – Лондонский туман на дворе и эта проповедь, над которой я просидел сегодня целое утро, как дурак, повергли меня в самое плачевное настроение. А тут еще Таржэ, мой адвокат в деле с моим отцом, пишет мне вчера из Парижа, что он питает мало надежды на выигрыш моего процесса против маркиза Мирабо. Мне бы хотелось вернуться теперь в Париж, чтобы сделать последний шаг и постараться личными переговорами подействовать на отца. Я не боюсь обуявшей его, кажется, опять против меня ярости, но не знаю, какова еще, по нашим законам, его власть надо мною. Может ли он, по одному из прежних приказов короля, засадить меня в тюрьму или назначить мне, по своему произволу, место моего пребывания. Если может, то я, конечно, остерегусь встречаться с ним. Если же нет, то я бы с ним лично вступил в борьбу. Мне тоже хотелось бы знать, что обо мне думают в Париже мои закадычные друзья, господа кредиторы, и тогда уже решить, насколько полезно мое возвращение туда.
Генриетта, взволнованная, живо вскочила с места и, казалось, задумалась над каким-то решением. С минуту стояла она с опущенными глазами и глубоко и сильно вздымавшеюся грудью. Наконец, с радостно сияющим лицом проговорила:
– Пошли меня в Париж, Мирабо! Я тебе все разузнаю, все исполню, и ты увидишь, что ты не мог найти более преданного и заслуживающего большего доверия агента, как твоя Иетт-Ли. Сам же останешься спокойно в Лондоне в ожидании моих писем и возвращения. Ты себе и представить не можешь всей моей подвижности и предприимчивости, как только речь зайдет о том, чтобы быть тебе полезной или даже преодолеть для тебя опасности. О, я отправлюсь к министрам, в Версаль, и с пламенным красноречием буду просить и убеждать их об отмене тех старых ужасных приказов короля, предающих тебя в руки твоего отца. Потом пойду к купцам, которым ты еще должен деньги, и постараюсь войти с ними в соглашение, чтобы эти злые люди оставили тебя в покое еще на некоторое время, пока ты не устроишь немного своих дел. Затем отправлюсь к парижским книгопродавцам для переговоров о твоих литературных планах и отыщу богатого издателя для предполагаемой тобою газеты под названием «Le Conservateur»[11]11
«Консерватор» (фр.).
[Закрыть]. Друг мой, я не лягу спать в Париже прежде, чем не добьюсь для тебя чего-нибудь. Можешь вполне положиться на меня.
Мирабо смотрел на нее, радостно взволнованный, и с порывом бешеной страсти стал обнимать ее.
– Мысль твоя великолепна, – воскликнул он, – и я убежден, что таким наездом на Париж ты можешь нам оказать большую услугу! Гораздо лучше меня самого, портящего всегда все своею горячностью, ты, Генриетта, одним лишь присутствием своей ангелоподобной личности, исправишь, сгладишь и направишь к лучшему все мои отношения. Да, в тебе есть что-то магическое и вместе с тем трогательное, против чего при первом твоем слове никто устоять не может. И что же более действительного мог бы я послать в Париж, как не твою красоту, твое изящество и прелесть, как не невинную улыбку твоих чистых уст, которые как только откроются со словом в мою пользу, не встретят отказа даже у варваров!
С громкими радостными возгласами Генриетта обхватила его шею, потом опять отскочив от него, стала взволнованно ходить по комнате, обдумывая, по-видимому, свои сборы и осматривая лежавшие кругом вещи.
– А все-таки это невозможно, – прибавил Мирабо, помолчав и с выражением озабоченности. – Нет, нет, существуют опасности и затруднения, на которые я не хочу и не могу обрекать тебя. Для тебя самой Париж небезопасен. В тебе узнают монастырскую беглянку и опять отведут тебя под опеку разгневанной абэссы, заявившей о тебе полиции. Тогда будет кончено со мною, если я еще и тебя потеряю.
– Ты ли так малодушен и труслив, Мирабо! – возразила она, причем лицо ее засияло свойственной ей решимостью, придававшей всей ее фигуре некоторое величие. – Никто меня не узнает; уж я позабочусь об этом. Разве я не стала настоящей англичанкой? Не имею ли я паспорта английской бонны в полном порядке? Кроме того, я приезжаю в Париж еще с гораздо более настоящей, чем паспорт, английской шляпкой, в которой меня, конечно, примут за несомненную природную англичанку. Верь мне, я буду со страшной дерзостью оспаривать, что я не та Генриетта Гарен. Да и разве я та? Разве твоя любовь меня не преобразила? Вместо того, чтобы, как прежде, бояться кошки в темном монастырском коридоре, я теперь чувствую в себе мужество вступить за тебя в бой с целым миром и в качестве твоего посланника и агента ехать не только в Париж, но в страну самих людоедов!
Мирабо оставался еще в нерешительности, но Генриетта стала так убедительно его просить, представляя такие неопровержимые доводы, что он наконец согласился. Теперь он принялся сам обсуждать весь план, сообщая ей свои желания и намерения. Его успокаивало также то, что Шамфор был еще в Париже, а от него он надеялся на защиту и помощь Генриетте.
Отъезд был назначен уже на завтрашний день, хотя Мирабо должен был еще написать важную записку о своем деле, которую Генриетта должна будет лично вручить министру, барону де Бретейль. При необыкновенной быстроте, с которою он работал, он надеялся составить эту записку в одну ночь; теперь же принялся серьезно за приготовления к отъезду Генриетты.
Но в эту минуту вспомнил об очень важном обстоятельстве, совсем упущенном им было из виду, а именно о деньгах на дорогу. Когда же и Генриетта, не думавшая о них до сих пор, слегка намекнула об этом предмете, Мирабо с настоящим ужасом ударил себя по лбу.
– Деньги? Деньги? – восклицал он, шагая взад и вперед по комнате. – Где найти тебе на дорогу деньги? У нас ведь нет ни одного су, и на этот раз я не знаю, куда может ударить жезл Моисея, чтобы брызнул новый ключ в этой пустыне моей кассы. В самом деле, дорогая графиня Иетт-Ли, нет для тебя денег на дорогу. Как быть?
– Нет денег? – повторила смущенная Генриетта. – И кредита нет более у нас, чтобы их достать?
– Мне пришло нечто в голову, – сказал Мирабо, подумав. – Как ты думаешь, если бы мы обратились к Эллиоту? Я с ним в дружеских отношениях, как ты знаешь; мы были когда-то вместе товарищами по школе и страданиям в пансионе аббата Шокара. И здесь, в Лондоне, он уже не раз уверял меня в своем братском расположении. Отправляйся к нему сейчас же и скажи, что я нахожусь в самом затруднительном положении и что он бы крайне обязал меня, прислав с тобою сто гиней. Господин Жильбер Эллиот – единственный якорь спасения моей погибающей кассы. Ну, что, хорошо?
При этом имени Генриетта слегка покраснела. Она медлила с ответом и казалась смущенной.
– Ты вполне смело можешь идти к нему; он живет в своей милейшей семье, принадлежащей к самым видным и знатным домам Лондона. Я утруждаю тебя этой просьбой, потому что не имею никого, на кого бы мог возложить подобное поручение. Прислуга наша ворчит, давно уже не получая следуемого ей жалованья; да и вообще жизнь ее теперь у меня не сладка. Итак, отправься сама, мое сокровище. Жильбер Эллиот – любезнейший кавалер; к тому же о тебе он очень высокого мнения и принадлежит к тем англичанам, которые в денежных делах держат себя совсем по-королевски и считают себе за честь, как оно и есть на самом деле, услужить приятелю какой-нибудь безделицей в сто гиней.
– Если ты находишь, что я могу пойти к нему, то я пойду, – сказала Генриетта, помолчав немного. – Твоя воля будет всегда единственным правилом моих поступков.
Поспешно надевая шляпку и шаль, она, по обыкновению, подставила ему губы для прощания.
– Ты возьмешь фиакр, – сказал он, целуя ее. – Туман застлал все так густо, что иначе, боюсь, ты не попадешь на Бельгравсквер, где живет наш приятель. Да и вообще это для тебя слишком далеко, чтобы идти пешком.
– А все-таки графиня Иетт-Ли пойдет пешком, несмотря на туман и всякие опасности, – сказала Генриетта, весело смеясь, – потому что кошелек графа Мирабо не принадлежит к тем кошелькам, которые держат себя совсем по-королевски, и в его бездонной глубине нельзя выловить даже безделицу в несколько шиллингов на наем фиакра.
С этими словами, сделав церемонный реверанс, она выскочила из комнаты, оставив Мирабо одного, который стал теперь в беспокойстве и озабоченно ходить взад и вперед по комнате. Затем, сев опять за рабочий стол, стал набрасывать записку о своих отношениях к отцу, которую Генриетта должна была вручить в Париже министру Бретейлю. Проповедь же о бессмертии души была пока положена в ящик бюро.
Только пошло у него дело на лад и перо едва поспевало за ходом его мыслей, как раздался сильный стук в дверь, открывшуюся на довольно неохотно произнесенное им «войдите».
Вошедший был человеком средних лет, с выражением отваги на лице, маленького роста, но энергичного вида; было в нем что-то странное и вместе с тем предприимчивое. Одежда его представляла нечто фантастическое: серая шляпа, в которой он вошел и которую медленно снял, дойдя уже до середины комнаты, тоже не лишена была странности своими широкими полями и ярко красной лентой.
– А-а, здравствуйте, Этьенн Клавьер! – воскликнул Мирабо, вскочив от стола и сердечно обнимая вошедшего. – Но ведь вы не прощаться со мною приходите? Говорят, что вы, женевцы, несмотря на то что вам здесь, в Англии, устроили ложе из роз, недовольны британской щедростью и думаете переменить это убежище на иное?
– Многие из наших действительно хотят уехать, – возразил гость с выражением неудовольствия. – Сиордэ, Жано и другие намерены отправиться в Невшатель и там пробовать счастья в магистрате, который едва ли, однако, окажет защиту революционным беглецам. Гренус, Ринглер и другие хотят вернуться в Констанц под власть доброго неограниченного германского и австрийского императора. Многие из нас думают поселиться в Брюсселе. Как видите, граф Мирабо, бежавшие женевские демократы не могут усидеть спокойно на английской земле. Но я остаюсь в Лондоне.
– Вы правы, – с живостью возразил Мирабо, – ваши же соотечественники делают большую политическую ошибку, разъединяясь и рассеиваясь по всем странам света. Именно теперь надо быть вместе и здесь, в Лондоне, образовать крепкое революционное тело, которое, вначале хотя и маленькое, постепенно привлекало бы к себе все элементы свободы в Европе и было бы исходным пунктом всех восстаний против тирании, в особенности же против внутреннего и внешнего деспотизма Франции!..
– Вот потому-то я и не теряю еще этой надежды, – возразил Клавьер торжественно, сверкая своими неприятно блестевшими глазами. – Я, Дюроверэ и д’Ивернуа остаемся в Лондоне и образуем здесь свой собственный революционный комитет, который не замедлит подкрепиться ожидаемыми нами на днях из Швейцарии единомышленниками женевцами. Именно Дюмон, Шовэ, Марат и Мелли примкнут к нам, чтобы помочь завершить организацию революции, имеющей прежде всего своей целью вашу Францию. Я пришел сообщить вам это и еще раз посоветоваться с вами как самым блестящим умом Франции, призванием которого есть завоевание свободы своему отечеству.
Сказав это, он опустился на диван, в ожидании ответа Мирабо и поглаживая красную ленту на своей шляпе.
– Где я могу помочь, там помогу, – возразил Мирабо, продолжая стоять перед ним. – Но прежде скажите мне, почему столько ваших соотечественников покидают Лондон, где они нашли такой радушный, исключительный прием не только у публики, но и у правительства? Отчего эти люди бросают вас и наше общее дело? Быть может, в принципе, они изменники и теперь выдадут нас и повредят всем нашим планам?
– Нет, – ответил Клавьер, – они оставляют нас не как изменники. Недовольство английским правительством гонит их из Лондона. Исполнение всех его великолепных обещаний, как, например, разрешение нам основать в Ирландии город Женеву, где бы мы могли, приложив свойственное нам трудолюбие, развить мануфактуры и наше отечественное производство, все затягивается, и мы начинаем сомневаться в искренности Англии.
– О нет, – с живостью возразил Мирабо, – когда Англия дает на что-либо деньги, как дала пятьдесят тысяч фунтов стерлингов на устройство первых женевских эмигрантов, то она делает это серьезно. Сами же вы как бывший и достойный уважения банкир состоите вместе с лордом Гренвилем распорядителями этих фондов.
– Да, – отвечал Клавьер, – деньги эти есть, но уже начинают употреблять часть их на другие цели. А именно: лорд канцлер желает, чтобы проценты с этой суммы были обращены на премии для выдающихся людей, которые своим пером или своим влиянием в печати и жизни будут содействовать тому, чтобы на Англию смотрели, как на истинное убежище политической свободы всех народов, Францию же ненавидели как государство, оберегающее неволю и тиранию. С этой целью министр препроводил через лорда Гренвиля в наш комитет список лиц, во главе которого находится ваше имя, граф Мирабо, с чрезвычайно лестным о вас отзывом.
– Возможно ли? – воскликнул Мирабо с радостью. – Узнаю тут мою лисицу – Вильяма Питта. Недавно, при одной случайной и в высшей степени странной встрече, я имел с ним разговор, в котором он довольно-таки презрительно позволил мне излить все мои мысли о том, как именно отсюда, из Лондона, следует действовать в настоящее время. Между тем он был одного со мною мнения, и в то самое время как, устраняя меня для виду, чтобы мною себя не компрометировать, он за спиной женевского комитета опять хочет принять мои предложения и косвенным образом распоряжаться моими силами! Что же постановил на это ваш комитет?
– Он послал меня к вам, – ответил Клавьер с напыщенною торжественностью, – и единственная цель моего сегодняшнего появления состоит в том, чтобы передать вам в этом портфеле банковый билет в сто фунтов стерлингов, с почтительнейшей просьбой принять вместе с этим благодарность женевского комитета за ваши заслуги в деле политической свободы, а также не отказать в вашем содействии и на будущее время к тому, чтобы из дела Женевы, которому вы уже раньше посвящали ваш дивный талант, воздвигнуть дело европейской свободы.
– Думаю, что все, что от вас приходит, я могу принять, – сказал Мирабо, принимая не без удовольствия портфель, который, однако, тут же бросил на стол с полным равнодушием.
– Вы всегда были покровителем Женевской республики, – продолжал Клавьер. – В то время когда притесняющая женевская аристократия могла быть спасена лишь призванными французскими войсками, вы вашим пламенным пером в записках к министру Верженну настаивали, как на деле чести Франции и французского имени, на отозвании французских штыков. Действуйте же и в будущем в пользу Женевы, той Женевы, где воспламенится однажды свобода всей Европы и откуда будет подан сигнал революции в ненавистной Франции!
– Да, я люблю вашу Женеву, – восторженно воскликнул Мирабо, – и буду с гордостью служить вашему делу, которое вместе с тем и мое и всех истинных французских патриотов! Люблю вашу Женеву и ваших славных, просвещенных и трудолюбивых женевцев, своею несравненною деятельностью доведших культуру маленькой республики до высшей степени процветания! Ваши часы, рассылаемые по всей Европе и провозглашающие победу вашей драгоценной промышленности, недаром возвещают всем народам истинное время. Женевские часы, бьющие уже во всех странах Европы, провозгласят вместе с тем, что правильное время, долженствующее наступить, будет временем свободы! Уже наш великий Вольтер бредил вашим часовым производством и в своем Фернэ освящал его духом свободы. Не вы ли первые, еще в одиннадцатом столетии, гнали от себя дворянство, князей и ксендзов, стремясь к достижению свободы, основанной на господстве народа? Правда, с тех пор жизнь ваша протекала в переворотах и потрясениях. Вы устраивали одну революцию за другой, храбрые женевцы. Все это столетие было у вас лишь постоянной борьбой между дворянством и народом, между демократией и феодализмом, и этот пример, выходя из вашего чудного озера, пробуждал все европейские народы. Политические сочинения и брошюры, вышедшие в то время из Женевы, соперничали с творениями наших Монтескье, Мабли, нашего Вольтера, вырабатывая национальный дух во Франции и в Европе, придавая новый полет народному гению и воздвигая на горизонте народов демократию взамен уничтожаемых старых нравов. Женева, откуда впервые революционный петух прокричал на всю Европу, поставит Францию на ноги, верьте мне! Та самая Франция, которая в вашу последнюю революцию выковала цепи Женевы и своими штыками уничтожила у вас народную партию, отправив ее вождей в изгнание, та самая Франция будет вам обязана своим возвышением, и в этом-то будет ваша месть королевству Франции! А вот, смотрите, вот моя дань идеальному, родному городу Женеве. Я начал писать историю Женевы.
С этими словами Мирабо взял со стола объемистую тетрадь и передал своему собеседнику, бросившему на исписанные листы удивленный взгляд.
В эту минуту на наружной лестнице раздался странный шум, и Мирабо, обладавшему чрезвычайно тонким слухом, послышался стонущий и жалобный голос Генриетты. Мгновенно бросился он к двери и растворил ее как раз в ту минуту, когда секретарь Гарди вводил или, вернее, вносил Генриетту.
Мирабо в ужасе схватил ее на руки и при виде ее лица с громкими воплями отнес и уложил ее на диван. Генриетта была почти без сознания, но, почувствовав его близость, открыла глаза, а на ее смертельно бледных щеках пробился едва заметный румянец. Кротко улыбаясь, стала она успокаивать его, не имея еще сил, однако, рассказать, что приключилось с ней.
От Гарди Мирабо мог только узнать, что, находясь в городе по делу и проходя по улице Христова-госпиталя, он увидел в собравшейся перед госпиталем толпе госпожу Нэра, в эту именно минуту упавшую без чувств на мостовую. С помощью нескольких присутствующих он немедленно отнес ее в стоявший, к счастью, поблизости фиакр. Дорогой она тотчас же впала в глубокий обморок и лишь когда он стал ее вести на верх по лестнице, она, придя в себя, начала громко жаловаться на боль в голове.
Мирабо бросился осматривать ее, боясь, что, быть может, при падении она поранила себе голову. Клавьер предложил привести доктора и удалился.
Генриетта объявила, что она не повредила себе ничего и в эту минуту чувствует свои силы восстановленными.
– Что же случилось с тобой, мое единственное сокровище? – спрашивал Мирабо, стоя перед нею на коленях и в страшном беспокойстве целуя ее руки.
– Я отлично исполнила у сэра Жильбера Эллиота возложенное тобою поручение, – начала Генриетта свой рассказ. – Эллиот сейчас же дал мне сто гиней, посылаемых им тебе с искренним поклоном. Правда, что при этом он опять себе позволил слишком большие со мною любезности, которые чуть не заставили меня вернуть ему деньги, если бы только я не вспомнила, на что они были предназначены. Итак, я спрятала на груди кошелек, в котором он вручил мне золотые монеты. Удачно пройдя туда сквозь туман, я надеялась так же без приключений и вернуться, когда, дойдя почти до Христова-госпиталя, я вдруг очутилась среди тесно скученной толпы людей, из-за тумана мною ранее не замеченной. Лица их дышали враждою, а восклицания гласили о чем-то ужасном. Рассказывали о какой-то больной женщине, упавшей на улице со всеми признаками чумы. Женщина была препровождена в госпиталь, а толпа, собравшаяся перед ним, шумно волнуясь, требовала принятия мер предосторожности. Говорили о том, что госпиталь для прекращения к нему доступа должен быть оцеплен войсками; требовали, чтобы замуровали палату, в которой была помещена больная. Внезапно через вновь прибывших стал распространяться слух, что и в другой части Лондона произошли три подобных заболевания, чем вполне подтверждается слух о том, что в Лондоне чума. Поднялся общий рев, толпа кричала, испуская всевозможную брань и проклятия. Я ничего более страшного в жизни не видела и не слышала. Неописуемый ужас овладел мною. Страшными привидениями являлись передо мною эти плавающие в тумане лица людей. Мне делалось дурно, я чувствовала, что падаю, и когда Гарди поднял меня с земли, я слышала кругом крики: «Новая жертва чумы! У нее тоже чума!» Сидя уже в экипаже, где у меня было настолько присутствия духа, чтобы кошелек с деньгами передать Гарди на хранение, я все еще слышала за собою возгласы: «Не пускайте ее, у нее чума!»
Этот рассказ и страшные воспоминания вновь исчерпали силы Генриетты, и она опустила голову на диван, требуя отдыха. Мирабо приказал своему секретарю принести нюхательный спирт, а также кошелек со ста гинеями, переданный ему госпожой Нэра.
Принеся спирт, Гарди лаконически заявил, что ни о каком кошельке он ничего не знает и что госпожа Нэра ему ничего не передавала.
Мирабо, пораженный, не знал в первую минуту, что ему делать.
Но Генриетта, которой гнев, казалось, вдруг вернул силы, вспылила и воскликнула:
– Как? Вы можете отрицать, что я передала вам на хранение кошелек? Мирабо, я часто заступалась за него перед тобой, когда тебе случалось заподозрить его в нечестности. Теперь же сама вынуждена обвинить его самым решительным образом, если он будет продолжать свою ложь, что не получал от меня ста гиней.
Гарди громко и презрительно захохотал, надменно и дерзко глядя на госпожу Нэра и Мирабо.
– Негодяй! – воскликнул Мирабо с обуявшим его теперь гневом, причем схватил его за грудь и стал с силою трясти. – И ты смеешь, несмотря на такое свидетельство, продолжать настаивать на своей лжи и быть к тому же дерзким? На колени, во прах, ты, собачья душа, и реви свое признание перед ней, как ревут окаянные перед ангелом рая, валяясь в своем ничтожестве! Говори, куда ты девал деньги, или лучше подавай их сейчас! Сто гиней для нас не безделица, с которой мы могли бы играть в прятки.
– Уверяю вас, – возразил секретарь с отвратительными ужимками, не теряя апломба, – не только ста гиней, но и ста су я не получал от госпожи Нэра. Не знаю, откуда бы такая благодать могла свалиться здесь, в доме графа Мирабо. Вы требуете от меня сто гиней, господин граф, сами же должны мне мое жалованье за весь текущий год. А за сюртук, который у вас на плечах и который несколько месяцев тому назад я вам уделил из своего гардероба, потому что вам уже нельзя было выйти в вашем изорванном и истертом платье, за мой сюртук вы разве уже расплатились со мною? Вы мой должник, господин граф, и уверяете, что я, великодушно дающий вам взаймы, украл сто гиней у вас, не имеющего ничего, решительно ничего, даже собственного сюртука.
Минуту Мирабо находился в мучительном затруднении. Краска стыда вспыхнула на его лице, губы болезненно подергивались. Судорожно сорвал он с себя сюртук, о котором так беспощадно шла речь и готов был, казалось, изорвать его в клочья.
– Ну, так я просто отдам тебя под суд, – разразился он наконец громовым голосом. – С такими, как ты, мошенниками здесь, в Англии, не церемонятся, а ты уже давно заслужил себе веревку на шею. Если сто гиней у тебя еще в кармане, то я удовольствуюсь, прогнав тебя с позором. Если же ты припрятал их в ином месте, то передам тебя в руки констэбля, за которым тотчас же пошлю на улицу.
Так как Гарди продолжал еще с большею силою утверждать, что у него нет денег, и стал выворачивать свои карманы, Мирабо позвал слугу и приказал ему позвать полицейского. С прибытием последнего дело было живо улажено, потому что свидетельства графа Мирабо против лица, находящегося у него в услужении, было вполне достаточно для ареста обвиняемого в краже.
Как только Гарди был уведен, Мирабо вновь обратился с нежной заботливостью к госпоже Нэра, болезненное состояние которой опять, казалось, усилилось от этого нового волнения. Однако вошедший в эту минуту доктор, присланный Клавьером, объявил, что опасности нет и что спокойствие и хороший уход скоро восстановят силы молодого здорового организма.
Генриетта должна была согласиться лечь в постель; не могла она только утешиться, что едва раздобытые средства на ее поездку в Париж снова утрачены, и теперь неизвестно, откуда достать денег.
Быстро, с торжествующим видом зашагал Мирабо к своему письменному столу, принес полученный им от Клавьера портфель с банковыми билетами и передал ей. Она, удивленно улыбаясь, стала пересчитывать у себя на кровати деньги в то время, как он рассказывал ей историю этих новых ста гиней.
– Теперь я опять спокойна, Мирабо, – сказала она, радостно глядя на него. – Я уже здорова, уверяю тебя, и завтра могу пуститься в путь, чтобы приготовить тебе место в Париже и освободить от связывающих тебя до сих пор цепей. Место Мирабо – в Париже! Там его божественные силы должны достигнуть своей высшей цели!
– Да, но сегодня ты должна отдыхать и спать, – возразил Мирабо, целуя ее. – Ты, мое милое, чудное дитя! Такой нежной, доброй и кроткой, очаровательной и вместе с тем мужественной, как ты, я не видел еще ни одной женщины! Красота твоя могла бы возвести тебя на высшие общественные ступени, если бы ты не предпочла встать возле меня и в суровой жизненной борьбе даровать мне твою любовь и помощь! Да, уже для того только, чтобы вознаградить тебя за все это, Бог должен быть в небе! Не правда ли, моя Генриетта? А теперь спокойной ночи!
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































