Текст книги "Музыка грязи"
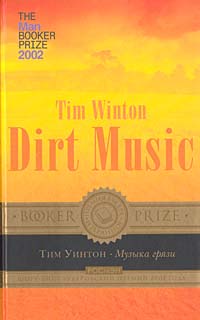
Автор книги: Тим Уинтон
Жанр: Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Джош засопел и закрыл альбом.
Брэд отступил, чтобы дать ей пройти. От него пахло апельсинами. Он смотрел в сторону, когда она проходила мимо него.
Было уже за полночь, когда какой-то древний рефлекс заставил Джорджи поднять глаза от компьютера и увидеть отражающееся в окне бесстрастное лицо Джима. Он стоял в другом конце комнаты, за ее спиной, и не знал, что она может его видеть; он постоял там некоторое время, опершись бедром на угол лестницы, почесывая подбородок. Не так снисходительный мужчина тайком смотрит на свою возлюбленную. У него было закрытое и напряженное лицо, его выражение невозможно было разгадать – и дрожь неуверенности, если не страха, пробежала по ней.
– Привет, – сказала она.
– Поздно, – ответил он. – Уже поздно.
* * *
Пока он сматывает лески на катушки и складывает крючки на тарпона, дизельный генератор тихо урчит за стеной. Он поднимает румпель вверх, проверяет батареи и рулевое управление, наклоняет каждый мотор вверх и вниз, а потом вытирает стекло и консоль. Ветер уже на востоке. Завтра будет жарко, как в аду, море спокойно, вода чиста.
Он слезает с транца и мимоходом почесывает голову пса. Длинная стена сарая увешана гирляндами инструментов – ножницы, рычаги, косы, пилы, скобы, – все это раньше принадлежало старику; смешно, потому что единственное, чем он пользовался, – это ломик и моток проволоки. Проволочная петля была его ответом на любую головоломку, техническую ли, сельскохозяйственную или теологическую. Над скамьей в балахоне из пыли висит табличка, которая раньше висела в кухне.
Христос есть глава дома сего,
Гость невидимый за каждою трапезой,
Немой слушатель каждой беседы.
Рядом с ней – мандолина без струн, «Дредноут-Мартин»[6]6
«Дредноут-Мартин» – марка гитары.
[Закрыть] с дырой в боку и футляр от скрипки, покрытый наклейками и пятнами.
От широкого входа в амбар без дверей Фоксу видны тени кенгуру на арбузной бахче. За ними, до самой реки, ревут на ветру эвкалипты. Пес напрягается, ворчит, и Фокс хватает его за ошейник. Сбитые с толку ветром, кенгуру поворачивают головы, через несколько мгновений собираются в команду и отступают во тьму. Он не может себе в этом признаться, но это зрелище потрясло его. На том конце двора, обставленного по периметру выпотрошенными автомобилями, неожиданно появляются четыре фигуры. Он идет босиком к дому и чувствует, что его ум выбит из безмятежности. Чувство легкости ушло. Он снова дисциплинирован. Эти дни он живет только силой воли.
Сначала он жарит рыбу псу, ломоть морвонга с мраморным рисунком, над которым шавка и склоняется со сладострастием. Фокс недолго наблюдает, как пес подталкивает жестянку по грязи, и уходит внутрь, чтобы приготовить себе несколько филейчиков скорпида[7]7
Скорпид (Genus Scorpis) – типичная для западного побережья Австралии небольшая тропическая рыба.
[Закрыть]; их он съедает возле раковины, сто́я. Споласкивает тарелки, ставит их просушиться. Открывает бутылочку домашней. Размышляет, не побриться ли. Напоминает сам себе, что завтра в городе надо бы прикупить несколько канистр горючего. Осушает стакан. Чувствует беспокойство. Должен ложиться спать, чтобы выйти в четыре утра.
В нарушение ритуала он обходит старый деревянный дом комнату за комнатой. Он не знает, почему делает это. Может, проверяет, один ли он. Не хочет об этом думать.
Библиотека – пусто. На сиденье кресла-качалки – открытый том Китса, похожий на чайку. Ветер стонет в камине.
У двери детской он смотрит на недоупакованные картонные коробки. На ужасную коллекцию сушеных рыбьих голов на подоконнике. Застеленные кровати. Цветные карандаши на полу.
Идет по холлу мимо своей комнаты в ту, где стоит двуспальная кровать. Весь день он держится. Живет в настоящем времени. И все только для того, чтобы вот к чему прийти.
Садится на кровать. Запах несвежего постельного белья поднимается вокруг него. Смотрит на истрепанный «Левис», повисший на сосновом стуле, и прикасается к изношенному шву пальцами ног. Волосы на его руках поднимаются дыбом. Он протягивает руку и ощущает, как джинсовая ткань посвистывает под его мозолистыми пальцами, когда он сжимает ее. Фокс стягивает джинсы со стула и видит, что они все еще хранят форму ее тела. Зацепившись поясом, джинсовая ткань раскрывается, и кажется, что это ее собственная кожа. И снова Фокс бессилен перед ее формой, он не может удержаться и не потрогать ее, не прижать ее к лицу – прижимать, пока молния не укусит его за губу. Он падает на кровать, склоняясь под ее весом, корчась под ним, пока не кончает, в жалком, постыдном поту, и остается лежать в полном отчаянии.
«Нельзя этого делать», – говорит он сам себе, направляясь к двери, и натыкается на зубчатую стальную гитару, и проходит мимо, а чертова штука падает с грохотом на пол, и звенит, и остается валяться позади.
И проходят часы, прежде чем он засыпает, годы, которые он лежит в лихорадке самообладания, отрицания, взаимных обвинений. Когда приходит сон, он снова уничтожает его: ни власти, ни точки опоры, ни защиты.
К нему приходят мерцающие уколы воспоминаний, которые волнуют кровь и кости, а дом скрипит на своих сваях, и его деревья стонут.
Захлебывающийся заливчик. Камни горят и звенят. Желтый песок звенит звоном той гитары. Она гудит, гудит в металлической раме кровати, и у его уха – горячее дыхание ребенка, пахнущее «Веджемайтом». Живица. Медные струны. Походные огни, походные огни. Семяизвержение. Хиппарь с задранной бородой на конце шеста, и его мать, скрючившаяся среди арбузов, которые тихо выпивают воду, как птицы на корточках. Корзинка с яйцами: звякающие священные навозные орехи в коричневой скорлупе. И это мальчишеское чувство, уверенность в том, что ничто плохое никогда не случится, что ничто никогда не изменится.
* * *
Когда мальчики ушли в школу и утро белым светом ворвалось во все окна, Джорджи вошла в спальню, чтобы переодеться. Она бросила влажное полотенце на кровать, где была разложена ее одежда – шорты, трусики, майка, и была потрясена тем, какие они мягкие, потертые, маленькие. Как будто можно было в этом сомневаться. Это же ее вещи, так? Сегодня утром три этих прилагательных были совершенно в тему.
Она до дрожи не любила зеркала, но теперь обнаружила в себе достаточно ненависти, чтобы открыть дверь платяного шкафа и посмотреться в зеркало на двери в полный рост.
Джорджи выросла в доме, заставленном зеркалами, среди женщин, которые просто не могли пройти мимо зеркала, не повертевшись перед ним. Женщины Ютленд стремились к зеркалам, как узники стремятся к окнам. Они, казалось Джорджи, крались от одного к другому, подходили бочком, штурмовали зеркала, чтобы те впитывали их отражение, и хмурились, и кивали, жеманно улыбались и смотрели искоса. Сестры унаследовали это от матери, которая играла бровями и скалилась, подвигая их к сравнению, а может быть, и к соревнованию с ее красотой. В пятнадцать, старшая и все еще девственница, Джорджи прокляла чертово зеркало и открыла кампанию язвительного непокорства. Двенадцать недель длилась эта отнимавшая все свободное время кампания против матери, и за это время Джорджи успела потерять свой цветок, но не свою партизанскую ухмылку. С тех пор она больше никогда не считалась одним из членов семьи.
Теперь она смотрела на свое тело так, как давно уже на него не смотрела. Да, маленькая. Компактная, как говорится. Изящная – эта мысль будто протягивает тебе пояс Алисы и кардиган, Господи Боже мой. Итак, маленькая. Коротышка. Темные волосы, густые и блестящие, падают прямой челкой на глаза, так что теперь она выглядит резко и даже сурово. Маленький шлемик волос. Она довольно-таки ничего, она всегда это знала. Выступающая верхняя губа, носик, загорелая кожа с гусиными лапками от солнца и тенями от всего остального. Глаза? Она знала, что у нее взгляд овчарки. Неудивительно, что ее боялись люди в школе и в палатах. Полоски загара на плечах переходили в глупую белизну грудей. Господи. Даже без них одежда придает ей какую-то форму. У нее был вывернутый наружу пупок и гладкий живот, хотя на ногах уже проявились вены – сказывались годы ковыляния по палатам. Непослушные волосы на лобке.
Прошло три года с того утра, когда она впервые увидела Джима Бакриджа с детьми на пляже в Ломбоке. Из своего номера в «Сенггигги Шератоне» она высмотрела его из толпы в крохотный бинокль в пятнах соли и наблюдала, как он шагает по вулканическому песку пляжа, пока его мальчики ныряют с маской на мелководье. Она заметила его только потому, что пряталась от другого мужчины. Забившись в норку в своем отеле, она не могла ничего, кроме как высматривать в свой паршивый бинокль кое-кого, кого она должна была бы бросить и забыть еще два месяца назад, – Тайлера Хэмптона. Проделав морем весь путь от Фремантла на север по западной оконечности Австралии с сумасшедшим американцем, страдающим морской болезнью, пережив дьявольский шторм под Зюйтдоорпскими скалами и двухдневное сидение на мели на островах к северу от Кимберли, – уже в море Тимор надо было сказать, что они в расчете. Парень был симпатичный, роскошный жулик, любил выбираться в однодневные путешествия, он был опасен для общества и для самого себя, и Джорджи слишком долго вводила себя в заблуждение. И потом, наконец, в миле от ломбокского пляжа случилось унизительное столкновение с другим судном – и это пробило скорлупу и заставило ее принять решение. Пока Тайлер Хэмптон бросал якорь в ста метрах от нее – помпы не работали, – она соскользнула с борта в последнем свете дня, взяв только бумажник, туфли и паспорт. Бинокль все еще болтался у нее на шее, когда она поплыла.
С любого расстояния Джим Бакридж выглядел как типичный австралиец. Гусиные лапки у него были как ножевые порезы. Он был по-деревенски красив – таких она обычно старалась избегать, – ему было сорок пять, и он выглядел на свои. Джорджи всегда притягивали этакие ящерки, обитатели гостиных, мужчины с заостренными бачками и приподнятой бровью. А этот парень был горожанин. Хотя его физическое присутствие было весьма ощутимым, он выглядел нерешительно и даже испуганно, как будто бы он только что проснулся и очутился в совершенно другом, более жестоком мире. Он не заслуживал бы второго взгляда, но эта очаровательная опустошенность так заинтриговала Джорджи, что она решила найти способ с ним познакомиться. По крайней мере, ей нужна была передышка. Но неожиданно для себя самой Джорджи начала испытывать любопытство. Она сказала себе, что просто хочет послушать его историю.
Вернувшись в Перт две недели спустя, она возмутила новостями сестер. Услышав, что старшая дочь съезжается со вдовцом, краболовом из Уайт-Пойнта, мать рассмеялась с тем особым отзвуком разочарования, который она оставляла исключительно для Джорджи.
Джорджи часто задумывалась об этом смехе. Она думала, уж не страх ли снова услышать этот холодный отзвук держит ее здесь эти последние месяцы, не дает ей уехать, когда уже совершенно ясно и понятно, что дела катятся в ничто.
Она отвернулась от зеркала, ступила в пещеру платяного шкафа и вытащила сумку «Квантас».
* * *
Поскуливание пса будит его. Он смотрит на светящийся циферблат часов и видит, что уже пятый час. Вот и говори после этого, что животные не чувствуют времени. Заставляет себя подняться. Принимает душ; полотенце, пропеченное солнцем, жестко, как черствый хлеб. Пес скребется в заднюю дверь. Пес знает правила, но живет постоянной надеждой, что внутри его ожидает рай. Надо бы нарушить традицию, думает Фокс, и как-нибудь впустить его. Увидеть линолеум и умереть. Зассать всю комнату в смертном восторге. И еще разбить ему сердце. Потому что каким-то странным образом пес верит, что остальные все еще внутри, что они здесь, полеживают себе в кроватках, просто позволили себе поваляться немного. Жестоко будет впустить его внутрь. Он натягивает шорты, ставит чайник и выходит, чтобы утешить шавку парой игривых хлопков по заднице. Во тьме – поднимается восточный ветер – земля пахнет свежим печеньем.
…На сиденье в кабине лежит рубашка, и он надевает ее, пока прогревается мотор. Он выезжает, не включая фары, а катер позвякивает позади по белым колеям дороги. Через ворота и на асфальт. Буш и плантации неразличимы. Никого нет вокруг. У него перед ними преимущество, но он дергается не меньше пса все те двадцать минут, которые нужны, чтобы доехать до Уайт-Пойнта; и там, со склона холма, упирающегося в город, он видит кладбище бурунов, которое отмечает границы внешнего рифа. Он пробирается по пустым улицам к пляжу и на секунду притормаживает, чтобы окинуть взором лагуну. Ни души. Он первый.
Едет мимо пристани, разворачивается, подъезжает к воде задом и спускает катер. Сбрасывает зажим – катер остается в наклонном положении – и постепенно сдает назад, пока катер не шлепается на воду. Вытащив снаряжение на дюну, он привязывает пса и бросает кусочек льда в жестянку у его ног. Шавка усаживается, несчастная, но в стоической готовности, припадает брюхом к песку.
Фокс толкает катер, пока его не подхватывает бриз. Он встает на транец, опускает мотор и заводит его. Правильный шум четырехтактной «Хонды». Он берется за рычаг и начинает пробираться между полями водорослей, мимо заякоренных лодок, собирая приборы – радио, эхолот, систему спутниковой навигации. Лагуна все так же по-старому загадочно пахнет кислым молоком, который забивает запахи соли, белого песка и прикорма.
Он начинает чувствовать себя хорошо. Вот для чего он живет, для этого чувства, он знает, что они все еще на берегу, в своих постелях, они забывают «Эму Экспорт» и постельные игрища, а у него уже есть целое море – у него одного. «Пусть спят до рассвета, – думает он. – Пусть у них будет их кофе и руль в рубке, „Зи-Зи Топ“ на стерео. Фоксы все еще первые».
В проливе, почти за милю от берега, он притормаживает, чтобы найти свои вешки, и заводит второй мотор. Палуба начинает вибрировать, когда он выжимает дроссель, чтобы нос у катера поднялся. Набирая скорость, он ощущает только, что прямые линии волн сходятся у прохода между рифами. Он стартует в волнах брызг и гикает.
Еще до первых лучей солнца в месте, где он не был с мая, Фокс выбирает два хороших заброса. Лески так тяжелы, что ему приходится поднимать их лебедкой. Длинноперая треска, окуни, люцианы. Он быстро убивает их и замораживает. Остаток стайки южных голубых тунцов проплывает мимо убийственно красивой лентой. Он дает им уйти: это и так-то довольно редкое зрелище.
Кругом все еще никого, так что он ловит свое счастье и перемещается на мелководье; там он бросает якорь в месте, где, как он знает, есть морские ушки. Натягивает гидрокостюм, маску, ласты.
Вода тепла, хотя и мутна от планктона и ила и непрозрачна в утреннем полусвете. Он погружается одновременно с маленьким дельфином; тот чирикает, и этот звук приятно насвистывает в ушах Фокса. Кровь течет по венам Фокса тонкой струйкой, тонкой, как медная проволока. Вдали показывается дно, и вот она, длинная расщелина рифа, в которую как раз можно пролезть, а внизу – скрытая от постороннего взгляда шероховатая колония моллюсков. Он вытягивает из-за пояса маленькую черпалку и раскрывает сумку. Работы на пятнадцать минут. Все так живо, так по-настоящему, так ясно. И лучи солнца пробиваются сверху, вспахивая воду.
Услышав звук мотора с востока, Фокс снимает катер с якоря и устремляется к восходящему солнцу. Его слепят водяные сияющие глыбы, но он знает, что, если кто-то сейчас на страже, его уже засекли радаром. Мужчины и мальчишки, которых он знает. Короли океанской волны. Да, впрочем, они все равно будут пыхтеть на автопилоте, запрокинув головы в забытьи храпа и дурного дыхания. Не о чем особенно беспокоиться. И все же он смещается на несколько минут к югу, чтобы быть в безопасности, и проходит мимо них незамеченным. Отсюда земля похожа на плохо пропеченный кекс, и все эти песчаные белые впадины в кустарнике цвета хаки похожи на беспорядочно разбросанные пятна сахарной глазури. Фокс лавирует между полями водорослей и отдельными плетьми, отклоняясь от курса каждого встречного судна, пока огромное волнообразное поле дюн не отмечает единственный город на много миль вокруг. Наглость возвращаться так поздно, но ему ничего не остается делать, как только посмотреть, нет ли на пляже посторонних, и войти в пролив обычным гражданином, который вернулся после нескольких часов отдыха за ловлей рыб.
На шоссе, как раз за городом, его восторг достигает высшей точки, как сияющий припадок безумия, до тех пор, пока его не высушивает горячий ветер. И смертельная тяжесть снова наваливается на Фокса. Он вгрызается в яблоко, которое пеклось на приборной панели, и сок кипит у него во рту. Он держит руль одной рукой. Пес слизывает с его икры соль. Ветер обжигает его из приоткрытых окон; человек и собака щурятся от его порывов. Земля размякла от жары. Над низкой серой пустошью несколько рождественских елок, кажется ему, плывут в воздухе по вертикали. Они шагают в потоке миража, и их роскошные оранжевые цветки вздымаются ввысь. Еще выше ястребы выписывают восьмерки в октановом небе.
На повороте, увидев у бровки автомобиль с поднятым капотом, он инстинктивно бьет по тормозам, но всего через секунду приходит в себя и газует. «Лендкрузер», мать вашу так! Рыбнадзор! Чче-орт!
Пес нерешительно приподнимается. Фокс смотрит в зеркало заднего вида, чтобы посмотреть, кто едет за ним, но позади никого нет. Слишком узко, чтобы развернуться с прицепленным-то катером. Кроме того, куда он может повернуть, кроме как обратно в Уайт-Пойнт? Без катера у него еще и был бы шанс – никто лучше его не знает тропинок в буше и просек, – но к тому времени как он отцепит трейлер с преступным содержимым, его уже окружат, и вот тут начнутся неприятности, это уж как пить дать.
Приближаясь к стоящей на обочине машине, восьмицилиндровый двигатель «Форда» с чувством мурлычет. Но Фоксу конец, и он это знает. Никогда ему не уйти от них по асфальту с этаким-то грузом. «Лендкрузер» разрастается, пульсирует ярким светом. «Сам виноват, – думает он. – Ты, чертов ублюдок, надо было тебе шататься вокруг, будто бы это твой собственный долбаный залив».
Когда Фокс проезжает мимо, закостенев в ожидании удара, он замечает голые женские ноги, свисающие с полированной стали подножки. Она склонилась над капотом. В джинсовых шортах. Просто женщина, не из этих. Он ударяет по тормозам.
Прижавшись к гравийной обочине, Фокс некоторое время просто сидит, вытягивая шею и всматриваясь в боковое зеркало заднего вида. Женщина вылезает из-под капота «Крузера» и смотрит в его сторону через плечо. Она слезает на гравий и ждет. Руки на бедра, если не возражаете.
Пес напрягается. Он становится лапами на раму окна и скулит. Фокс втягивает воздух сквозь зубы. Черт, черт, черт. Он знает, что должен ехать. Не успеет и птичка чирикнуть, как здесь будут другие машины. С ней здесь ничего не случится; не так уж и жарко. И это вполне может быть подстава. Эти заросли банксии рядом с ней вполне могут быть набиты крепкими молодыми людьми в хаки. Он включает передачу. Извините, леди.
И тут собака спрыгивает на гравий и убегает. Фокс в удивлении глушит двигатель и с отвращением бросает свое недожеванное яблоко вслед шавке. Боже всемогущий!
В зеркало он видит, как пес вьется вокруг женщины, а она наклоняется, чтобы потрепать его. У нее короткие, темные волосы, на ней белая майка, джинсовые шорты и теннисные тапочки. Может быть, туристка, но большой, цвета золотой металлик, серии люкс полноприводной автомобиль – не арендованный. И пес почти обнимает ее. Он оттягивается, как полагается, с шоссе и выходит, чтобы встретить музыку лицом к лицу.
Гравий под ногами горяч и остер. Ему приходится высоко поднимать ноги, чтобы продолжать идти, и, мать вашу за ногу, ему нужны туфли, любые, чтобы сохранить хоть какое-то достоинство.
– Тот, кто медлит, пропал, – говорит она, заслоняясь рукой от солнца.
– Да?
– Добрый день.
– Неприятности?
– Он просто закашлялся и отрубился, будто как горючка кончилась, – говорит она. – Вроде показывает полбака, но, похоже, бензин не доходит до мотора. Я почти посадила аккумулятор, пытаясь его завести.
Фокс нервно теребит шорты.
– А-а… Наверное, инжекторы?
– Не знаю. С этими турбодизелями одни заморочки. Даже в зажигалки теперь вживляют микросхемы.
– Вон оно как.
Фокс переводит взгляд с «Крузера» на гравий, а потом на нее. Солнце словно кроет эмалью глянцевый шлемик ее волос. Она стягивает солнечные очки со лба на глаза, и он видит свое отражение. Не очень воодушевляющий вид; он похож на пещерного человека, страдающего неврастенией.
– Простите, что отрываю, – говорит она.
– Я… звините, я вроде как могу подбросить вас обратно в Уайт-Пойнт, – с трудом выговаривает он.
Эта перспектива выдувает все дурные мысли из его головы. Какой стояк!
– Спасибо, – говорит она, – но, понимаете, мне надо попасть в город.
– Ну, я не могу вести вас с этим катером в кильватере. У вас ведь нет этого, как его, мобильного телефона?
– Нет. Извините.
Пес прижимается к ее ноге. Фокс готов пнуть его в ребра. Он переминается с ноги на ногу, пока женщина гладит шавку.
– Слушайте, – говорит она, – мне, в общем-то, плевать на машину. Я могу позвонить потом, чтобы ее кто-нибудь забрал. Мне надо быть в Перте.
– Ясно.
«Да, мать ее так, – думает Фокс, – это уже совсем не есть хорошо. На пути в Перт нет маленьких городков, и даже заправки нет до самой окраины. Я не могу бросить ее на солнце, не могу отвезти ее в Уайт-Пойнт без того, чтобы произошла чертова сцена, и не могу отвезти ее в Перт, не избавившись от катера, а это значит, сначала придется везти ее домой. Она оставляет на обочине «Тойо», который тянет на восемьдесят штук. Наверное, краденый. В конце концов, она же спешит. Кажется, очень даже спешит. И вот он я с хреновой тучей незаконной рыбы».
– Слушайте, мне правда очень жаль, – говорит она. – Вы, кажется, заняты.
– Нет, я просто рыбачил. Выходной.
– Много поймали?
– Ну… там, того-сего. И говорить не о чем.
– Жарко, да?
Фокс улыбается:
– Да уж, погодка. Слушайте, я должен попасть в Перт, так вот оно выходит.
– Значит, вы не из города?
Фокс смотрит на нее и не понимает, то ли это улыбка исчезает с ее лица, то ли она морщится от вьющихся кругом мух.
– Нет, – бормочет он. – Я съехал с шоссе несколько минут назад. Мне надо отцепить катер и все такое, но после этого я вроде как могу вас подвезти.
Она вздыхает:
– Великолепно. Спасибо. Я только возьму сумку.
Фокс стоит под убийственным солнцем, а она наклоняется внутрь «Лендкрузера» и начинает собирать вещи. Его тошнит при одной мысли о том, что придется везти ее домой. Фокс даже не попытался завести ее мотор, но он будет выглядеть полным раздолбаем, если не примет на веру, что он не заводится. Надо подумать о том, как бы выгрузить улов из катера в грузовик, чтобы она не встрепенулась. Не похожа она на бабу из рыбнадзора. Очки не зеркальные. Глупая соломенная шляпа – вот она ее как раз вытаскивает. Но на запястье у нее часы для подводного плавания. Она вытаскивает сумку «Квантас» и льняной пиджак.
– Вот и все.
– Запереть не хотите?
– А… да. – Она направляет бирюльку на свой джип, и фары вспыхивают. – Ну, – бормочет она, – хоть что-то работает.
– Отвянь от нее, собака. Извините, он немного бесцеремонный.
– А, да мы с ним старые друзья, – говорит она. – Дружелюбный пес.
«Чертов корм для крабов», – думает Фокс и идет обратно к «Форду», ступая как по угольям.
* * *
Джорджи сидела в потрепанной, пропахшей псиной кабине браконьерского грузовичка и пыталась не ухмыляться иронии всего происходящего. Господь свидетель, она была рада, что он остановился, но в его ситуации, если б башмак оказался на другой ноге, она вообще-то должна сразу побежать и настучать на него, и черт с ними, с приличиями. Джорджи и поверить не могла, что он решится рискнуть. У него нет ни малейшего представления о том, кто она такая, с кем она живет. Джорджи, наверное, хотя сама в этом не виновата, его оживший, дышащий кошмар. Что он, такой крутой или просто мозгов мало?
Она смотрела на раздавленную жестянку из-под пива, высовывающуюся изо рта кассетной магнитолы. Это был единственный мусорный штрих в таком чистеньком и опрятном грузовичке. Ни свалки на полу, ни классического болота из инструментов, счетов и оберток, перекатывающихся по приборной доске. Да он чистюля.
Они не разговаривали. Браконьер словно оцепенел, а у нее болела голова, да так, что казалось, будто ей делают трепанацию черепа. Прошло десять минут, пятнадцать. Она не могла найти в себе сил, чтобы стряхнуть с колен голову пса.
Тут они медленно проехали мимо остова старого фруктового ларька, который казался смутно знакомым после всех этих поездок в город, и начали взбираться по грязному склону через комковатые бахчи какой-то выжженной солнцем фермы. Пока они подскакивали по колеям, чувство неловкости, исходившее от него, ощутимо усиливалось, вроде как закладывает уши при наборе высоты.
Пес вскочил, заволновался, а Джорджи посмотрела на водителя пристальнее. Он был высок, строен, а кожа – коричневая от загара. Волосы у него были короткие и темно-русые, но солнце выбелило их кончики. У него были маленькие уши и мальчишеское лицо с голубыми глазами. Жизнь на вольном воздухе содрала с него лоск, но у него все равно было детское лицо. Каким большеглазым он, должно быть, был когда-то.
Он въехал в широкий, посыпанный песком двор, окруженный казуаринами и поломанными машинами, и, пока разворачивался, чтобы поставить катер в открытый сарай, она увидела некрашеный, обшитый сайдингом дом, который сутулился на сваях посреди опаленной солнцем бахчи. Пес царапнул ее когтями, выбираясь наружу через окно, и браконьер вышел, не говоря ни слова.
Джорджи минутку посидела, не зная, что делать дальше. Жара была убийственная. Скрипнул кран, где-то рядом забулькала вода. «Да черт возьми, – подумала она, – я выбираюсь отсюда».
Не успела она дойти до сарая, как он преградил ей путь.
– Там есть тень, – сказал он, указывая на деревья на другом конце двора.
– Все в порядке, – сказала она, натягивая соломенную шляпу, которая неожиданно показалась ей похожей на шляпку от Лоры Эшли. – У вас нет, случайно, аспирина?
– Лучше идите в дом, – неохотно сказал он.
Несколько куриц выскочили из-под веранды, когда они подошли ближе. Он остановился у алюминиевого ведра на нижней ступеньке и бросил им горсть крошек.
После ослепительного двора кухня показалась ей прохладной и тусклой. Там пахло подсолнечным маслом, жареной рыбой. Все в порядке и просто – кухня, где хозяйничает женщина, если Джорджи в этом хоть что-то понимает.
Из старого холодильника «Аркус» он достал бутылку воды и налил два стакана. Открыл шкафчик.
Джорджи поблагодарила его и посмотрела на этикетку, а потом и на сами таблетки. Парацетамол. Ей бы сейчас, конечно, кодеина фосфата. И высокий стакан семийона от Маргарет Риверс. Она запила таблетки водой, и от ее металлического холода головная боль на секунду взорвалась внутри черепа.
– Дождевая вода, – пробормотала она.
– Зато без дерьма, – сказал он.
Он провел ее по холлу в большую комнату, стены которой были заставлены книгами.
– Здесь прохладнее, – сказал он. – Всего несколько минут.
– Хорошо. И спасибо вам.
Джорджи не двигалась, пока не услышала, как на другом конце дома захлопнулась дверь-ширма. Стены комнаты были увешаны книжными полками из эвкалиптового дерева, которые напомнили ей сбитые вместе половицы. И на них были настоящие книги, серьезные книги. Джордж Элиот, Толстой, Форстер, Во, Твен. Она увидела коллекционное издание Джозефа Конрада, большие тома ин-кварто по естественной истории, книги по искусству, атласы. На маленьком столике лежал тяжелый гербарий, каждый листочек и цветочек был описан каллиграфическим почерком, розовато-лиловыми чернилами. На морском рундучке под окном, рядом с выгоревшим на солнце высоким пианино, лежала пачка пожелтевших нот.
Единственную стену, не заставленную книгами, занимал кирпичный камин; на каминной доске было несколько старых черно-белых фотографий в дешевых рамках. Официальная свадебная фотография, скажем, годов пятидесятых и два студийных портрета той же самой пары. Приятные люди. Мужчина чуть ниже и гораздо более напряженный. Возле этих снимков были сложены стопкой цветные фотографии детей, летающих в шине над глинистой рекой, младенцев с перемазанными шоколадом лицами. Браконьер – это мальчик на сиденье трактора.
Джорджи просматривала фотографии, пока не наткнулась на снимок женщины лет двадцати с чем-то; у нее были похожие на канаты светлые косы, которые ниспадали на топик-хомут. У нее был сияющий цвет лица и полные губы. То, как она наклонялась в дверном проеме, держа руки в карманах джинсов, заставило Джорджи содрогнуться. Такая ленивая, природная уверенность. Как те девочки, которых она видела в электричке по дороге в школу. Душечки в гибридных форменных платьях, выдувающие пузыри из резинки и подставляющие ноги солнцу с дающейся им без усилий сексуальной заносчивостью, которая у Джорджи раньше ассоциировалась с государственными школами. Подростком она стала угрюмой и пыталась быть страшной – но как же она завидовала шлюшьему самообладанию этих девочек! Оно волновало мужчин и мальчишек, как запах еды.
Снаружи было тихо. Джорджи подобрала с кресла-качалки книгу и уселась. Китс. Ну да, правильно. Хотя она его никогда и не читала. Господи, да когда же она последний раз читала вообще? «Наш семейный книжный червь» – так называл ее отец. Она попыталась прочесть стихотворение. Оно длилось несколько страниц, плотное, как ее головная боль. Бесполезно.
Задняя дверь снова скрипнула. Джорджи положила книгу на место, услышала, как хлопнула другая дверь; шум текущей из крана воды. Это была плохая идея. Быть здесь. Вместе с этим парнем и так далеко от шоссе. Господи, да как же ее угораздило во все это впутаться?
Господи, если бы у нее была собственная машина. После нескольких безналоговых лет в Саудовской Аравии, похоже, она вполне могла себе ее позволить. Это все лень. В Джедде ей было запрещено даже водить эту чертову машину, и вот она здесь, все еще зависима. Какой же чертовой ленивой старой грымзой она стала! Каким триумфом для мулл была она и в какую же трескучую идиотку превратилась!
Она прошла через кухню и раздвинула дверь-ширму, закрыв ее за собой. Пес был безумно счастлив снова ее видеть. Ключей от грузовичка не было в замке зажигания.
* * *
– Зря ты не взял пса, – говорит она, все еще задыхаясь.
Он просто ведет машину. Обнажившиеся слои породы. Банксия. Эвкалипты.
– У него есть имя?
Фокс качает головой и пытается выглядеть беззаботным.
– Такой пес, даже в море выходит. Надо его как-нибудь назвать.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































