Текст книги "Музыка грязи"
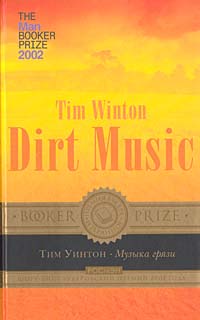
Автор книги: Тим Уинтон
Жанр: Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
– Лю?
Он чувствует ее губы под своей ладонью.
– Все в порядке, – говорит она. – Я ничего не чувствую. Пой, Лю.
Он чувствует, как дыхание выходит из нее, он не успевает убрать руку. Горячий дождь ее мочи заливает ему лицо. Он приходит в себя, сидя прямо в грязи. Та же ночь и, наверное, та же минута.
Идет в поисках по дороге, крестится, чтобы успокоиться, лелеет надежду.
Но он находит Пулю на каменном краю бахчи, его голова расколота, как канталупка, он все еще пахнет мылом, и пижама на нем чистая.
Национальная гитара в чехле прямо там, на жнивье. Пыльная мандолина. Тряпка, в которую набились репьи.
Далеко, у дома, лает прикованный пес.
И наконец, на другой стороне дороги, в мягкой грязи, светящаяся под луной Птичка. Как упавший воздушный змей, в своей ночнушке, дышит, дышит, но Фокс никак не может поднять ее. Его ключица выпирает, как сломанный брус. Когда он снова пытается приподнять ее, он почти складывается пополам под ее весом и падает на спину в окрашенный кровью овес. Его спину скручивает яростный спазм, но он все еще чувствует горячее дыхание ребенка на своей руке. Он невероятным усилием поднимается на ноги и некоторое время пытается отдышаться; а потом здоровой рукой берет маленькую, теплую ножку и тащит ребенка по белой колее несколько шагов, сопротивляясь боли, пока ему не становится стыдно от ее задушенного вскрика из грязи, и он уступает. Он знает, что не должен был ее трогать. Отступив назад, он натыкается на вспоротое брюхо гитары, и она кричит, и несколько минут Фокс исполняет чудовищное эстрадное представление, пытаясь стряхнуть с ноги эту дрянь.
Луна висит над домом. Он хромает по колее. Он ползет, он еле волочит ноги. Он оставляет их всех там, под луной. Ветра нет, но проволока ограды поет, и шип стоит над сорняками. Как раз за порушенным забором в ночи дрожат тяжелые оранжевые бутоны рождественских деревьев, а за ними сияют жучиные спины арбузов. В доме он маленькими порциями боли преодолевает ступеньки веранды, и, когда ноги отказываются идти, он прислоняется к косяку и размазывает чью-то кровь по деревянной раме.
Стол на веранде завален крабовыми шкурками и влажной газетной бумагой – ее уже оккупировали муравьи. Тарелки, пивные бутылки – тараканий угол. На перилах висят детские трусы из грубой ткани.
Внутри сияют половицы. Телефон работает – слышен длинный гудок. Дом пахнет жизнью, но Фокс знает, что видел конец света.
* * *
Прогулка обратно вверх по холму не успокаивает его. Фокс возвращается в темноте – и все его мировоззрение порушено, и мысли разбегаются сразу во всех направлениях. Кривой гортанный звук ее смеха. Жалкая перспектива вовлечения детей – и, что еще хуже, вполне возможно, что все уже кончилось сегодня вечером, что для нее это вполне могло быть просто очередное приключение. Во всяком случае, остается надеяться, что она не настолько глупа, чтобы хвастаться этим за его счет. Никто не может сознательно делать такую глупость, ни одна душа, у которой есть хоть какое-то представление о Бакриджах. Даже сама мысль о них, о том, что он может снова попасть в их орбиту, сотрясает его. Сложно сказать, почему именно. Большой Билл давным-давно покойник, его больше нечего бояться, но даже он был по большей части легендой для мальчишек Фоксов. Они понимали, что Уайт-Пойнт – его город и что еще до того, как были построены первые лачуги, все побережье считалось его феодом. Фокс никогда не видел пожара или тонущего корабля своими глазами, и он никогда не слышал прямого рассказа об этих парнях-япошках, которые исчезли после войны. Его старик никогда не говорил об этом, но то, как цепенел отец при одном упоминании этого имени, говорило о многом.
Фокс не мог отогнать от себя воспоминания о Джимми Бакридже в школе, о том, как на перемене угнетало ощущение того, что он стоит прямо за твоей спиной. Он был неприкасаемый; его слово было законом, но иногда он появлялся с необъяснимыми ссадинами, а раз или два – даже с фингалом. И все же к нему сложно было испытывать жалость – и даже если это чувство было тебе доступно, ты бы и самому себе не осмелился в нем признаться. В Джиме было что-то пугающее, что-то неправильное. Отец Фокса говорил – порочный ребенок, но Фокс никогда не задумывался почему.
Лучше всего он помнит один детский день на пристани Уайт-Пойнта. Джимми Бакриджу тогда было не больше одиннадцати. Тогда ему казалось: большой мальчик, и еще – городской. Он вышел на пристань, чтобы городские девчонки заахали от его жестокости. Топтал рыб-ежей, выдергивал челюсти у живых рыб-ворчунов. Фокс помнит, как, сворачивая свою собственную леску с отстраненной торопливостью, он смотрел на разворачивавшийся финал. Живого тетрадона, безобидного и глупого, размером с футбольный мяч, засунули под заднее колесо работающего вхолостую грузовика с базы. Фонтан крови, смех. И потом какая-то храбрая мамаша, которая видела все это с пляжа, подходит и награждает парнишку Бакриджа потоком ругательств прямо перед всей честной компанией. Потом, когда она вернулась на пляж присматривать за своими младенцами, паренек влил китовый жир в открытое окно ее машины. Король детей, уже тогда – Большой Джим.
Дома пес уже отдыхивается на ступеньках и прыгает к нему за утешением, будто бы весь день они только и делали, что нарушали привычный распорядок. Фокс присаживается на минутку, чтобы потрепать ему уши и поразмышлять над тем, что все уже закончилось, если Джорджи вернется к Джиму Бакриджу и оставит этот эпизод позади. Конечно, она импульсивна, но не глупа. Она знает, в какую сторону дует ветер. Им обоим лучше бы позабыть про все это. Но вся эта история потрясла Фокса. Он не может поверить в то, что все эти часы лелеял смехотворные надежды. В ее присутствии он был повсюду; это было какое-то безумие.
Спускается ночь, и он позволяет псу прижаться к себе, лизать руки и лицо за все хорошее. Он слишком отвратителен сам себе, чтобы прогнать пса, – и постепенно псу становится скучно, и он залезает под дом.
* * *
Не прошло и получаса, а Джорджи уже знала, что сегодня вечером ни порция водки, ни десять миллиграммов феназепама не переведут ее через грань. Она чувствовала, как тело и ум поймали сон в ловушку. Тревога напомнила ей о тех ночах в Джедде, когда она боялась спать, чтобы ей не приснилась еще раз миссис Юбэйл, как она подкрадывается к ней в больничных коридорах. Кошмар преследовал ее с Саудовской Аравии и до Штатов, до Индонезии, и даже когда она вернулась домой, в Австралию. Долгое время в Уайт-Пойнте ей казалось, что наконец-то удалось от него освободиться, но не так давно кошмар начал повторяться. Она узнавала подкрадывающееся ощущение ужаса. Она думала о том, как эпилептики и страдающие головокружениями чувствуют приближение приступов. Именно так она и чувствовала себя сегодня, лежа рядом с Джимом Бакриджем, таким неподвижным и тихим. Его дыхание было слишком сдержанным. Он притворялся, что спит.
Она не осмеливалась пошевелиться. Она понимала, чего стоит во время сезона не давать ему спать после полуночи. Так почему просто не сказать ему все в лицо? Зачем она лежит рядом с ним и притворяется? Если только он и в самом деле не спит. Но эта неподвижность была так похожа на сдержанность. И каким-то образом эта сдержанность, его сила не давали ей покоя и раздражали.
Джорджи подумала о том, как мало у нее денег. Она подумала, не пойти ли снова на работу. О мальчиках. О том доме на выбеленных солнцем бахчах. О взятой напрокат машине. О плате за буксировку. О счете из отеля. О вещах, по которым она будет тосковать.
В четыре тридцать Джим вздохнул и выкатился из постели. Она почти не ожидала, что он скажет что-нибудь. Лежа в постели, затаившись, она думала, что он помедлит перед тем, как пойти в ванную. Она хотела было что-нибудь сказать; успокоила себя, что еще не слишком поздно, но все же дала ему одеться и заварить кофе на кухне, а сама так и не встала с постели. «Хайлюкс» выкатился на подъездную дорожку.
Она почти заснула, когда с лагуны поднялся рев двигателей «Налетчика».
* * *
Фокс стоит в горячей, тихой утренней тьме, а пес скулит у его ног. Тишина полная. Воздух тяжел и упруг. Ощущение такое, что где-то за горизонтом две противоборствующие системы одновременно остановились и затихли, и от них осталось только это странное спокойствие. Уже можно понять, что днем будет не продохнуть. Подарок, а не погода. Прошлой ночью он решил на какое-то время затаиться, не выходить в море, пока все не успокоится, но как можно пропустить такую погоду в месте, где воющий ветер – единственная постоянная величина? В такие особенные дни ты просто должен быть в море; грешно не воспользоваться такой возможностью.
Проблема в том, что уже поздновато для настоящей рыбалки. Он не подготовился, и у него нет наживки. Но он прикидывает, что в баках катера хватит горючего для быстрого набега. Вперед-назад, может быть. Как раз хватит времени на то, чтобы быстренько нырнуть партизанским способом на любимых коралловых глыбах к северу отсюда. Какого черта!
Фокс снимает с катера все специальные приспособления. Не остается ни эхолота, ни рации, ничего, что могло бы навести на него подозрения. Если на борту нет ни тралов, ни буйков, нет даже приличного морозильника, кому придет в голову, что он не просто еще один тощий рыболов-любитель, который лелеет надежду загарпунить люциана? Даже самые подозрительные субъекты из рыбнадзора ничего против него не накопают. А уайтпойнтовцы? Ну, он всегда будет на шаг впереди этих сонных ублюдков.
К моменту, когда он оставляет пса на пляже и поперек волны выходит за северные границы лагуны Уайт-Пойнта, уже почти рассвело, но Фокс чувствует себя под защитой этого странного метеорологического божьего промысла. Он буквально впитывает в себя совершенное спокойствие. Он выкатывается в неподвижное море. Волосы бьются ему в шею. Жемчужные дюны он видит только краем глаза, осматривая пустынный берег. Теплый воздух. Зловещее спокойствие. Вспыхивающие мазки водорослей и риф под ногами. И ни одного чертова судна в виду.
В нескольких милях к северу он встает на якорь и переваливается за борт – и тут же чувствует, что зря надел гидрокостюм; в такие дни хочется ощущать море кожей. В воде горячка, и есть что-то особенное в том, как риф бьется и пульсирует внизу. На секунду он зависает на поверхности, чтобы набрать воздуха, а потом рвется вниз сквозь свернутые слои, сквозь невидимые окольные тропы течений и температур, которые оплетают кружевом тихую воду. Из дыры в рифе на открытое пространство выскальзывает сине-зеленой вспышкой голубой окунь. Фокс даже не заряжает гарпун. Большая рыба откатывается в сторону и наблюдает за ним. Он парит над мягкими кораллами и губками, плывет мимо твердых желтых пластов и пурпурно-голубых трещин. Там и оленьи рога, и мозговой коралл, угри, и морские собачки, и длинноперая треска, и усики сотен осторожных лангустов. Море набито щелканьем и треском – зашифрованные радиосигналы и атмосферные помехи говорящего молчаливого мира. Давление сжимает ему кожу, и течение колышет волосы. Можно остаться здесь, думает он. На одном-единственном дыхании ты можешь жить здесь целый Богом данный день, когда перед глазами крутится планктон и рыба фалангами выходит из укрытий, чтобы поплавать вместе с тобой. Нить жары внутри его превращается в тяжелое ядро. Ему больше не хочется вдохнуть воздуха. Наверху его катер висит на швартовочном канате, как воздушный шарик на празднике. Он такой жизнерадостный, такой красивый, что Фоксу нужно вернуться и посмотреть на него. Он лениво всплывает. Из слишком долгой и слишком длинной глубины. Отравленный и счастливый. Какая-то часть его знает, как близко он подошел к тому, чтобы утонуть на мелком месте; но когда он прорывается через сияющую поверхность, где тело все еще дышит за него, остальной его части остается только простой восторг. Он лежит наполовину в этом мире. Звенит в ушах.
* * *
В начале девятого Джорджи отвела молчаливых мальчиков в школу, поцеловала их в уклончивые головы и пошла к Биверу, чтобы присмотреть машину.
Он, кажется, удивился, увидев ее. Он положила кассету с Бетти Дэвис на прилавок.
– Не лучшая ее роль, – пробормотал он.
– Какие ходят сплетни?
– Производственная глухота, Джорджи. Черт бы побрал «Харлей-Дэвидсон».
– Можешь продать мне машину?
– Не раньше Рождества. Хочешь куда-то подъехать?
– Нет, сейчас я взяла напрокат.
– Господи, Джорджи.
– Что?
– Будь осторожнее.
– Поэтому я к тебе и пришла, – жизнерадостно говорит она. – Не стану же я покупать подержанную машину у кого попало.
– Я дам тебе знать. Когда что-нибудь появится.
– Ты настоящий друг, – сказала Джорджи.
Он рассмеялся утробным смехом.
– А что, разве не так?
– Да я всем друг, Джорджи.
На полпути домой ей послышались выстрелы. Господи, как же она ненавидит этот город!
* * *
Море такое гладкое и лазурное, что облака, кажется, лежат на нем. Скользя по их отражениям при входе в лагуну, Фокс чувствует себя скорее сыном неба, чем моря.
На берегу в Уайт-Пойнте ни движения. Только довлеющий надо всем живописный покой. Пустынный пляж. Неподвижные норфолкские сосны. И тоскующие на якорях катера.
Прибавляя газу и пробираясь через равнины водорослей, он знает, что вернулся домой свободным – его не в чем уличить: ни рыбы, ни лангустов, ни морских ушек. Кильватерная волна заворачивается вокруг самой себя, как патока. Он думает об изгибе ее шеи. Вдыхает аромат лебеды, полыни, йода. Мир кажется успокоенным и сонно-мечтательным.
Нос осторожно упирается в песок. Пес не поднимается, чтобы приветствовать его. Не блестит стекло в окне грузовика. Цикады. Приходит волна, поднятая катером; она бьет в берег одиноким крещендо, и тогда он начинает видеть то, на что смотрит.
Фокс выпрыгивает из катера прямо в гидрокостюме и подходит к псу, который пятном лежит на конце цепи. Куски мяса и клочья волос меняют цвет песка. Под ногами кровь, но мух еще нет. Стекла грузовичка выбиты, а в морозильниках пробиты дыры. Фокс выуживает ключи из-под ступеньки грузовичка и через разбитую дверь засовывает их в замок зажигания. Он не ожидает искры; искры нет. Он поднимает капот, видит покореженные кишки мотора и знает, что все бесполезно.
Он уходит, чтобы не упасть; идет к катеру. Отмывает ноги от крови. Входит на транец. Отталкивается от берега.
* * *
Около девяти Джорджи сделала себе крепчайший кофе и встала у кухонного окна, чтобы выпить его. На пляже она заметила трейлер и изгиб крыши автомобиля, большей частью невидимые из-за дюны. Она поставила чашку в раковину и схватила домашний бинокль. О Господи. Лю. Зачем ему понадобилось выходить сегодня? Сегодня – изо всех дней и при чертовом белом свете дня?
Она спустилась по траве почти бегом и подошла к дюне, чтобы увидеть, что у «Форда» разбито лобовое стекло, и розовую, распластанную на песке собаку. Солнце било ей в голову.
…Перво-наперво Джорджи приняла душ. Она не могла себе помочь; ей надо было вымыться, и, как бы ни была горяча вода, она все никак не могла согреться. Она выпила. Полчаса искала ключи от взятой напрокат машины, но их нигде не было видно. Она нашла в гараже картонную коробку и отнесла ее наверх. Рывком открыла платяные шкафы и посмотрела на свои вещи. В основном просто тряпье. Кучка косметики, горсть компакт-дисков – и все. Господи Иисусе, да своей жизнью здесь она не может и коробку наполнить. Все принадлежит Джиму.
Зазвонил телефон. Она не взяла трубку. Джорджи села на кровать и закрыла руками лицо. Телефон зазвонил снова.
В гостиной она взяла домашний бинокль и осмотрела лагуну, риф, проход между рифами. Пара судов уже, дымя, входили в лагуну, и ею овладел приступ ужаса. Она отрезана, окружена. Она подумала о детях в школе. О шоссе. О настороженной тишине города. Она подобрала диски. Засомневалась, действительно ли диск Джони Митчелл – ее; сказала сама себе, что, если ей удастся успокоиться, она вполне может найти ключи от прокатной машины; ее нужно вернуть в Перт до полудня. Как она могла их потерять? Она была на взводе и все же бесстрастна. Ей нужно еще выпить. Тогда она успокоится.
«Столи» горел у нее в горле, но тепло не распространялось по телу. И она не нашла ключи. В какой-то момент она перестала искать. Даже перестала собираться. Она просто свернулась клубочком на диване, чувствуя только холод.
…Когда вошел Джим, Джорджи была еще не настолько в стельку, чтобы не заметить, что он вернулся на несколько часов раньше обычного. Его лицо, казалось, обварили кипятком. Ее лицо замерзло в лед.
– Нашел твои ключи на дорожке, – сказал он, бросая их на раковину около неё.
– Чертов лжец, – сказала она, неустойчиво следуя за ним в ванную.
– Господи, мальчики будут дома всего через несколько минут.
– Я не могу поверить в то, что ты мог это сделать. Ты злобный ублюдок, я не понимаю, как ты мог.
– Джорджи, протрезвись.
Он закрыл дверь ванной у нее перед носом, и затвор щелкнул с угрюмым звоном.
– Открой дверь!
– Остынь, ради Христа, – сказал он приглушенным голосом из-за двери.
Полилась вода в душе.
Джорджи вернулась в кухню и взяла бинокль. Толпа детей уже толклась на пристани, и их школьная форма лужицами лежала на сходнях. Самые смелые уже карабкались по крану, чтобы спрыгнуть с самой верхушки, подняв фонтан брызг. Вода была бронзовой, и свет падал на их тела сзади. Ветра все еще не было. Люди шли на пляж, чтобы отдохнуть от жары. Она смотрела, как они подъезжают к самой воде в своих «Пэтролах» и «Крузерах». Оказывается, это был светский день. Большие женщины в безжалостных лайкровых шортах окунали младенцев на мелководье. Мужчины несли с собой пиво в неопреновых чехлах; она смотрела, как шевелятся их губы. Никто, казалось, не интересовался грузовиком и мертвой собакой в нескольких сотнях метров на пляже.
Телефон снова зазвонил.
Джорджи осматривала море. Она не могла придумать, где он мог бы высадиться. На этом побережье больше нет безопасной стоянки. И к северу, и к югу – только прибой с бурунами, и ближайшая гавань – в семидесяти километрах. Может быть, у него хватит горючего. Она сомневалась в этом. И все же погода была отличная.
Вошли мальчики. Она попыталась собраться.
* * *
Фокс идет и идет по плоскому морю. Ветер застрял у него в зубах. Звоном в ушах визжат двигатели «Хонды». Он оцепенел от скорости, почти потерял разум в движении. Постепенно двигатели теряют обороты. Они уже не работают при открытых задвижках, и несколько минут катер плывет по инерции; наконец опускается нос, и катер останавливается. Фокс стоит у руля, пустой, как послеполуденное небо. Его настигает кильватерная волна; она поигрывает катером и выбивает Фокса из прострации. Он смотрит на измеритель горючего. Пытается подсчитать, насколько далеко он забрался. Компас показывает, что он движется на северо-северо-запад, но без гидролокатора и спутниковой связи он может только приблизительно оценить, как далеко он от побережья, и только догадываться, насколько он забрал к северу. Уайт-Пойнт скрылся из виду, и ландшафт стал просто серовато-коричневым размытым пятном. Он смотрит на морской горизонт. Бинокль остался дома, в сарае, вместе с навигационными инструментами. Он заключает с самим собой пари. Пять миль до берега? Может, с десяток миль к северу?
Он встает на колени у планшира и отрыгивает маленькое пятно чайного цвета. Поверхность моря серебряная, но внизу оно черное.
Из ящика с принадлежностями для ныряния он достает бутылку полузамерзшей воды и пьет, пока у него не начинает гореть горло. Он подумывает о рации, об упаковке сигнальных огней под консолью. Но он знает, кто пойдет его искать. Он будет здесь один, в открытом море, и из оружия – только автоматический гарпун. Старая уайт-пойнтовская история. Никаких свидетелей, кроме самих уайт-пойнтовцев. Это будет еще один несчастный случай в море.
Он сидит на планшире. Палуба под ногами горит.
Чертов Бакридж. Он пытается вспомнить все про вчерашний день. Неужели кто-то видел их на шоссе? Или когда они купались? Это, наверное, управляющий старой фермой; в конце концов, он вполне мог быть поблизости. Если только она просто не пришла домой и не призналась во всем сама – так сказать, для очистки совести. Черт, он даже не знает, что ему и думать.
И теперь они сожгут ферму. Так все и будет. Конец. Аминь. Ты, гребаный идиот!
Он стаскивает рубашку и натягивает гидрокостюм на плечи. Достает ласты из ящика и пытается нацедить горькой слюны, чтобы подготовить маску. Он выискивает самую темную полоску в дымчатых складках побережья и решает направиться к ней. Нагибается за корму и открывает кингстоны. Он переваливается за борт и оставляет катер покачиваться на волне. Хороший день ты выбрал. Была бы зыбь – никогда бы ты этого не сделал. Но сегодня у тебя удачный день. В любом случае тебя больше нет.
Вода под ним темно-фиолетовая. Он пытается плыть размеренно и дышит через трубку в маске. Его нет уже давным-давно.
* * *
Джим Бакридж почувствовал, как пластиковая телефонная трубка хрустнула у него в кулаке, – он пытался сдержать ярость. Неужели ж весь гребаный мир населен одними кретинами?
Из двери кабинета ему было видно, что она в кухне, наливает себе еще одну порцию водки с мартини. Закусывает «Столи» какой-то жалкой оливкой. Кажется, у нее шелушится лицо. Мальчики где-то шляются, слава Богу.
– Так что пусть кто-нибудь придет и заберет его, – зашипел он в трубку. – Хорошо, тогда сразу, как только освободится второй человек. Да, я знаю, что это стоит денег, и, кажется, я сказал, что заплачу́. Мне что, переводчика позвать? Уайт-Пойнт. Это на карте. Да, возле придорожной гостиницы. Она красная. Ну, это же ваша машина, приятель.
Он швырнул трубку на рычаг и смотрел, как она глотает напиток. Зазвонил телефон. Он сидел в кабинете и трубку не брал.
* * *
Фокс ползет через просвеченную солнцем воду. Чувствует, как его голова с трудом разрезает слои воды. В послеполуденной жаре море сгущается карамелью. С каждой минутой ему все труднее двигаться. Как оползень: чем больше копаешь, тем больше остается копать. В гидрокостюме он весь взмок, но он знает, что не сможет снять его – так отяжелели руки. Кроме того, неопрен придает его телу дополнительную плавучесть, а очень скоро ему понадобится вся плавучесть, на какую он только способен.
Потом он перестает грести и просто толкает себя вперед, стараясь дать отдых дрожащим рукам. Вода пронизана столбами солнечного света, которые перекручиваются и разделяются в туманной водяной мути. То одна, то другая морская щука в ужасе порскает прочь. Медузы плывут среди отражающихся в воде облаков. Они сами как облака, и их щупальца – как струи дождя.
Смотрит на распухшие подушечки пальцев. Мозоли от гитар почти совсем сошли.
Думает о распростершихся на жаре салатах-латуках. О серебряных вспышках олив. Дыхательная трубка режет ему десны. Барабанные перепонки туги, как шкура банджо.
Продолжает ползти. Воздух обжигает горло. Он не может заставить себя взглянуть на жуткую глубину внизу. От этого у него кружится голова. Он переворачивается на спину и пытается плыть, подставив лицо солнцу, зажмурив глаза.
Потом. Он понимает, что остановился. Лицом вниз, как мертвец. Его руки покрыты морщинами, как дюны. Можно состариться, лежа здесь. Как воздушный змей – вот на что это похоже. Подвешен между мирами. Это его смешит. Билл Блейк – рыбак херовый, но мы с ним оба подвешены. Ты совсем сошел с ума, ох как пухнет голова, – как ангел задницей кверху. Ты поэт, но ты никогда этого не узнаешь, и смех, вырывающийся из твоей дыхательной трубки, совсем не человеческий.
Он держится спиной к свету, смех дрожит у него в ногах. Продолжает плыть.
Не может поверить, что холодает. Воздух холоден, как больничный.
Видит, как пес падает на конце цепи, розовый в свете стоп-сигналов, розовый пес на песке. И потом уже нет света. Он плывет по привычке. Вода, темный сон без снов. Вода вокруг тела фосфоресцирует. Он похож на святого в этом сиянии. Святой Лютер – Смерть Арбузам, тырит рыбу – набивает пузо. Хрипло смеется, дрожа в ознобе.
На берегу нет огней.
И никакого берега, пока не встает луна.
* * *
Как раз к закату поднялся нежный северо-западный ветер. Он еле шевелил занавески; это был тот ветерок, что приносит некоторое облегчение, но уже слишком позднее и слишком малое. Джорджи дотащилась до дивана. Бутылка водки стояла на стеклянном столике в лужице собственного пота. В симпатичной голубенькой масленке примостилась кучка оливковых косточек.
На пляже горело несколько ламп. Местные удили карпа или сидели на складных стульях, опустив ноги в водичку. Джорджи взяла бутылку и пошла на террасу. Джим с мальчиками сидели снаружи, и над их головами парили перья дыма от барбекю. Они повернули головы, когда она тяжело уселась рядом. Эти лица – так мало они похожи на те, что она помнила с Ломбока. Они вернулись к еде, и их голоса звучали как невнятное бормотание. Воздух был подсолен.
Одновременно заработали двигатели двух больших катеров. Рев их дизелей прокатился по лагуне, и они вышли из залива с зажженными огнями. Суда, с которых ловят лангустов, не выходят в море ночью, сказала она себе. Это могут быть пассажирские суда. Может быть кто угодно.
* * *
Теперь, когда он слышит, как они дышат в темноте, ему не страшно. Разве Птичка не дышит ему теплом в ухо почти каждую ночь и разве кресло-качалка не качается иногда, когда он проходит мимо? И теперь он слышит писк и храп даже в самом господнем Индийском океане. Он слышит шум их движения в груди. Он чувствует их дыхание в неподвижном воздухе. Все в нем в мире темной воды. Пение.
Зачарованный, он перестает грести. Он стягивает маску, и воздух неожиданно обжигает ему лицо холодом. Сбрасывает и ласты и понимает, что его затекшие ступни горят от наплывающей на них волны крови. Пузыри разговора вновь взрываются около него. Он снова проваливается в обморок и вполне может прямо сейчас счастливо заснуть. Но вода вся состоит из животов и бедер, как забитая танцплощадка. Это его поддерживает. Впереди него катятся белые облака. Воздух наполнен скачущими телами. Фокс, не раздумывая, падает в облака и выталкивает их на берег. Он поднимается на ноги и, прихрамывая, погружается в пряный аромат лебеды.
* * *
Когда она проснулась на террасе, во дворе было темно, а в доме горела только одна лампа. Джорджи моргнула и облизнула губы, пытаясь понять, что происходит. Город спал. Пляж казался покинутым. У нее появилось ужасное чувство, что она проспала что-то очень важное.
Кто-то прикрыл ее хлопчатобумажным покрывалом. Она сбросила его. Луч фонарика мигал на ближней дюне, и через мелкую поросль метались тени. Джорджи попыталась встать, но ее ноги еще спали. Она споткнулась и рухнула. Бутылка упала и, не разбившись, покатилась по шиферу. Луч фонарика на секунду хлестнул по балкону. Она попыталась собраться; ее всю будто искололи булавками.
Она увидела, что луч фонарика освещает покачивающееся лезвие лопаты. Ноги Джима. Его ноги. Свет погас. Он пересек газон и через несколько секунд уже был на ступеньках.
– Что ты там делал? – спросила она.
– Иди в постель, Джорджи, – сказал он, проходя мимо нее.
– Это простой вопрос, – сказала она, выбивая фонарик у него из рук – он выпрыгнул и скользнул по ее голени.
– Господи, – пробормотал он. – Убирайся с дороги.
– Нам надо поговорить.
– Тебе, чтобы говорить, надо протрезветь, и хватит отнимать у меня время. У меня дети. И катер. Спи в свободной комнате. И смотри, чтобы тебя ни на что не вытошнило.
– Где ключи от моей машины? Ты их снова забрал.
– В надежном месте.
– Мне они нужны.
– Ну уж нет.
Джим открыл раздвижную дверь. Джорджи отступила на застекленную террасу. Она хотела пойти за ним, но не могла отвести взгляд от большого оранжевого пластикового фонарика у своих ног. В доме раздался звук спускаемой в туалете воды.
Она взяла фонарик и пошла вниз по лестнице вслед за лучом – к пляжу, где в песке все еще стоял грузовичок. Собачья цепь исчезла вместе с останками бедного животного. И еще было гладкое, выровненное место там, где Джим, должно быть, только что закопал пса.
Вода зловеще плескалась о берег. Она захотела поплавать. Она захотела поджечь дома. Она захотела сесть за руль и ехать куда-нибудь до самого рассвета. Она всхлипывала, пока ее не затошнило от самой себя.
* * *
Некоторое время он ковыляет на заплетающихся ногах. Натыкается на колеи в пустоши и идет по ним на юг. Дневная жара все еще живет в песке, но он дрожит в своем гидрокостюме. Мимо проносится пара кенгуру. Он все тащится, пока не замечает вдалеке блеск крытой жестью крыши. Он подходит ближе и натыкается на несколько фермерских лачуг в лощине. Два пляжных багги. Пирамида пивных банок. Грубоотесанная скамья для разделки рыбы и веревка с бельем. Он ищет глазами собаку, но ему удается незамеченным добраться до ближайшей емкости с водой. Встав на четвереньки, пьет из крана. Вода стекает вниз по горлу, прохладная, с медным привкусом. Он подставляет под воду лицо, чтобы смыть соль и песок.
С веревки он снимает шорты и майку, которая пахнет жидкостью для посудомоечной машины; удалившись на достаточное расстояние, вытряхивается из гидрокостюма и натягивает одежду. Вниз по дороге он видит дюну, исчерченную порослью акации. Он заползает туда, находит ложе из опавших листьев и ложится посреди обеспокоенного шороха всякой мелочи.
Когда он просыпается, уже середина дня и жарко. Он выполз было из-под деревьев, но свет слишком силен, белый песок расплывается перед глазами, и воздух в его горле – как моток шерсти. Ноги у него сводит судорогой. Он прячется снова, чтобы подождать заката. Снова спит.
На закате он чувствует себя лучше, и после небольшого перехода ногам гораздо легче. В положенное время он видит в небе желтый купол. Уайт-Пойнт. Он подходит к городу со стороны пляжа. Прячась в тени дюны, он обходит залив. Суда дергаются на цепях, как дворняжки. Залитая приливом пристань кишит чайками. Он прокрадывается между дюнами, видит, что никого нет поблизости, и снова идет по пляжу.
Там, где стояли его грузовичок и трейлер, не осталось ничего, кроме маленьких кубиков стекла под ногами. Это не удивительно. Так все и должно быть – будто мы этого не видели.
Он проползает к ограде дома Бакриджа. На расстоянии вытянутой руки от газона лежит он, глядя, как окна мерцают светом телеэкрана. В темноте город кажется вполне добродушным: музыка, смех, скрип дверей. Он массирует сведенные судорогой ноги. Постепенно гаснут огни, и дом затихает.
По пути к поливочному крану он чувствует запах мяса на жаровне. Он берет пару почерневших отбивных с мармита и, скрючившись на газоне, зубами срывает горелое мясо с костей и жадно пьет из шланга.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































