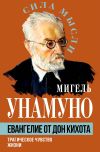Текст книги "Герои, почитание героев и героическое в истории"

Автор книги: Томас Карлейль
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 72 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
Мало-помалу он ясно понял, что ему нигде не сыскать на этой земле покойного угла, для него нет более надежды на благополучие. Земной мир выбросил его из своей среды и обрек на скитание. Ничье живое сердце не полюбит его теперь. Ничто не может теперь смягчить его тяжкие страдания здесь, на земле.
Тем глубже, естественно, залегало в его душе представление о вечном мире, той внушающей благоговейный ужас действительности, на поверхности которой весь этот временный мир, с его Флоренциями и изгнаниями, мелькает лишь как легкий призрак. Флоренции ты больше не увидишь. Но ад, и чистилище, и небеса, их ты, конечно, узришь! Что Флоренция, Кан делла Скала, и мир, и жизнь, все вместе? Вечность – именно с нею, а не с чем другим связан ты и все сущее!
Великая душа Данте, не находившая себе пристанища на земле, уходила все более и более в этот страшный другой мир. Естественно, что все его мысли устремились к этому миру, как единственному, что было важно для него. Этот факт, воплощенный или невоплощенный, остается, безусловно, верным фактом для всех людей. Для Данте в то время он представлялся с научной достоверностью воплощенным в известном образе. Данте так же мало сомневался в существовании омута Злых Щелей74, что он лежит именно там, со своими мрачными кругами, alti guai75, и он сам мог бы все это видеть, как мы в том, что увидели бы Константинополь, если бы отправились туда. Долго Данте, преисполненный этой мыслью в своем сердце, питал ее в безмолвии и благоговейном страхе, пока наконец она, переполнив его, не вырвалась и не вылилась в «мистической неисповедимой песне». Таким образом, появилась эта его «Божественная комедия», самая замечательная из всех современных книг.
Для Данте мысль, что он, изгнанник, мог создать такое произведение и ни один флорентиец, вообще ни один человек, никакие люди не могли ни помешать ему, ни даже сколько-нибудь заметно облегчить его труд, – должна была представлять большое утешение. И он действительно по временам гордился им, как в том мы можем убедиться. Он отчасти понимал также, что это было великое произведение, величайшее, какое только человек мог создать. «Если ты следуешь за своей звездой – Se tu segui tua Stella» – так мог еще говорить самому себе этот герой в своей крайней нужде, забытый всеми. «Следуй своей звезде, ты не минуешь славной пристани!» Ему было, как оказывается и как мы можем легко себе представить, крайне трудно и мучительно писать свою книгу. Эта книга, говорит он, «отняла у меня силу многих годов». О да, она далась, всякое слово в ней далось страданием и тяжким трудом, – он трудился с суровой серьезностью, он не забавлялся. Его книга, как действительно большая часть хороших книг, была написана во многих смыслах кровью его сердца. Она, эта книга, представляет полную историю его собственной жизни. Окончив ее, он умер. Он не был еще слишком стар: ему было всего 56 лет. Он умер от разрыва сердца, как говорят. Прах его покоится в том городе, где он умер, Равенне, с надписью на гробнице: «Hie claudor Dantes patriis extorris ab oris». Сто лет тому назад флорентийцы просили возвратить им этот прах, но Равенна не согласилась. «Здесь покоюсь я, Данте, изгнанный с моих родных берегов».
Поэма Данте, как я сказал, это – песнь. Тик76 называет ее «мистической неисповедимой песнью», и таков в буквальном смысле характер ее. Колридж77 весьма дельно замечает в одном месте, что во всякой мысли, музыкально выраженной надлежащей рифмой и мелодией, вы найдете известную глубину и смысл. Ибо тело и душа, слово и мысль – здесь, как и повсюду, – связаны каким-то странным образом.
Песнь! Мы сказали выше, что песнь представляет героическое в речи. Все древние поэмы, Гомера и другие, суть доподлинные песни. Строго говоря, я сказал бы, что таковы все истинные поэмы. Всякое произведение, которое не поется, собственно, не поэма, а лишь отрывок прозы, втиснутый в звучные стихи, к великому поношению грамматика и к великой досаде читателя в большинстве случаев! Все, что мы извлекаем из подобного произведения, это мысль, которую человек имел, если только он ее имел еще. Зачем же в таком случае он поднимал звон, раз он мог высказать свою мысль просто? Мы можем дать ему право рифмовать и петь лишь тогда, когда сердце его охвачено истинной страстью к мелодии и когда самые звуки его голоса, по замечанию Колриджа, становятся музыкальными благодаря величию, глубине и музыке его мыслей. Только тогда мы называем его поэтом и внимаем ему как герою-оратору, речь которого есть песнь. Многие домогаются этого. Для серьезного читателя чтение подобной песни, я не сомневаюсь, составляет прескучное занятие, чтобы не сказать несносное! Для подобной песни не существует никакой внутренней необходимости быть рифмованной: человеку следовало бы сказать нам просто, без всякого звону, в чем дело. Я советовал бы всем людям, которые могут просто высказать свою мысль, не петь ее. Я советовал бы им понять, что в серьезное время среди серьезных людей никто не нуждается в том, чтобы они пели ее. Действительно, насколько мы любим истинное пение, насколько нас чаруют его божественные звуки, настолько же нам ненавистно всякое фальшивое пение, и это последнее мы всегда будем принимать за пустой деревянный звук, за нечто глухое, поверхностное, совершенно неискреннее и оскорбительное.
Я воздаю Данте свою величайшую похвалу, когда говорю, что его «Божественная комедия» представляет во всех смыслах неподдельную песнь. В самом тоне ее чувствуется canto fermo78, звуки льются точно в песне. Самая простая Дантова terza rima79, конечно, только помогает ему достигать такого эффекта. Естественно, что «Божественную комедию» читают от начала до конца нараспев. Но, замечу я, иначе и быть не может, так как сущность самого произведения и материал, из которого оно сложено, сами по себе ритмические. Глубина, восхищенная страстность и искренность делают его музыкальным.
Всматривайтесь в вещи достаточно глубоко, и вы повсюду найдете музыку. Действительная внутренняя симметрия, то, что называют архитектурной гармонией, царит в нем и приводит все к должной пропорциональности. Архитектурная гармония – это то, чему также присуща музыкальность. Три царства, Ад, Чистилище и Рай, глядят одно на другое, подобно трем частям одного величественного здания. Это великий мировой собор, воздвигнутый там, в сверхчувственных сферах. Собор суровый, торжественный, грозный. Таков Дантов мир душ! По существу, это самая искренняя из всех поэм, а искренность мы считаем и в данном случае мерилом достоинства. Она вышла из самой глубины сердца ее творца и проникает глубоко в наши сердца и в сердца длинного ряда поколений.
Жители Вероны, встречая Данте на улице, обыкновенно говорили: «Eccovi l’uom ch’e stato all’ Inferno – Глядите, вот человек, побывавший в Аду!» О да, он был в Аду, в настоящем Аду. Он в течение долгого времени выносил жестокую скорбь и боролся. Всякий человек, подобный ему, также бывал, конечно, там, в Аду. Комедии, которые становятся божественными, иначе не пишутся. Разве мысль, истинный труд, самая высочайшая добродетель – не порождение страдания? Истинная мысль возникает как бы из черного вихря. Действительное усилие, усилие пленника, борющегося за свое освобождение, – вот что такое мысль. Повсюду нам приходится достигать совершенства путем страдания. Но, говорю я, ни одно из произведений, известных мне, не отделано так тщательно, как эта поэма Данте. Она вся как бы вылилась из раскаленного добела горнила его души. Она «отнимала силы» у него в течение многих лет. И не только общие очертания поэмы таковы. Нет, всякая частность в ней исполнена с величайшей старательностью, доведена до полной правдивости, совершенной ясности. Все здесь находится в строгом соответствии. Каждая черточка – на своем месте, точно мраморный камень, аккуратно высеченный и отполированный. Здесь, в этой поэме, ее рифмах, для всех воочию запечатлелся навеки дух Данте, а вместе с тем и дух Средних веков. Нелегкая задача, требующая поистине чрезмерного напряжения, но задача уже исполненная!..
Можно сказать, что напряженность со всеми ее атрибутами составляет характерную черту Дантова гения. Данте выступает перед нами не как обширный всеобъемлющий ум, а скорее как узкий, однонаправленный ум, что обусловливается отчасти современной ему эпохой и его положением, отчасти же его собственным характером. Вся мощь его духа сконцентрировалась в огненную напряженность и ушла вглубь. Он велик, как мир, не потому, что он обширен, как мир, а потому, что он проникает все предметы, так сказать, до самого их существа. Я не знаю ничего, в чем бы обнаружилась такая напряженность, какой отличался Данте.
Посмотрите, например (я начинаю с внешнего развития его напряженности), посмотрите на то, как он рисует. Он обладает громадной проницательной силой. Он схватывает истинный образ всякого предмета, представляет его вашим взорам, и больше ничего. Вы помните это первое описание, которое он дает гробницам Дита80: красная вершина, докрасна накаленный конус железа, пылающий среди невообразимого мрака, – как все это ярко, отчетливо, ясно. Один взмах – и картина запечатлевается навсегда. Приведенное описание может служить как бы эмблемой всего гения Данте. Он отличается краткостью и точностью в своих отрывочных описаниях. Тацит81 не превосходит его краткостью и сжатостью, и притом сжатость у Данте является природной, самопроизвольной. Одно поразительное слово, и затем молчание, – говорить более нечего. Его молчание красноречивее слов.
Удивительно, с какой проницательностью, грацией, решительностью он всюду схватывает истинный образ вещей, он точно рассекает их своим огненным пером. Плутус, бахвалящийся гигант, съеживается от укора Вергилия, «как спадают паруса, когда разбита мачта». Или этот несчастный Брунетто Латини с cotto aspetto, «обожженным лицом», высохший, почерневший и истощенный; «дождь пламени», падающий на них, «как снег в безветрии», падающий медленно, беспрепятственно, без конца! Или крышки у этих гробов, четырехугольные саркофаги в молчаливой полуосвещенной зале и в каждом – своя мучающаяся душа. Крышки пока сняты, они будут заколочены навеки в день Страшного суда. И как поднимается Фарината и как падает Кавальканте, услышав имя своего сына, сопровождаемое прошедшим временем – «те»82! Сами движения у Данте отличаются быстротой: скорые, решительные, почти военные. Такая особенность в обрисовке обусловливается внутренним существом его гения. Во всем этом чувствуется сама огненная, подвижная натура итальянца, столь молчаливая, столь страшная, с ее быстрыми и внезапными движениями, молчаливым «бледным бешенством».
Хотя искусство изображать, рисовать принадлежит к внешним проявлениям человека, однако оно, как и все остальное, находится в самой тесной связи с его существеннейшими дарованиями. Оно представляет как бы физиономию всего человека. Найдите человека, слова которого рисуют вам образы, – вы обретете человека, заслуживающего кое-чего. Обратите внимание на его манеру изображать – она весьма характерна для него. Прежде всего он не мог бы совершенно распознать предмета, схватить его типичных особенностей, если бы не питал к нему, так сказать, симпатии, не переносил своих симпатий на предметы. Необходимо также, чтоб он был искренен. Искренность и симпатия: ничего не стоящий человек не может вовсе обрисовать предмета. Он живет по отношению ко всем предметам в каком-то опустошенном пространстве, ограничивается лживыми избитыми фразами. В самом деле, разве мы не можем сказать, что ум человека обнаруживается вполне в этом умении распознавать, что такое предмет? Все способности человеческого духа выступают в данном случае на сцену. Все равно, даже если это касается поступков, того, что должно быть сделано. Одаренным человеком считается тот, кто видит самое существенное и оставляет все остальное в стороне как малозначительное. Такова также и отличительная способность человека дела, благодаря ей он распознает истинные очертания от ложных, поверхностных в том предмете, которым он занят.
И как много нравственного элемента вносим мы в наши воззрения и отношения к внешнему миру: «Глаз видит во всех вещах то, что внушает ему способность видеть!» Для низкого глаза все представляется пошлым, совершенно так же, как для больного желтухой все окрашивается в желтый цвет. Рафаэль, говорят нам живописцы, остается до сих пор самым лучшим портретистом. Да, но никакой глаз, какими бы высокими достоинствами он ни отличался, не может исчерпать всего содержания, таящегося в данном предмете. В самом заурядном человеческом лице остается кое-что такое, чего сам Рафаэль не может выявить у него. Искусство Данте отличается не только выразительностью, сжатостью, правдивостью, живительностью, подобно огню в темную ночь. Если мы подойдем к нему и с более широким масштабом, то убедимся также, что оно благородно во всех отношениях, оно – продукт великой души. Франческа и ее возлюбленный – как много возвышенного в их любви! Этот образ словно соткан из цветов радуги на фоне вечной ночи. Точно слабый звук флейты слышится вам бесконечно жалобный звук и проникает в самые тайники вашего сердца. Вы чувствуете в нем также дыхание истинной женственности: «della bella persona, che mi fu tolta»83. Какое это утешение даже в пучине горя, что он никогда не расстанется с нею! Печальнейшая трагедия этих alti guai! И бурные вихри, в этом aere brano84, снова уносят их прочь, и так они вечно стонут!
Странно, когда подумаешь: Данте был другом отца этой бедной Франчески. Сама Франческа, невинный прелестный ребенок, сидела, быть может, не раз на коленях у поэта. Бесконечное сострадание и вместе с тем столь же бесконечная суровость закона: так создана природа, такой она представлялась духовному взору Данте. Какое пошлое ничтожество обнаруживают те, кто считает его «Божественную комедию» жалким, желчным, бессильным пасквилем на дела мира сего, пасквилем, в котором Данте будто бы посылает в преисподнюю тех, кому он не мог отомстить здесь, на земле!
Я думаю, что если сердце мужчины питало в себе когда-либо жалость столь нежную, как жалость матери, так это было именно сердце Данте. Но человек, не знающий суровости, не может знать также, что такое жалость. Жалость такого человека всегда будет трусливой, эгоистической, сентиментальной или ненамного лучше. Я не знаю в мире любви, равной той, какую питал Данте. Это была сама нежность, трепещущая, страстно желающая, сострадающая любовь, подобная жалобному плачу эоловых арф; мягкая, подобно юному сердцу ребенка. Вместе с тем это суровое, горем удрученное сердце! Его страстное стремление к своей Беатриче; их встреча в Раю; его пристальный взор, устремленный в ее чистые, просветленные глаза, глаза просиявшие, не видавшие уже его так долго, – все это можно сравнить с пением ангелов. Из всех чистейших выражений любви это, быть может, самое чистое, какое только когда-либо выливалось из человеческого сердца.
Напряженный Данте обнаруживает напряженность во всем. Он всюду проникает в самую суть вещей. Его интеллектуальная прозорливость как художника, а при случае и как мыслителя есть лишь проявление его силы во всех других отношениях. Прежде всего мы должны признать его великим в нравственном отношении, что составляет основу всего. Его презрение, его скорбь столь же возвышенны, как и его любовь. Действительно, что такое это презрение, эта скорбь, как не оборотная сторона его любви, вывернутая наизнанку та же его любовь?
«A Dio spiacenti ed a’nemici sui – ненавистный Богу и врагам Бога». Вы слышите гордое презрение, неумолимое, спокойное осуждение и отвращение. «Non ragionam di lor – мы не станем говорить о них, мы лишь взглянем и пройдем». Или вдумайтесь в это: «они не питали надежды на смерть – non han speranza di morte». Настал день, когда для истерзанного сердца Данте представилась истинным, хотя и суровым благодеянием мысль о том, что он, несчастный, истомленный скиталец, неизбежно должен умереть. «Даже сама судьба не могла бы осудить его на то, чтобы он продолжал существовать вечно, не умирая». Вот какие слова вырываются у этого человека. По строгости, серьезности, глубине нет никого равного ему в новейшей эпохе, и только в еврейской Библии, среди ветхозаветных пророков, мы можем найти фигуры, могущие выдержать сравнение с ним.
Я не согласен со многими современными критиками, ставящими «Ад» значительно выше двух других частей «Божественной комедии». Такое предпочтение, мне кажется, обусловливается нашей всеобщей склонностью к байронизму и представляет собою, по-видимому, преходящее явление. «Чистилище» и «Рай», в особенности первое, по моему мнению, стоят выше «Ада».
Прекрасная вещь – это Чистилище, «гора очищения», эмблема возвышенной мысли того времени. Если грех так фатален, если Ад так суров, так страшен, если он таким и должен быть, то только в покаянии человеку остается еще возможность очиститься. Покаяние есть великий христианский акт. Как прекрасно Данте изображает его! «Tremolar dell’onde»85! Это «трепетание» морской волны при первом пробуждении дня, бросающего свои чистые косые лучи на двух скитальцев, представляет как бы прообраз изменившегося настроения духа. Заря надежды уже взошла, надежды, никогда не умирающей, хотя и сопровождаемой еще тяжелой скорбью. Мрачная обитель демонов и отверженных уже пройдена. Тихое дыхание раскаяния поднимается все выше и выше, к трону самого Милосердия. «Молись за меня», – говорят ему все обитатели горы страдания. «Скажи моей Джованне, пусть она молит обо мне, моей дочери Джованне»; «я думаю, мать ее уж не любит меня более!» С большим трудом поднимаются кающиеся по этой идущей спиралью крутизне, согбенные, как кариатиды здания, иные почти придавленные грехом гордости. Тем не менее пройдут многие годы, века и зоны, и они обязательно достигнут вершины, которая представляет врата неба, и благодаря Милосердию будут допущены туда. Все радуются, когда кто-либо достигает своей цели. Вся тора сотрясается от восторга, и раздается хвалебное псалмопение, когда душа совершит свой путь покаяния и оставит позади себя свой грех и свое страдание! Я называю все это благородным воплощением истинно благородной мысли.
Но в действительности все три части «Божественной комедии» взаимно поддерживают одна другую и немыслимы одна без другой. «Рай», эта своего рода невыразимая музыка, по моему мнению, является необходимым дополнением к «Аду»: без него последнему недоставало бы правдивости. Все три части вместе образуют настоящий невидимый мир, как его рисовали христиане Средних веков. Мир, вечно памятный, навеки истинный в своей сущности для всех людей. Ни в чьей, быть может, иной человеческой душе он не был запечатлен так глубоко, с такой правдивостью, как в душе Данте, посланного воспеть его и сделать его надолго памятным людям.
Замечательна в высшей степени та естественность, с какой Данте переходит от повседневной реальности к невидимой действительности. Уже со второй или третьей строфы он переносит вас в мир духов, где вы чувствуете себя, однако, как среди осязаемых, несомненных предметов. Для Данте они были действительно осязаемы. Так называемый же реальный мир со своими явлениями составлял лишь преддверие другого мира, с другими явлениями, бесконечно более возвышенного. В сущности, и тот и другой были одинаково сверхъестественными мирами. Разве не всякий человек имеет душу? Человек не только станет духом, но он есть дух. Для серьезного Данте это единственный видимый несомненный факт. Он верит в него. Он видит его, поэтому-то он и является его поэтом. Искренность, повторяю я, – благороднейшее достоинство, теперь и всегда.
Дантовы Ад, Чистилище и Рай суть вместе с тем символы, эмблемы его верований относительно вселенной. Какой-нибудь критик будущего века, подобно современным критикам скандинавских саг, мыслящий уже совершенно иначе, чем мыслил Данте, примет также, быть может, все это за аллегорию, даже за пустую аллегорию! А между тем «Божественная комедия» – возвышенное воплощение христианского духа. В необъятных, так сказать, мирообъемлющих архитектурных очертаниях она рисует нам, каким образом христианин Данте представлял себе добро и зло как два полярных элемента этого мира, вокруг которых все вращается. Каким образом он представлял себе, что эти элементы различаются не по предпочтительности одного из них перед другим, а по своей абсолютной и бесконечной несовместимости. Одно прекрасно и высоко, как свет и небо, а другое – отвратительно и черно, как геенна и пучина Ада! Вечное правосудие! Да, но есть место также покаянию, вечному милосердию.
Все христианство, как исповедовали его Данте и Средние века, воплощено здесь в образах. И однако, как я уже указывал выше, воплощено с глубочайшей верой в действительность, без малейшего помышления о какой бы то ни было символизации. Ад, Чистилище, Рай – все это было создано вовсе не как эмблемы. Разве возможна была в ту пору хотя бы малейшая мысль о том, что все это эмблемы! Не представляли ли Ад, Чистилище, Рай несомненных, поражавших ужасом явлений; не признавал ли их тогда человек всем своим сердцем действительной истиной, не находилась ли сама природа повсюду в полном согласии с ними? Так всегда бывает в подобных делах. Люди не верят в аллегорию. Будущий критик, каково бы ни было его новое миросозерцание, сделает прискорбную ошибку, если станет рассматривать это произведение Данте как всего лишь аллегорию.
Мы уже признали, что язычество представляло правдивое выражение действительного чувства человека, пораженного ужасом при созерцании природы, – правдивое, некогда истинное и до сих пор не утерявшее еще для нас всего своего значения. Но обратите теперь внимание на различие между язычеством и христианством: оно немалое. Язычество символизировало главным образом деятельные силы природы – судьбы, усилия, соединения и превратности людей и вещей в этом мире. Христианство – закон человеческого долга, нравственный закон человека. Одно имело отношение к чувственной природе – грубое, беспомощное выражение первой мысли человека, когда главной добродетелью признавалась отвага, господство над страхом. Другое же было связано не с чувственной природой, а с нравственной. Какой громадный прогресс обнаруживается в этой разнице, если взглянуть на дело хотя бы только с одной указываемой мною стороны!
Итак, в Данте, как мы сказали, десять пребывавших в немоте веков чудным образом нашли себе выражение. «Божественная комедия» написана Данте, но в действительности она – достояние десяти христианских веков. Ему принадлежит лишь окончательная отделка ее. Так всегда бывает. Возьмите ремесленника – кузнеца с его железом, с его орудиями, навыками и искусством, – как мало во всем том, что он делает, принадлежит собственно ему, его личному труду! Все изобретательные люди прошлых времен работают здесь же, вместе с ним, как работают они в действительности вместе со всеми нами во всяких наших делах. Данте – это человек, говорящий от лица Средних веков. Мысль, которой он жил, звучит и льется из его уст бессмертной музыкой. Все эти возвышенные идеи Данте, ужасные и прекрасные, суть плоды размышлений в духе христианства всех добропорядочных людей, живших до него. Дороги они для человечества, но разве и он также не дорог? Не будь его, многое из того, что он сказал, так и осталось бы невысказанным, конечно, не мертвым, но пребывающим в немоте.
В конце концов, разве эта мистическая песнь не служит одновременно выражением и одного из величайших человеческих умов, какой только существовал когда-либо, и одного из величайших деяний, какое только Европа совершила сама по себе до сих пор? Христианство, как его воспевает Данте, это уже нечто совершенно иное, чем язычество грубых скандинавов. Иное, чем ислам – «побочная ветвь христианства», – полуотчетливо провозглашенный в Аравийской пустыне семь веков тому назад! Самая благородная идея, какая только до сих пор была осуществлена среди людей, воспетая и воплощенная в непреходящие образы одним из благороднейших людей, – вот что такое произведение Данте. Разве мы не имеем права действительно гордиться тем, что обладаем им, гордиться воспеваемым деянием и воспевающим поэтом? Я думаю, что произведение это будет жить еще в течение долгих тысячелетий. Ибо то, что выливается из глубочайших тайников человеческой души, не имеет ничего общего с тем, что утверждается внешним образом, от легкого сердца.
Внешнее принадлежит минуте, находится во власти моды. Внешнее проходит в быстрых и бесконечных видоизменениях. Внутреннее же всегда остается одним и тем же – вчера, сегодня и вечно. Правдивые души всех поколений мира, глядя на Данте, найдут в нем нечто братски-родственное себе. Глубокая искренность его мыслей, страдания и надежды найдут себе отклик в их искренности. Они почувствуют, что этот Данте – также и им родной брат.
Наполеон на острове Святой Елены восхищался жизненной правдивостью старого Гомера. Самый древний еврейский пророк, несмотря на внешние формы своей речи, столь отличные от нашей, неизменно, до сих пор, проникает в сердца всех людей. Он говорит действительно от полноты своего человеческого сердца. Таков один-единственный секрет остаться надолго памятным людям. Данте по глубине своей искренности похож именно на такого древнего пророка. Его речь, так же как и речь ветхозаветного пророка, льется из самой глубины сердца. Не было бы ничего удивительного, если бы кто-нибудь стал утверждать, что его поэма окажется самым прочным делом, какое только Европа совершила до сих пор. Ибо ничто не обладает такой долговечностью, как правдиво сказанное слово.
Все соборы, величественные сооружения, медь и камень, всякое внешнее строительство, как бы прочно оно ни было, недолговечны по сравнению с такой недосягаемо-глубокой, сердечной песнью, как эта Дантова песнь. Каждый человек как бы чутьем понимает, что она переживет многие и многие поколения и сохранит свое значение для людей даже в то время, когда все другое расплывется в новых неведомых комбинациях и индивидуально перестанет существовать. Многое создала Европа: многолюдные города, обширные государства, энциклопедии, верования, теоретические и практические кодексы. Но много ли она создала произведений в том роде, к которому относится мысль Данте? Гомер существует до сих пор; он действительно становится лицом к лицу с каждым из нас, с каждым, у кого только может раскрыться душа. А Греция – где она? Подвергаясь в продолжение тысячелетий опустошениям, она прошла, исчезла. Она превратилась в беспорядочную груду камней и мусора. Ее жизнь и существование навсегда улетели от нас, как мечта, прах царя Агамемнона. Греция была. Греции нет более; она осталась только в словах, сказанных ею.
Какая польза от Данте? Мы не станем распространяться слишком много о его «полезности». Человеческая душа, которая хотя бы один раз погружалась в первоначальные недра песни и воспевала вынесенное ею оттуда надлежащим образом, проникает тем самым в глубины нашего существования. Она питает в продолжение долгого времени жизненные корни всех возвышенных свойств человеческих. Питает таким образом, что всякие «пользы» со своими выкладками совершенно бессильны помочь нам разобраться в этом. Мы не измеряем значения солнца тем количеством светильного газа, какое сберегается благодаря ниспосылаемому им свету. Данте должно считать или неоценимым, или же не имеющим никакой цены.
Одно замечание я хочу еще сделать по поводу контраста в этом отношении между героем-поэтом и героем-пророком. Арабы Магомета в какие-нибудь сто лет прошли от Гранады до Дели. Итальянцы же Данте до сих пор, по-видимому, остаются на том же самом месте, где и были. Можем ли мы сказать, однако, что воздействие Данте на мир было сравнительно ничтожно? Конечно, нет. Арена его деятельности значительно ограниченнее, но в то же время она несравненно благороднее, чище. Не только не менее, но, быть может, значительно более важна. Магомет обращается к громадным массам людей с грубой речью, приспособленной к его аудитории. Речью, наполненной несообразностями, дикостями и глупостями: он может действовать только на большие массы и подвигает их на доброе и злое, странным образом взаимно перепутанное. Данте же обращается к тому, что есть благородного, чистого, великого во все времена и во всех местах. И он не может устареть так, как устарел Магомет. Данте горит, как чистая звезда, утвержденная там, на тверди небесной, от которой воспламеняется все великое и возвышенное всех веков. Он будет достоянием всех избранников мира на бесконечно долгое время. Данте, всякий согласится, надолго переживет Магомета. Таким образом, равновесие восстанавливается.
Но во всяком случае, человек и его дело измеряются не тем, что называется их влиянием на мир, не тем, как мы судим об этом влиянии. Влияние? Воздействие? Польза? Пусть человек делает свое дело. Результат же составляет предмет заботы иного деятеля. Последствия обнаружатся, а как скажутся они – в виде ли тронов халифов, арабских завоеваний, которыми «заполняются все утренние и вечерние газеты» и все истории, представляющие, в сущности, те же дистиллированные газеты, или же вовсе не в таком виде, – что в том? Не это составляет действительные последствия того или иного дела!
Арабский халиф если и значил что-либо, то лишь постольку, поскольку он сделал что-нибудь. Если великое дело человечества и работа человека здесь, на земле, ничего не выиграли от арабского халифа, в таком случае совершенно не важно, как часто он обнажал свои сабли, какую захватывал добычу, насколько основательно набил свои карманы золотыми монетами, какое смятение и шум произвел в этом мире. Он был всего лишь медь звенящая, пустота и ничтожество, в сущности, его даже вовсе не было. Воздадим же еще раз хвалу великому царству молчания, этому беспредельному богатству, которым мы не можем позвякивать в своих карманах, которого мы не высчитываем перед людьми и не выставляем напоказ! Молчание, быть может, самое полезное из всего, что каждому из нас остается делать в эти чересчур звонкие времена.
Как Данте был послан в наш мир, чтобы воплотить в музыкальной форме религию Средних веков, религию нашей современной Европы, ее внутреннюю жизнь, так Шекспир явился для того, чтобы воплотить внешнюю жизнь Европы того времени с ее рыцарством, утонченностями, весельем, честолюбием. Воплотить, одним словом, то, как люди практически тогда думали и действовали, как практически они относились тогда к миру. И если мы, руководствуясь Гомером, можем в настоящее время воспроизвести себе Древнюю Грецию, то наши потомки, руководствуясь Шекспиром и Данте, по прошествии целых тысячелетий все еще в состоянии будут отчетливо представить себе, какова была наша современная Европа по своим верованиям и в своей действительной жизни.