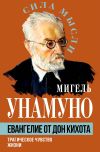Текст книги "Герои, почитание героев и героическое в истории"

Автор книги: Томас Карлейль
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 72 страниц)
Таким образом, для Роберта все условия сложились крайне неблагоприятно: он был лишен образования, беден и самим рождением своим обречен на тяжелый физический труд. Он даже писал, когда пришло время, на местном крестьянском наречии, известном только среди незначительной группы населения той местности, где он жил. Если бы он написал даже только то, что он написал на общелитературном английском языке, то, я нисколько не сомневаюсь, он был бы признан уже всем светом одним из наших величайших людей. Или по крайней мере за человека, который носил в себе все задатки истинного величия. Уже одно то, что он заставил массу читающего люда освоиться с грубыми формами своего языка, говорит в его пользу. Значит, в его речах заключается нечто, далеко выходящее из ряда обыкновенного. Он завоевал себе уже некоторую известность и продолжает все больше и больше завоевывать ее во всех частях обширного англосаксонского мира. Повсюду, где раздается английская речь, начинают понимать, что одним из замечательнейших саксонцев в XVIII веке был эйрширский крестьянин по имени Роберт Бернс. Да, скажу я, он также высечен из настоящего саксонского камня: крепкий, как скала Гарца, он прочно сидит своими корнями в глубинах мира, – как скала, и однако он таит в себе источники жизненной мягкости! Дикий и бурный вихрь страсти и силы дремлет спокойно в его сердце, и в нем раздается такая чудная небесная мелодия. Перед вами благородная, грубая неподдельность, простая, крестьянская, открытая. Простота настоящей силы, с ее огнем-молниею, мягкой, росистой жалостью, точно древнескандинавский Тор, этот крестьянин-бог!
Брат Бернса Гильберт, человек, обладавший недюжинным здравым смыслом и большими достоинствами, рассказывал мне, что Роберт в дни своей юности, как тяжелы они ни были, отличался крайне веселым нравом. Он был товарищем в бесконечных проказах, любил посмеяться и притом смеялся всегда умно и сердечно. В особенности прелестны были его разговоры между делом, когда он, раздевшись, резал торф в болоте и т. п.; впоследствии он был уже не тот. Я вполне верю словам Гильберта. Эта веселость, лежащая в основании всего (fond gaillard133, как выражался старый маркиз Мирабо), основной элемент солнца и жизни, в соединении с другими глубокими и серьезными достоинствами Бернса, представляет одну из самых привлекательных характерных его черт. В нем таился громадный запас надежды. Несмотря на свою трагическую жизнь, он вовсе не был мрачным человеком. Он мужественно отряхивает с себя свои печали и победоносно шагает через них. Он точно лев, «стряхивающий капли росы со своей гривы»; быстро скачущая лошадь, которая смеется, когда потрясают копьем. Но разве подобного рода надежда, веселость не проистекает на самом деле из теплой, благородной любви, которая есть первоисточник всего остального по отношению ко всякому человеку?
Вам покажется, быть может, странным, что я назвал Бернса самым одаренным британцем XVIII века. Однако я верю, что настает уже время, когда подобное утверждение можно высказать, не рискуя особенно сильно. Его произведения, все, что он сделал при указанных мною тяжелых условиях, представляют лишь ничтожную долю его самого. Профессор Стюарт заметил весьма справедливо, и это замечание остается верным относительно всякого заслуживающего внимания поэта: его поэзия есть проявление не какой-либо частной способности, а вообще оригинального, сильного от природы ума, вылившегося в такой именно форме. О таланте Бернса, насколько он обнаруживался в беседе, рассказывают все, кому только приходилось слышать его хотя бы раз. Это был в высшей степени разносторонний талант, начиная с самых изящных выражений благовоспитанности до самого пламенного огня страстной речи. Шумные потоки веселья, нежные вздохи страсти, лаконичная выразительность, ясный проникающий взгляд – все было в нем. Остроумные леди восхваляют его как человека, от речей которого «они не чувствовали под собою ног».
Все это прекрасно; но еще прекраснее то, что рассказывает Локхарт134 и на что я указывал уже не один раз, а именно, как слуги и конюхи на постоялых дворах поднимались с постелей и сходились толпами, чтобы также послушать его. Слуги и конюхи: они тоже были люди, и он ведь был человек! Я много слышал рассказов относительно неотразимой увлекательности его бесед. Но самое лучшее, что мне когда-либо приходилось слышать на этот счет, я узнал в прошедшем году от одного почтенного человека, находившегося в течение долгого времени в близких отношениях с Бернсом, а именно, что речь Бернса была всегда содержательна: она всегда заключала в себе что-нибудь! «Он говорил скорее мало, чем много, – рассказывал мне почтенный старый человек, – он больше молчал в раннюю пору своей жизни, как бы чувствуя, что он находится в обществе лиц, которые выше его. Если он начинал говорить, то всегда только для того, чтобы пролить новый свет на вопрос». Я не знаю, почему это люди говорят обыкновенно совершенно по иным побуждениям. Но обратите внимание на его могучую и сильную во всех отношениях душу, здоровую крепость, грубую прямоту, проницательность, благородную отвагу и мужество, и вы согласитесь, вряд ли мы можем указать на другого, более одаренного человека.
Мне иногда кажется, что из всех великих людей XVIII века Бернс, по-видимому, более всего походит на Мирабо. Конечно, они сильно отличаются друг от друга по своему внешнему облику, но загляните к каждому из них в душу. Здесь одна и та же дюжая, толстовыйная сила как души, так и тела; сила, покоящаяся в обоих случаях на том, что старый маркиз назвал fond gaillard. По своему воспитанию, натуре, а также и национальности Мирабо отличается гораздо большею шумливостью; это – бурливый, беспрестанно стремящийся вперед, беспокойный человек. Но характерную черту Мирабо составляет, в сущности, та же правдивость и то же горячее чувство, сила истинной проницательности, превосходство умственного зрения. То, что он скажет, стоит всегда запомнить: это – луч, бросаемый из глубины внутреннего созерцания на тот или другой предмет. Так именно говорили оба они – и Бернс, и Мирабо. У обоих – одни и те же бешеные страсти. Но в том и другом они могут проявляться и как самые нежные, благородные чувства. Остроумие, неудержимый смех, энергия, прямота, искренность – все это мы находим как в одном, так и в другом.
Нельзя также сказать, чтобы они были несходны как известные типы. Бернс так же мог бы управлять, дебатировать в национальных собраниях, заниматься политикою, как могли бы это сделать далеко не многие другие. Увы, мужество, которое по необходимости должно было проявляться во взятии с боя занимавшихся контрабандою шхун в Сольвейском заливе, молчании перед массой тяжелых явлений, когда человеком овладевала одна невыразимая ярость и доброе слово было вовсе немыслимо! Это мужество могло бы также громко реветь против таких людей, как обер-церемониймейстер де Брезе135 и подобные ему, и дать себя почувствовать ощутимым для всех образом, управляя королевствами, руководя направлением целых навеки памятных эпох! Но они сказали ему укоризненно, они, его власти предержащие, сказали и написали ему: «Вы рождены для черного труда, а не для мысли». Нам нет никакого дела до вашей мыслительной способности, величайшей в нашей стране. Ваше дело – вымеривать бочки пива; для этого только вы нам и нужны. Весьма характерные слова. Они заслуживают упоминания, хотя мы знаем, как и что следует ответить на них. Как будто мысль, сила мышления, не представляет во все времена, местах и положениях именно то, что нужно миру!
Фатальный человек не является ли всегда немыслящим человеком, человеком, который не может мыслить и видеть, а может только идти ощупью, галлюцинировать и видеть природу вещей, над которыми он трудится, в ложном свете? Он видит ее в ложном свете, он не понимает ее, как мы говорим. Он принимает ее за одно, тогда как она – другое, и она оставляет его стоять подобно сущей пустоте! Таков фатальный человек, несказанно фатальный, раз судьба ставит его в первые ряды человечества. «Зачем сожалеть об этом? – говорят некоторые. – Сила плачевным образом не находит себе приложения в своей сфере; исстари это оказывалось так». Несомненно, и тем хуже для сферы, отвечу я. Сожаления мало помогут делу; установление истины – вот что только может помочь. Над Европой только что разразилась Французская революция, и, несмотря на это, она не испытывала никакой нужды в Бернсе. Он нужен был ей разве только для вымеривания бочек – это факт, которому я со своей стороны не могу радоваться.
Отличительную особенность Бернса как великого человека, повторяем еще раз, составляет его искренность, искренность как в поэзии, так и в жизни. В песне, которую он поет, нет фантастических вымыслов. Она касается всеми осязаемых, реальных предметов. Главное достоинство этой песни, как и всех его произведений, как и его жизни вообще, – истина. Жизнь Бернса мы можем характеризовать как воплощение великой трагической искренности. Это в своем роде дикая искренность, но не жестокая, далеко нет, искренность необузданная, вступающая без всякого прикрытия в рукопашный бой с сущностью вещей. В этом смысле все великие люди отличаются некоторого рода дикостью.
Поклонение героям: сопоставьте Одина и Бернса! Положим, относительно писателей также нельзя сказать, что они не составляли известного рода культа героев, но какой странный характер принял теперь этот культ! Слуги и конюхи с постоялых дворов, которые протискивались поближе к двери и жадно подхватывали всякое слово Бернса, бессознательно воздавали должную дань поклонению героическому.
Джонсон имел своего Босуэлла136 в качестве поклонника. У Руссо было довольно много поклонников. Принцы приходили посмотреть на него, как жил он на низком чердаке; вельможи и красавицы отдавали должную дань уважения бедному лунатику. Лично для него создавалось, таким образом, самое чудовищное противоречие: две стороны его жизни никак не могли быть приведены в гармонию. С одной – он сидит за столом у вельмож, обедает с ними, а с другой – принужден заниматься перепиской нот, чтобы заработать необходимые средства существования. Он не мог даже добыть себе достаточно нот для переписки. «Благодаря только обедам на стороне, – говорил он, – я избегаю риска умереть дома от голодной смерти». Положение, бросающее также в высшей степени подозрительный свет и на его почитателей! Если по поклонению героям, смотря по тому, какими достоинствами и недостатками отличается оно, мы должны судить вообще о жизни целого поколения, то можем ли мы поставить особенно высоко такого рода поклонение? И однако наши герои-писатели поучают, управляют, являются вождями, пастырями, являются тем, что предоставляю вам самим называть как угодно. И этому нельзя никоим образом помешать: нет такого средства. Мир должен повиноваться тому, кто мыслит и обладает достаточно проницательным зрением. Мир может изменять форму своего поклонения, он может сделать из героя или благословенное непреходящее сияние летнего солнца, или неблагословенный мрачный ураган и гром – с неизмеримо громадной разницей для самого себя в смысле последствий в том и другом случае. Форма, правда, крайне изменчива; но сущности, самого факта не может изменить никакая земная сила. Сияние света или молния во мраке – мир может выбирать то или другое. И дело не в том, называем ли мы какого-нибудь Одина богом, пророком, пастырем или как-либо иначе, а в том, верим ли мы слову, которое он возвещает нам; в этом все. Если слово его – истинное слово, мы должны поверить ему, а, уверовав, должны осуществить его. Какое имя мы дадим при этом или какую встречу уготовим человеку и его слову, это касается главным образом нас самих. Оно, это слово, новая истина, более глубокое раскрытие тайны вселенной, представляет по своей сущности воистину весть, ниспосылаемую нам свыше; она должна привести мир в повиновение себе, и она приведет.
В заключение скажу несколько слов о замечательном эпизоде в жизни Бернса: его поездке в Эдинбург. Я думаю, что его поведение в Эдинбурге представляет лучшее оставленное им свидетельство достоинства и неподдельного мужества, какие были ему присущи. Едва ли более тяжкие испытания (если мы вникнем в дело) могли выпасть на долю одного человека. Все это случилось так внезапно. Весь великосветский львизм, который губит бесчисленное множество людей, ничто по сравнению с необычайным успехом Бернса. Представьте себе, что Наполеон сразу, минуя всякие градации, из артиллерийского лейтенанта стал бы императором; таков именно был успех Бернса в великосветском обществе. Ему минуло всего лишь 27 лет, когда он принужден бросить свое пахарство и искать спасения в Вест-Индии, чтобы избежать позора тюрьмы. Вы видите перед собою разоренного крестьянина, потерявшего даже свои семь фунтов заработной платы в год. Но через месяц он уже среди блестящего, изящного высшего общества, водит под руку к обеденному столу усыпанных бриллиантами герцогинь; на него устремлены глаза всех! Невзгоды жизни с трудом переносятся людьми. Но на одного человека, способного противостоять счастью, приходится целая сотня способных противостоять несчастью.
Меня крайне поражает, как Бернс отнесся к своему необычайному успеху. Едва ли можно указать другого человека, который подвергался бы когда-либо таким беспощадным испытаниям и при этом забывался бы так мало. Он сохраняет все свое спокойствие, нисколько не поражается, не смущается, не становится напыщенным. Он не испытывает ни неловкости, ни аффектации. Он чувствует, что он и здесь человек, все тот же Роберт Бернс, что «ранг – это только штемпель гинеи», известность – всего лишь свет от свечи, показывающий, каков человек. Тогда как обыкновенно подобная известность быстро портит человека, превращает его в злополучный надутый ветром мех, который в конце концов лопается, – человек превращается в «мертвого льва», – нечто худшее, чем «живой пес», и уже для него, как некто сказал, «не существует воскресения тела»! Бернс поистине удивителен в этом случае.
Но к сожалению, как я заметил в другом месте, эти охотники на львов стали гибелью и смертью для Бернса. Они отравили ему жизнь и сделали ее несносной. Они собирались толпами на его ферме, постоянно отвлекали его, мешали ему заниматься делом. Для них не существовало пространства, и они везде находили его. Ему не давали позабыть об успехе в великосветском обществе, хотя он искренне желал этого. Бернс испытывает досаду, чувствует себя несчастным, делает ошибки. Мир становится для него все более и более пустынным. Здоровье, характер, душевный покой – все изнашивается, и затем он остается в одиночестве. Грустно подумать обо всем этом! Эти люди приходили, только чтобы посмотреть на него. Они не питали к нему ни симпатии, ни ненависти. Они приходили, чтоб доставить себе маленькое развлечение; и жизнь героя разменивалась на их удовольствия!
Рихтер137 рассказывает, что на острове Суматра существует особая порода жуков-светляков: их насаживают на острие, и они освещают путь в ночную пору. Лица, пользующиеся известным положением, могут путешествовать, таким образом, при достаточно приятном мерцании света, что немало веселит их сердца. Великая честь светлякам! Но!..
Беседа шестая Герой как вождь. Кромвель. Наполеон: современный революционаризм
Теперь мы переходим к последней форме героизма: герою в образе вождя. Человек, который становится повелителем других людей, воле которого все другие воли покорно предоставляют себя, подчиняются и находят в этом свое благополучие, такого человека мы можем считать по сущей истине величайшим из великих. Он практически, на деле воплощает в себе все разнообразные формы героизма: пастыря, учителя, вообще всякого рода земные и духовные достоинства, какие только мы можем себе вообразить в человеке. Воплощает, чтобы таким образом повелевать людьми, давать им постоянные практические наставления, указывать ежедневно и ежечасно, что они должны делать. Такого человека называют Rex, «правитель», Roi. Английское слово еще лучше выражает значение, присущее ему: King, Kцnning, что означает Canning Ableman, «способный человек».
Вопрос о правителе неизбежно вызывает массу связанных с ним мыслей, затрагивает глубокие, спорные и действительно неисчерпаемые сущности. Но мы в настоящую минуту, безусловно, принуждены воздержаться от какого бы то ни было обсуждения большинства их. Берк138 говорит, что гласное разбирательство посредством суда присяжных составляет, быть может, душу правительства. Законодательство, администрация, парламентские дебаты и все прочие направляются, в сущности, к тому, «чтобы посадить на скамью присяжных двенадцать беспристрастных судей». Я же, опираясь на еще более солидное основание, скажу, что все социальные процессы, какие вы только можете наблюдать в человечестве, ведут к одной цели – достигают ли они ее или нет, это другой вопрос, а именно: открыть своего Ableman’a. Облечь его символами способности: величием, почитанием как достойнейшего, саном короля, властелина или чем вам угодно, лишь бы он имел действительную возможность руководить людьми соответственно своей способности. Избирательные речи, парламентские предложения, билли о реформах, французские революции – все стремится, в сущности, к указанной мною цели или в противном случае представляется совершенно бессмысленным.
Отыщите человека самого способного в данной стране, поставьте его так высоко, как только можете, неизменно чтите его, и вы получите вполне совершенное правительство, и никакая избирательная урна, парламентское красноречие, голосование, конституционное учреждение, никакая вообще механика не может уже улучшить положение такой страны ни на йоту. Она находится в совершенном состоянии, она представляет собою идеальную страну. Способнейший человек – это означает также самый искренний, справедливый, благородный человек. То, что он указывает нам делать, является всегда самым мудрым, надлежащим делом, до какого только мы можем додуматься каким бы то ни было образом и где бы то ни было, – обязательным делом, которое мы должны делать, пуская в ход все зависящие от нас средства, с открытой доверчивостью и признательностью к своему руководителю, нисколько не сомневаясь в нем! Наши дела и наша жизнь, насколько вообще правительство может регулировать их, оказались бы тогда вполне упорядоченными; это был бы идеал конституций.
Но увы, мы очень хорошо знаем, что идеалы никогда в полной мере не осуществляются в действительности. Идеалы всегда должны оставаться на некотором довольно значительном расстоянии, и нам приходится довольствоваться известным приближением к ним и быть признательными за то! Пусть человек, как выражается Шиллер, не измеряет старательно в соответствии с масштабом совершенства жалкого мира реальности. Мы не признаем такого человека мудрым, считаем его болезненным, вечно брюзжащим, глупым человеком. Но с другой стороны, не следует никогда забывать, что идеалы должны существовать: если мы вовсе не будем к ним приближаться, то все погибнет! Несомненно, так! Самый искусный каменщик не может вывести стены совершенно вертикально, это математически невозможно. Он удовлетворяется известною степенью приближения к вертикали и, как хороший каменщик, понимающий, что он должен же когда-нибудь покончить со своею работою, оставляет ее в таком виде. Но что выйдет, если он позволит себе слишком отклониться от вертикального направления? В особенности если он забросит совсем свой отвес и ватерпас и станет беззаботно класть кирпич на кирпич, как они подвертываются ему под руку! Подобный каменщик, я полагаю, становится на опасный путь. Он забылся, но закон тяготения не забывает действовать, и вот работник и стена, возводимая им, превращаются в беспорядочную кучу развалин!
Такова, в сущности, история всех восстаний, французских революций, социальных взрывов в древние и новые времена. Во главе дела оказывается слишком неспособный человек, лишенный благородства, мужества, бестолковый. Люди как будто забывают, что существует известное правило или своего рода естественная необходимость, чтобы место это занимал способный человек. Кирпич должен лежать на кирпиче, насколько это возможно и необходимо. Неумелая подделка способности соединяется неизбежно с шарлатанством во всякого рода делах управления, дела остаются неупорядоченными, и общество приходит в брожение от бесчисленных упущений, нужд и бедствий. Миллионы несчастных протягивают руки, чтобы получить должную поддержку как в материальной, так и в духовной жизни, а ее нет. Закон тяготения действует, действуют все законы природы. Несчастные миллионы разражаются санкюлотизмом или каким-либо другим безумием: кирпичи рассыпаются, каменщики ниспровергаются и лежат поверженные в фатальном хаосе!
Целые груды злополучных фолиантов были исписаны сто лет и больше тому назад относительно незыблемости известных государственных форм; никто теперь не читает их, и они превращаются в прах в наших публичных библиотеках. Мы далеки от мысли нарушить мирный процесс их исчезновения с лица земли, совершающийся там, в этих книгохранилищах, безобидно для всех! Но в то же время, дабы весь этот непомерный мусор не исчез, не оставив по себе даже следа, я должен сказать, что он заключает в себе, если только мы заглянем в самую суть дела, действительно нечто истинное, ценное для нас и вообще для всех людей. Важно сохранить это истинное навсегда. Что делать нам с заключающимися в них рассуждениями о властителях и присущей им непогрешимости, как не оставить их гнить в безмолвии публичных книгохранилищ?
Но вместе с тем я утверждаю, и так именно, думается мне, эти люди понимали свое «божественное право», – они, как и все человеческие авторитеты и вообще всякие отношения, какие люди, Богом сотворенные, устанавливают между собою, отмечаются действительно печатью или божественного права, или дьявольского бесправия. То или другое! Ибо это совершенная ложь, будто бы, как поучал предыдущий скептический век, наш мир есть паровая машина. Существует Бог в мире, и божественная санкция должна таиться в недрах всякого управления и повиновения, лежать в основе всех моральных дел людских. Нет дела, связанного более тесно с нравственностью, чем дело управления и повиновения. Горе тому, кто требует повиновения, когда не следует! Горе тому, кто не повинуется когда следует! Таков божественный закон, говорю я, каковы бы ни были законы, писанные на пергаменте: в основе всякого требования, обращенного человеком к человеку, лежит божественное право или, иначе, дьявольское бесправие.
Каждому из нас следовало бы серьезнее подумать об этом. Повсюду в жизни нам приходится иметь дело с указываемым мною фактом, который в искренней преданности и истинном величии находит себе высочайшее выражение. Наше время глубоко заблуждается, полагая, будто бы все движется эгоистическими интересами, при помощи пружин и рычагов алчущего плутовства. Короче сказать, будто бы в союзе людей нет ровно ничего божественного. Я нахожу, что подобное заблуждение заслуживает большего презрения, как бы оно ни было естественно для века неверия, чем признание «непогрешимости» за людьми, именующими себя высшими авторитетами. Я утверждаю: укажите мне истинного Kцnning’a, или способного человека, и окажется, что он имеет божественное право надо мною. Исцеление, которого так жадно ищет наш болезненный век, зависит именно от того, знаем ли мы сколько-нибудь удовлетворительно, как найти такого человека, и склонны ли будут все люди признать его божественное право, раз он будет найден! Истинный Kцnning, как руководитель практической жизни, всегда представляет собою в известной степени также и первосвященника, руководителя духовной жизни, которая определяет собою в действительности все практические дела. Поэтому справедлива также мысль, что король есть глава Церкви. Но мы не станем перебирать всю эту полемическую материю, ставшую уже достоянием минувших веков; пусть она спокойно почивает в своих переплетах!
Конечно, поистине ужасное положение – стоять перед необходимостью отыскать своего способного человека и не знать, как это сделать! В таком именно печальном положении находится наш мир в настоящее время. Мы переживаем, собственно, критический период, который затянулся уж слишком надолго. Каменщик, переставший сообразовываться с показаниями отвеса и законом тяготения, упал, а вместе с ним рухнула стена, рассыпались кирпичи, и все это представляет теперь, как видим, груду развалин! Но не Французская революция ознаменовала начало всеобщего разрушения; она, мы можем надеяться, представляет скорее конец его. Начало же следует искать за три века ранее, в Реформации Лютера.
Католическая Церковь, продолжавшая все еще именовать себя христианскою, стала ложью и в своих наглых притязаниях дошла до того, что прощала людям грехи за металл, перечеканенный в деньги, и совершала много еще других злополучных деяний, которых по вечной истине природы она не должна была совершать тогда. Вот в чем кроется органический недуг. Раз была нарушена внутренняя правда, все внешнее стало все больше и больше проникаться неправдою. Вера замерла и исчезла. Повсюду воцарились сомнение и безверие. Каменщик отбросил прочь свой свинцовый отвес. Он сказал себе: «Что такое тяготение? Ведь вот кирпич лежит на кирпиче!» Увы, разве не звучит до сих пор для многих из нас как-то странно всякое утверждение, что делам людей, созданных Богом, присуща правда Божья, что человеческая деятельность вовсе не какое-то кривляние, «средство», дипломатия и, право, не знаю еще что!
Между словами Лютера: «Вы самозваные Папы, вы вовсе не представляете собою отца в Боге. Вы – химера, которую я не знаю, как назвать благопристойным образом», – словами, произнесенными в начале движения в силу роковой необходимости, и восклицаниями «Aux armes!»139, поднявшимися вокруг Камиля Демулена140 в Пале-Рояле, когда народ восстал против всевозможного рода химер, – я нахожу прямую историческую преемственность. Этот ужасный полуадский возглас «Aux armes!» был тем же историческим делом. Еще раз раздался голос, дававший знать, что жизнь – не призрак, а действительность. Божий мир – не «средство» и дипломатия! Адский возглас; да, потому что иного не хотели слышать; ни небесный, ни земной, и потому – адский! Пустота, неискренность должны сгинуть. Должна наступить наконец хоть какая-нибудь искренность. Мы должны возвратиться к истине, чего бы это ни стоило – наводящего страх правления, ужасов Французской революции или чего-то еще. Да, в этом есть истина, как я сказал, истина, объятая огнем преисподней, так как иначе ее не желали получить.
Среди солидных кругов в Англии и других местах бытует мнение, что французский народ в те дни словно бы впал в безумие, Французская революция явилась актом всеобщего сумасшествия, превратив на время Францию и значительную часть мира в разновидность бедлама. Это событие свершилось, отбушевало, а теперь, полагают они, безумие, абсурд благополучно отбыли в царство снов и фантазии. Для таких уютно себя чувствующих философов события трех дней июля 1830 года должны были стать неожиданностью. Они показали, что французский народ снова поднялся на смертельную борьбу, чтобы в огне ружейных залпов, стреляя друг в друга, совершить ту же безумную революцию! Сыновья и внуки тех людей, кажется, намерены были упорно продолжать свое дело и не скрывали этого. Они стремились осуществить его и готовы были дать себя застрелить, если бы оно не осуществилось! Для философов, основывающих свою систему на «теории безумия», не могло быть ничего ужаснее этого. Говорят, что бедный Нибур141, прусский профессор и ученый-историк, так сильно переживал, что, если этому можно верить, заболел и умер в те три дня! Это была бы не очень героическая смерть, не лучше, чем смерть Расина, вызванная тем, что Людовик XIV однажды мрачно взглянул на него. Мир за время своего существования выдержал столько сильных ударов, и мы можем ожидать, что он сможет пережить и эти три дня, а после снова вращаться вокруг своей оси! Три дня возвестили всем смертным, что прежняя Французская революция, какой бы безумной она ни выглядела, есть подлинный продукт той земли, где мы все живем, это было действительное событие, и миру, в общем и целом, следовало бы ее так и воспринимать.
В самом деле, без Французской революции мы вряд ли знали бы, что вообще надлежало делать с таким временем, как наше. Мы предпочли бы отнестись к Французской революции, как потерпевшие крушение мореплаватели к суровой скале, возвышающейся среди бездонного моря и бескрайних волн. Это настоящий, хотя и ужасный, апокалипсис (откровение) для этого изолгавшегося, поблекшего, искусственного времени. Апокалипсис, свидетельствующий еще раз, что природа – сверхъестественна. Если она не божественная, то дьявольская. Кажущееся не есть действительное. Кажущееся обязательно должно уступить место действительному, или иначе мир подложит под него огонь, сожжет и превратит его в то, что оно есть на самом деле – ничто! Всяким правдоподобностям настал конец, пустой рутине настал конец; многому настал конец. И вот все это было возвещено людям во всеуслышание, подобно трубному звуку в день Страшного суда. Изучите же по возможности скорее этот апокалипсис, и вы станете мудрейшими людьми.
Пройдут многочисленные поколения с омраченным сознанием, прежде чем он будет понят надлежащим образом, однако мирная жизнь невозможна, пока это не свершится! Серьезный человек, окруженный, как всегда, массой противоречий, может теперь терпеливо ожидать, терпеливо делать свое дело. Смертный приговор всему недействительному всегда и прежде был написан на небесах. Но теперь этот смертный приговор объявлен на земле: вот что он может видеть в настоящее время своими глазами. Такой человек, убеждаясь, с какими трудностями приходится иметь дело в данном случае и как быстро, страшно быстро во всех странах дает себя знать неумолимое требование разрешить их, – легко может найти себе иной, более подходящий труд, чем работа в настоящий момент в сфере санкюлотизма!
На мой взгляд, «поклонение героям» при таких обстоятельствах является фактом несказанно ценным, самым утешительным, на какой только можно указать в настоящее время. Он поддерживает и укрепляет вечную надежду человечества на упорядочение дел мира сего. Если бы погибли все традиции, организации, веры, общества, какие только человек создавал когда-либо, почитание героев все-таки осталось бы. Уверенность в том, что существуют герои, ниспосылаемые в наш мир, наша способность почитать их, необходимость, которую мы испытываем в этом отношении, – все это сияет, подобно Полярной звезде, сквозь густые облака дыма, пыли, всевозможного разрушения и пламени.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.