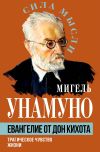Текст книги "Герои, почитание героев и героическое в истории"

Автор книги: Томас Карлейль
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 42 (всего у книги 72 страниц)
Впрочем, в сущности, цель и намерения маркиза отличались скорее простотой, чем сложностью. Габриель Оноре должен был сделаться таким же человеком, как и Виктор Рикетти, и достичь такого же совершенства – вот единственная мысль, которая в состоянии удовлетворить сердце нежного отца. Положим, что лучшего образца было трудно подыскать, а между тем бедный Габриель, в свою очередь, желал быть Габриелем, а не Виктором! Никогда еще у подобного черствого педанта не было такого живого и любящего ученика. А неприятности в доме тем временем увеличиваются: г-жа Пальи и верная прислуга принимают в них сильное участие. Домашний очаг омрачается, хозяйки нет; процессы, и в особенности процессы о разводе, начались. Дела принимают дурной оборот, и маркиз, тщетно потрясая своим семейным скипетром, видит, как хаос, подобный хаосу сумасшедшего дома, постепенно окружает его. Он черств, но сын и воспитанник его эластичен, любящ и почтителен.
Так, с одной стороны, принимаются жесткие меры, с другой – являются покорность, горячие слезы раскаяния, и нашему Алкиаду приходится долгое время бороться с трудом, возложенным на него судьбой, собственным демоном и Юноною Пальи.
Чтобы судить о том труде, который взял на себя бедный чадолюбивый маркиз, нужно прислушаться к его собственным отзывам о сыне, высказываемым им, в письме за письмом, своему доброму брату.
«Мальчик этот обещает сделаться превосходным субъектом. В нем много способностей, бездна остроумия, но немало и природных недостатков». – «Едва начал жить, а уж кровь бушует в нем. Упрямый, мечтательный, капризный ум, склонный козлу, хотя и не знает и не способен делать его». – «Возвышенное сердце под курточкою мальчика; инстинктивная гордость, но при этом благородство, задатки будущего бойца, готового, впрочем, уже в двенадцать лет проглотить весь мир». – «Необъяснимый тип пошлости, абсолютной плоскости и качеств грязной гусеницы, которой никогда не суждено летать». – «Ум, память, способности, которые поражают и даже пугают вас». – «Ничтожество, сшитое из диких прихотей; существо, способное, может быть, со временем морочить простоватых женщин, но неспособное ни на волос быть мужчиною». – «Этого мальчика можно назвать уродом; до сих пор он доказал только, что из него выйдет сумасшедший, – к нему перешли все дурные качества его матери. Так как у него много учителей и все, от духовника и до последнего товарища, передают мне все о нем, то я отлично знаю натуру этого зверя и не надеюсь, чтоб из нее вышло что-нибудь путное».
Одним словом, по мнению маркиза, пороки до такой степени развились в пятнадцатилетнем юноше, что отец решился, так или иначе, выпроводить его из дома. После различных предположений он наконец остановился на институте некоего аббата Шокнара. Непокорный юноша должен отправиться в Париж и там, под ферулой нового воспитателя, исправиться и образумиться. Так как имя Мирабо – имя честное и благородное, то, чтоб не замарать его, он не должен носить его, а называться Пьером Бюфьером до тех пор, пока не остепенится. Пьером Бюфьером называлось одно из имений его матери в Лимузене – прискорбный повод к тем процессам, которые наконец превратились в процессы о разводе. С этим печальным прозвищем Габриелю Оноре пришлось прожить немало лет, – его положение походило на положение солдата, которому в наказание обрили брови. А он был еще пятнадцатилетним рекрутом и слишком молод для такого наказания!
Но тем не менее как бы его ни называли, Пьером или Габриелем, он оставался тем, кем был. В институте Шокнара, как впоследствии в жизни, он развивает и выказывает способности, дарованные ему природой и которых не сбрить никакой бритве. Побочный сын сообщает целый список пройденных им наук и приобретенных знаний. Кроме древних языков Габриель изучал английский, итальянский, немецкий и испанский, страстно занимался математикой, рисованием, музыкой до такой степени, что даже умел аккомпанировать. Затем, в программу института входили пешая, верховая езда, танцы, плавание, игра в мяч. Если сообщаемое нам побочным сыном хоть наполовину справедливо, то и тогда мы не могли бы сказать, что Пьер Бюфьер употребил во зло свое время.
Известно, что опальный Бюфьер в скором времени в этом смирительном доме привязал к себе всех: его полюбили товарищи, учителя и даже сам аббат Шокнар. Недаром говорил чадолюбивый отец, что у него змеиный язык. И действительно, замечательно то обстоятельство, что лишь только бедный Бюфьер, граф Мирабо, Рикетти, или как бы ни называли его, сталкивался с людьми, даже предубежденными против него, как в короткое время привязывал их к себе. До самого конца его жизни никто, смотревший на него собственными глазами, не мог ненавидеть его. Разве он мог убедить людей? Да, любезный читатель, он мог не только убедить, но и действовать на них, – в том-то и заключалась вся тайна. Всякий понимает, что великая открытая душа человека, не сделавшая ничего пошлого или нечестного ни одному существу в мире, была братской душой, а человека тем более любят, чем более он сближается со своими собратьями, – разве это не факт из фактов? Если хочешь знать, в какой степени владеет человек дипломатическим умом (хорош ли он, индифферентен или дурен), то обратись к общественному мнению, журнальным сплетням или к лицам, с которыми он обедает. Но чтоб узнать его действительные достоинства, следует заглянуть глубже и спросить тех людей, которые его знают на опыте, – и если они даже ограниченные люди, то и тогда ответят дельно на твой вопрос. «Лица, находящиеся вдали от меня, – говорит Томас Браун, – судят обо мне хуже, чем я сам сужу о себе, мнение же лиц, живущих рядом со мной, лучше моего собственного мнения».
Так как институт Шокнара изменил своему назначению и перестал быть смирительным домом, то маркиз решил отдать сына в военную службу. По-видимому, безбожная мать тайком посылала ему деньги, и он, изменник, брал их! Пьер Бюфьер надел шишак на свою огромную голову, и его изуродованное оспой лицо приняло воинственный вид. Натянув поводья и обнажив палаш, он смело, как истый драгун, въезжает в город Сент. В это время ему было восемнадцать лет и несколько месяцев.
Жители Сента крепко полюбили его, предлагают ему деньги взаймы, – бери сколько хочешь! Начальник его, полковник Ламбер, был строгий, угрюмый человек, и лицо Бюфьера имело несчастье не понравиться ему. Кроме того, в Сенте служил полицейский чиновник, у которого была дочь, и этой глупой девчонке физиономия Бюфьера понравилась больше физиономии полковника. Нетрудно себе представить, каким искусным адвокатом явился Бюфьер в таком великом деле со своим змеиным языком. Это была его первая «страстишка», увенчавшаяся полным успехом, за которой последовал целый ряд неслыханных подвигов в этом же роде. Обиженный полковник позволил себе, за общим офицерским столом, несколько язвительных замечаний на счет Бюфьера, но Бюфьер был не такой человек, чтоб оставаться в долгу, вследствие чего возникли неприятные отношения между ними. Чтоб увенчать дело, Бюфьер, вопреки своему обыкновению, зашел в игорный дом и проиграл четыре луидора.
Нарушение дисциплины, дочь полицейского чиновника! Маркиз гремит из Биньона, Бюфьер бросает свой шишак и тайно бежит в Париж. Завязываются переговоры, в Сент посылается надежный шпион, идет переписка, Дюпон де Немур делается посредником между полковником и маркизом, которые беснуются с пеною у рта. Шпион собирает сведения и выводит «на чистую воду» все проказы Бюфьера. Что будешь ты делать, маркиз, с этим дьявольским сыном? Сошли его в Суринам, пусть тропические жары и дожди укротят его бешеный нрав, – подсказывает справедливое чувство чадолюбивого Брута и г-жи Пальи, но более снисходительные меры одерживают верх. Сначала прибегают к «Lettres de cachet» и ссылают бедного Бюфьера на остров Ре, куда отправляется он, но только не с дочерью полицейского, а со стражей, под шум падающих осенних листьев, в 1768 году, когда ему минуло девятнадцать лет. Это его второй геркулесовский подвиг, первым был институт Шокнара. Оплакиваемый Атлантическим океаном, он должен сидеть здесь зиму под надзором губернатора острова, по слухам, сущего Цербера.
В Ре повторяется прежняя игра. Через несколько недель Цербер делается другом Бюфьера и лает изо всей глотки в пользу его. Какой волшебной силой, маркиз, каким лицемерием и скрытностью обладает этот чудный юноша, что даже сам губернатор не может устоять против него? Не придется ли нам отправиться в суринамские болота, чтоб образумить его? К счастью, теперь война в Корсике. Паоло бьется из последних сил, и барон де Во требует свежих войск. Бюфьеру, которому это дело не совсем по сердцу, едет туда и сражается сколько может. Недурно бы было, если б ему удалось этой кампанией завоевать свое законное имя и хоть малейшее расположение отца. После многих просьб наконец его желание сбывается.
Бюфьер, в чине поручика, с лотарингским отрядом вступает в Тулон, – перед ним расстилается «равнина, которую не бороздит плуг», как описывает он океан. «Не пришлось бы юному поручику, Боже сохрани, когда-нибудь проехаться по этой равнине в красной шапке галерного невольника» – вот родительское благословение и желание, впоследствии осуществившееся. Прежде чем оставить Рошель, Бюфьер успел совершить новое преступление – затеял первую дуэль. Один из его товарищей, исключенный из службы за мошенничество, вздумал, при встрече на улице, возобновить с ним прежнее знакомство, но Бюфьер решился отказаться от подобного знакомства даже в том случае, если б ему навязывали его со шпагою в руке. Что за корсиканский флибустьер!
Корсиканский флибустьер, по обыкновению, совершил также и в Корсике немало гигантских подвигов. Он сражался, писал, любил, «учился по восьми часов в день» и успел расположить к себе корсиканское общество обоего пола. Он верил, что природа создала его воином, и до такой степени сроднился с этим занятием, что гром битв сделался для него очаровательной музыкой.
По всему вероятию, природа, умеющая ко всему приноровляться, предназначила ему широкую деятельность, как обыкновенно поступает она со всеми великими душами. В мае 1770 года, почти через год, Бюфьер снова возвращается в Тулон. У него много рукописей в кармане, его ум, подобно беспорядочной библиотеке, наполнен военными и другими знаниями, а известность его между тем растет.
Дядя, вопреки своим принципам, желает видеть племянника, находящегося так близко от старинного замка на Дюрансе. Добряк очарован им, находит в его изменившемся, против прежнего, лице – ум, царское величие, силу, «изящное и грациозное выражение». После нескольких бесед с ним он видит в нем одного из лучших людей, и если юноше не будут препятствовать, полагает он, то он, вероятно, со временем сделается государственным человеком, полководцем или папой.
Осаждаемый со всех сторон просьбами дяди и семейства, суровый маркиз, хотя и не без труда, соглашается наконец «видеть беспутного Пьера Бюфьера и затем, после торжественных совещаний, возвратить ему его настоящее имя. Свидание это происходит в сентябре, в Лимузене, недалеко от имения его матери. Кротость и уступчивость проникли в сердце старика, и даже сквозь его суровость и жесткость блеснул слабый луч надежды. Вот извлечете из одного его письма, относящегося к этому времени: «Я нередко журю его, вижу, как он опускает свой нос и пристально смотрит в землю, – знак, что он вдумывается в мои слова. Иногда он отворачивает голову, чтоб скрыть навернувшуюся слезу. Мы обращаемся с ним частью кротко, частью сурово и этим способом успеваем укротить этого дикого зверя».
Если б он, мог сказать маркиз, основательно изучил мою политическую экономию! Но к сожалению, Габриель находит это сочинение пустым, скучным и ненадежным, как восточный ветер… А между тем разве этот неуклюжий юный геркулес – не доблестный Габриель, удачно кончивший свой второй подвиг? Голова молодого человека походит на «ветреную и огненную мельницу идей». Военное министерство производит его в капитаны, и он страстно желает продолжать военную службу, но, к несчастию, подобному Александру нужна масса орудий, – он готов целый мир превратить в оружейный завод. «Он воображает, – ворчит старый маркиз, – что у меня много денег и что я помогу ему воевать с такими же гаерами и скоморохами, как он сам. Дурак, займись лучше сельским хозяйством, а прежде, хоть это и опасно, взгляни на Париж».
В Париже, в одну зиму, отважный Габриель овладевает всеми сердцами. Он блистает в салонах, Версале, ужинает с герцогом Орлеанским (с ним сходится молодой герцог Шартрский, впоследствии Egalite), обедает у Гемене, Брольи и других великих мира сего и приглашается на охоту. Даже старухи восторгаются им и шуршат своими атласными платьями. Давно уже не появлялось подобное светило во дворце. Между тем маркиз, глядя на успехи своего сына, пускается в следующие критические выводы.
«Я настороже; я понимаю, как живость ума может дать крайне ложное мнение о характере, но, сообразив все, полагаю, что ему нужно дать простор, – какого черта прикажете делать с этим умственным и сангвиническим обилием? Я не знаю женщины, кроме императрицы, на которой бы мог жениться этот юноша. Трудно найти человека более способного и умного, – он, кажется, в состоянии образумить самого черта. Твой племянник – «ураган» занимает меня. Вчера лакей Люс, привилегированный простофиля, сказал мне шутя: «Поверьте, граф, туловище такого человека слишком непрочно для подобной головы». В нем «страшный дар фамильярности» (как говаривал Папа Григорий), – он вертит всею знатью…»
Затем, через несколько лет, он снова пишет: «Мне постоянно говорят, что его легко тронуть. И действительно, его нельзя упрекнуть без того, чтоб его глаза, губы, лицо не свидетельствовали о его волнении. С другой стороны, он при малейшем нежном слове ударяется в слезы и готов броситься в огонь за вас.
Я целую жизнь бьюсь, чтоб напичкать его принципами и всем тем, что я знаю. Потому что этот человек, относительно своих основных качеств, остался тем, кем был, и долгим, солидным учением набил свою голову только хламом, так что ее можно сравнить с перевернутой вверх дном библиотекой. При этом он владеет талантом блистать поверхностно, потому что «проглотил только формулы», а существенного создать не в состоянии. Он похож на ивовую корзину, пропускающую все.
В нем врожденная беспорядочность, он суеверен, как баба, лгун и способен только рассказывать басни, дерзок до крайности, ловок и талантлив донельзя. Вообще порок пустил в нем более глубокие корни, чем добродетель. В нем все есть: легкомыслие, бешенство, бездействие (не от недостатка огня, а от недостатка плана в голове), ум, витающий в неопределенной сфере и производящий одни мыльные пузыри. Несмотря на страшное безобразие, хромоту и свирепый взгляд этого человека, когда он слушает и обдумывает, все мне говорит, что хотя его дикая наружность – не что иное, как пугало для птиц, сшитое из негодного тряпья, но, в сущности, нет человека во Франции менее способного на обдуманное зло. Он весь составлен из отражения и отблеска; сердце его тянет в одну, а голова в другую сторону. Он может быть корифеем нашего времени. В нем заключается природная, близорукая опрометчивость, которая заставляет его принимать болото за твердую почву».
– О, боги, – раскудахталась старая наседка, – что за чудо высидела я! Да у него перепончатые лапы и широкий клюв, того и гляди – уйдет в воду и утонет, если милосердое небо и сердобольная мать не предупредят этого несчастия!
А между тем как справедливы слова старого маркиза: «Он проглотил все формулы» – и покончил с ними. Но формулы и Габриель с начала и до конца были смертельными врагами. Какую пользу могли принести Габриелю формулы мира? Его душа не могла в них найти ни поддержки, ни утешения, вера была чужда им, одна тирания и неправда преобладали в них. Если б, кроме формул, не было другой пищи, то, разумеется, одно горе ожидало бы его. Формулы не только не могли дать этому человеку существование и жилища, за исключением, может быть, острова Ре и подобных мест, но грозили и самую жизнь вырвать у него. Поэтому предстоял один исход: разрушить формулы или погибнуть самому, и упорный бой кончился в его пользу. Так искусна и предусмотрительна судьба: она спокойно кует свои орудия, предназначаемые ею для великого и благотворного дела, а между тем кажется, что ее цель только губительная и разрушительная. Подумай, маркиз, не придется ли со временем самой Франции проглотить одну или две формулы? Дело происходит летом 1777 года.
«Я бы вам многое рассказал, сударыня, если б мне не нужно было отвечать на целую груду докучливых писем. Впрочем, постараюсь описать вам праздник, происходивший в этом городе. Дикари целыми потоками хлынули с гор, – нашим людям приказано было не трогаться с места. Священник, служивший молебен, судья в парике, конная стража с обнаженными саблями заняли площадь, и вскоре затем начались танцы. Уже через несколько минут танцы были прерваны дракой, но зрители, даже дети и старики, оставались на своих местах, кричали, визжали и любовались этой сценой, как обыкновенно любуется чернь на драку собак. Страшные люди или, скорее, лесные дикари, в грубых шерстяных куртках, подпоясанные широким ремнем, украшенным медными гвоздями, поднимались на цыпочки, чтоб удобнее видеть драку, били в такт, ударяя себя локтями в бок. На их лицах была написана свирепость; лоб и глаза оставались совершенно спокойны, нижнюю же часть лица оживлял отвратительный смех, выражавший дикое нетерпение. И эти люди платят подати! И вы хотите отнять у них еще соль? Вы дерете с них шкуру и воображаете, что управляете ими, и надеетесь одним росчерком пера грабить их до тех пор, пока не наступит катастрофа? Подобные вещи наводят на глубокие размышления. «Бедный Жан-Жак, – говорил я сам себе, – те, которые призвали тебя с твоей системой, чтобы переписывать ноты посреди подобного народа, плохо поняли твою систему!»
С другой стороны, эти размышления были утешительны для человека, который всю свою жизнь проповедовал о необходимости помогать бедным и вводить всеобщее образование. Он старался показать, в чем должны заключаться образование и поддержка, когда они поставят преграду, единственно возможную преграду, между гнетом и восстанием, единственный и неизбежный договор между низшими и высшими классами. Ах, сударыня, правление, похожее на игру в жмурки, кончится всеобщим переворотом».
Пророческий маркиз! Ах, если б другие народы слушали тебя лучше, чем слушала тебя Франция, так как это касается их всех. Но теперь разве любопытно размышлять о том, что мир и без этого пророка избрал себе другой путь? Был ли у юного Мирабо отец, какой бывает у других людей, или вовсе не было! В первом предположении необходимо убедиться, если подумать о происхождении, положении в свете, необыкновенных способностях Мирабо, благодаря которым он достиг высокой государственной ступени, в то время как Тюрго, Неккеры и даровитые люди были неизбежны. Природным волшебством он очаровывает Марию-Антуанетту, впечатлительную и сочувствующую всему великому и благородному и ненавидящую все, напоминающее педантизм, Неккеров и Лафайетов.
Король Людовик – ноль, да, к счастью, и деятельность его равнялась нулю. Если б в то время во главе Франции стоял единственный француз, способный разрешить великий вопрос, уступать и противиться, обходить препятствия, терпеть, словом – «понимать», что нужно делать, то Франция, может быть, избегла бы революции и преобразование совершилось бы мирным путем. Но высшие силы решили иначе. После многих тысячелетий всем народам было суждено увидеть великий пожар, самосожжение нации и, глядя на это зрелище, поучиться. И разве можно было найти лучшего учителя в мире, каким был «друг человечества» для «проглотчика формул», разве можно было придумать что-нибудь лучше того воспитания, которое получил Алкид Мирабо? Доверься небу, читатель, оно точно так же заботится о судьбе народов, как и о судьбе воробья.
Габриель Оноре отлично устроился в Париже «водить за нос» всю знать. А в другом, деловом отделе, когда началось лето и вместе с ним сельские работы, он превосходит все ожидания. «Друг человечества» посылает Пьера Бюфьера в Лимузен, в свое имение, – а при не окончившемся еще процессе имение маркизы, – чтоб поразведать, нельзя ли там чего сделать для человечества. Понятно, что здесь дела немало, – крестьяне, не имея средств удовлетворить самым необходимым потребностям в жизни, «глядят горемыками и, по-видимому, полагают, что грабеж, чинимый над людьми, такое же Божье наказание, как буря и град». Здесь, в уединении Лимузена, Габриель делается опять Габриелем. Он ездит верхом, пишет, всматривается во все, ест из одного горшка с бедняками, беседует с ними, помогает им, учреждает нечто вроде деревенского суда присяжных и покоряет все сердца, так что маркиз невольно сознается, что он «демон невозможного». И действительно, слова «невозможно» нет в словаре Габриеля. Когда впоследствии этот же самый Габриель (по свидетельству Дюмона) приказал своему секретарю сделать какое-то чудо, считавшееся по крайней мере в то время чудом, то секретарь возразил ему, что «это невозможно». «Невозможно? – вскричал Габриель. – Никогда не говорите при мне этого слова». Вообще юный Мирабо был добрым человеком, когда обращались с ним хорошо, но с широким клювом и неисправимою страстью к воде.
Следующее, по сути, не важное, письмо, адресованное дяде, достойно, по нашему мнению, чтоб привести его здесь. Габриель в шутливом тоне описывает, как ему, молодому барину и тогдашнему щеголю, пришлось дрогнуть на снегу. Письмо писано в декабре 1771 года на дороге в замок Мирабо.
«Fracti bello satisque repulsi ductores Danaum – это означает, мой дорогой дядя, на доброй латыни, что я умираю от усталости. Во всю эту неделю я спал не более любого часового и в то же время колесами моего экипажа изучил все колеи и лужи, встречавшиеся мне между Парижем и Марселем. Глубоки и бесконечны были эти колеи. Кроме того, между Мюкро, Романе, Шамбертеном и Бонем у меня сломалась ось, и это случилось в центре четырех виноградников, – вот так географический пункт, если б у меня хватило ума быть пьяницей! Несчастие это совершилось в пятом часу вечера, и мой лакей уже уехал вперед. В это время шел мокрый снег, но, к счастью, впоследствии он приобрел некоторую плотность. Близость Боня заставляла меня надеяться, что я обрету в его жителях какой-нибудь гений. Так как я нуждался в добром совете, то черт посоветовал мне прежде всего выругаться, но эта прихоть вскоре прошла, и я попробовал смеяться, тем более что в это время подъехал ко мне верхом на лошади священник, которому снег и дождь били нещадно в лицо. Физиономия его выделывала необыкновенные гримасы, и я полагаю, что это было причиной, что я воздержался от дальнейшей ругани. Почтенный муж, при виде опрокинутого экипажа без колеса, спросил: не выпало ли на мою долю какого-либо несчастия? Я отвечал, что, «кроме снега, здесь ничего не выпало». «А, – заметил он остроумно, – у вас сломался экипаж». Я подивился подобной мудрости и попросил его, разумеется, с позволения его лошади, у которой также была веселая физиономия, потому что снег бил ей прямо в нос, ускорить шаг и известить в Шаньи, что я сижу здесь. Он обещал исполнить мою просьбу и сообщить об этом даже самой почтмейстерше, которая приходилась ему кузиной. При этом он рассказал мне, что она прелюбезная дама и вот уже три года как замужем за весьма почтенным человеком, племянником королевского прокурора. Рассказав мне о кузине, ее муже и не помню еще о ком, он дал шпоры своему коню, который заржал и пустился в путь.
Я забыл вам сказать, что мною уже был послан ямщик в Мюкро. Парень этот отлично знал дорогу, потому что ездил туда ежедневно выпивать стаканчик или два. Собираясь в путь, он уже был навеселе, а когда возвратился, то был окончательно пьян. Я, как часовой, ходил взад и вперед; бонские жители подходили ко мне и спрашивали: что случилось? Одному из них я ответил, что дело идет об одном опыте. Меня послали из Парижа исследовать – может ли экипаж ехать с одним колесом. До сих пор все шло хорошо, но теперь я хочу написать, что с двумя колесами все-таки удобнее. В эту самую минуту приятель, с которым я беседовал, ударился коленкой о другое колесо, лежавшее в снегу, схватился рукой за ушибленное место и, выругавшись точно так же, как я, сказал, улыбаясь: «Да, вот другое колесо». «Черт возьми!» – вскричал я, как бы удивляясь находке. Другой же из присутствующих, долго оглядывая мой экипаж, наконец остроумно решил, что в нем сломалась ось».
Миссия Мирабо в Провансе была довольно многосложна. Он должен был осмотреть имения, познакомиться с крестьянами и помещиками и, может быть, приискать себе жену. Еще недавно, как мы видели, старик полагал, что в жены ему годится только одна императрица. Но Габриель, благодаря родительским заботам, с тех пор удивительно созрел, и маркиз решил, что если брак с императрицей невозможен, то можно приискать и другую невесту, только была бы она с деньгами. Наконец находят невесту, хотя без денег, но зато со связями и надеждами, и покоряют ее сердце с помощью бурного красноречия и маркиза. Ее портрет, даже по описанию маркиза, не слишком очарователен: «Марии-Эмилии де Кове, единственной дочери маркиза де Мариньяна, было в то время восемнадцать лет. Лицо ее было весьма обыкновенное, даже вульгарное на первый взгляд и при этом крайне смуглое. Глаза и волосы были прекрасны, зубы дурны, а с уст не сходила приятная улыбка. Она была небольшого роста, но вся ее фигура отличалась изяществом, хотя и держалась несколько набок. При этом она была одарена живым умом, остроумием, ловкостью, нежностью и мужеством». Таким образом, эта смуглянка, к тому же величайшая дура, 22 июля 1772 года делается женой Мирабо. С нею и с 3000 франков содержания, получаемого им от тестя, и с 6000 франков, назначенными отцом, да с великими надеждами впереди, должен он поселиться в городе Э и благословлять небо.
Нужно сознаться, что юный Александр немного роптал, ему пришлось покорить только подобный мир. Но у него были книги, надежды, у него были здоровье и способности. Перед ним лежала вселенная (часть которой составлял также город Э), вселенная запрещенных плодов, невыразимое поле времени, на котором он мог сеять, и он сказал себе: «Теперь я буду умен». А между тем человеческая природа слаба. Спрашивается, был ли старик маркиз, теперь окончательно разведшийся с женою, расположен прощать маленькие грешки? Страшное, отвратительное спокойствие, с которым он сообщает своему брату о процессе и требует от него молчания, может потрясти слабые нервы, поэтому мы опускаем этот эпизод…
Семейная жизнь Рикетти быстро близится к разрушению, наступает в ней время ураганов. Одна из его дочерей замужем за г-ном Сальяном, другая за г-ном Кабри, у которого на руках процесс по поводу написанных им стихов, исполненных клеветы. Некий барон Вильнев Моан, на которого направлено было это стихотворение, публично оскорбляет г-жу Кабри на гулянье, но все лица, бывшие свидетелями этого оскорбления, выказали себя в этом деле крайними дураками. Затем бедная женщина связывается с неким Бриансоном в эполетах, личностью, по словам побочного сына, не поддающеюся описанию.
От юного наследника всех Мирабо требуют, чтоб он играл некоторую роль в свете, в особенности после женитьбы. Но в состоянии ли отличиться молодой человек с 9000 франков в год и кучей долгов? Старик маркиз тверд, как скала, и никакой жезл Моисея не извлечет из него чуда. На подарки, содержание дома, обеды и вечера он не дает ни одного су. Все это лежит на обязанности Мирабо, и все это он устраивает роскошно, но, увы, у него только 9000 франков в год и куча долгов! Остается одно – прекратить все эти обеды и вечера и удалиться в старинный замок, что он немедля и делает. Но молодая жена, привыкшая к роскошной жизни, требует, чтоб ей был отделан целый ряд комнат. Являются обойщики, начинается стук, возня и затем все принимает великолепный вид, но на все это подаются счета, – а там еще евреи-кредиторы! Мирабо, со слезами на глазах, обращается к тестю и умоляет его превратить «богатые надежды» в действительные наслаждения. Тесть, тронутый его слезами и красноречием, готов выдать ему 40 000 франков в том предположении, что старик Мирабо, заинтересованный в этом деле, не откажется со временем уплатить их. Но маркиз, которому пишется красноречивое письмо, отвечает письмом, известным под названием «Lettre de cachet», и приказывает красноречивому автору, в силу подписи и печати его величества, немедленно отправляться в Маноск.
Итак, прощай, крутая скала и бурный Дюранс, здравствуй, жалкий Маноск, куда судьба забросила нас! Но и в Маноске может человек жить и читать, может писать «Опыт о деспотизме» (чтоб впоследствии напечатать его в Швейцарии) – сочинение, полное огня и грубой энергии, имеющее интерес и в настоящее время. «Опыт о деспотизме», не имевший ничего общего с «Эфемеридами», встретил в старом маркизе сурового критика. Вероятно, он остался недоволен проглоченными формулами и молодым, едва оперившимся человеком, осмелившимся уже трактовать о вещах, требующих серьезного и зрелого возраста. К этому присоединились еще новые неприятности. Некий шевалье де Гассо, имевший обыкновение посещать дом Мирабо в Маноске, начинает теоретически ухаживать за маленькой смуглянкой, и на его любезности также отвечают теоретически. Записочки следуют за записочками, взгляды за взглядами, crescendo за allegro, так что наконец взбешенный супруг поднимает бурю и грозит выбросить за дверь шевалье де Гассо, который, не дожидаясь выполнения этой угрозы, спешит оставить дом Мирабо, но не без некоторого скандала. Все ждут дуэли, но Гассо, зная, какова шпага в руках Рикетти, не хочет драться и просит своего отца уладить дело и извиниться за него. Отцу было предоставлено «умолять великодушного графа пощадить жизнь бедного сына, потому что и без того этот скандал помешал ему составить отличную партию и вооружил всю семью против него». Великодушный граф не только посылает к черту дуэль, но, позабыв и «Lettre de cachet», летит в дом того семейства, где молодой человек выбрал себе невесту, и так горячо умоляет забыть все, что бедному Гассо возвращается прежняя милость. Устроив с успехом это дело, – так как ничто не может противиться его красноречию, – он со спокойной совестью возвращается домой.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.