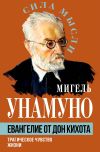Текст книги "Герои, почитание героев и героическое в истории"

Автор книги: Томас Карлейль
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 36 (всего у книги 72 страниц)
Дидро любил своего отца и весьма жалел, что портрет старика был снят в праздничном платье, а не в рабочем, обыденном костюме, «в кожаном переднике, с очками на носу, за работою перед точильным колесом», – как он привык жить и трудиться, честно занимая свое огромное место во вселенной. Старик был человек строгой справедливости и честности, отличался не только добродушием, но и острым умом, вследствие чего нередко выбирался посредником в возникавших распрях между соседями. При этом он был не чужд гуманности, помогал беднякам, так что целая толпа их со слезами провожала его до последнего жилища. Один из соседей утешал сироту-философа следующими словами: «Ах, мсье Дидро, вы способный и знаменитый человек, но вам никогда не сравняться с вашим отцом». И действительно, возникает вопрос: не представляется ли нам этот старик ножовщик самым достойным человеком из всех знаменитых лиц, выведенных в биографическом отделе этих двадцати шести томов. Нам по крайней мере ни одно выведенное лицо не представляет достоинств, которые бы не были извращены недостатками и пороками.
Мать его также была любящая и местная женщина, и Дидро имел полное право гордиться своим происхождением и не стеснялся вспоминать об этом в кругу королей и императриц.
Учителями его были иезуиты, в двенадцать лет его энциклопедическая голова уже подверглась «тонзуре»41. У него была замечательная способность усваивать себе предмет и отличная память, но при этом он был ветрен, склонен к проказам и нередко попадал в неприятные истории. Одно крупное событие в своей жизни он сам увековечил; дочь его рассказывает об этом в следующих словах:
«Он поссорился с одним из товарищей, и эта ссора была так серьезна, что ему под страхом наказания было запрещено являться в школу на публичный экзамен и раздачу наград. Мысль провести такой важный день дома и тем огорчить своих родителей была для него невыносима. Он отправился в училище, швейцар загородил ему вход, но он успел смешаться с другими лицами и кое-как пробраться вперед. Швейцар, имея в руках что-то вроде копья, бросается за ним и в происшедшей тут борьбе ранит его в бок. Но это не удерживает мальчика, он проталкивается в класс, садится на свое место и получает целую массу наград из письменного и из устного экзамена и за сочиненные стихи. По всему вероятию, он заслужил их, потому что наказание, которому он подвергся, не могло помешать школьному начальству отдать полную справедливость его успехам. Множество книг и венков были присуждены ему, так что, не имея возможности нести их в руках, он надел венки на шею и таким образом воротился домой. Мать его стояла в это время у дверей дома и видела, как он, окруженный товарищами, с грудой книг и венков шел через рынок. Нужно быть матерью, чтоб понять ее чувства при виде подобного торжества. Дома его ожидали новые похвалы. Но когда в следующее воскресенье он одевался, чтобы идти в церковь, то домашние заметили значительную рану на его теле, на которую он даже и не подумал жаловаться».
«Одна из лучших минут в моей жизни, – пишет сам Дидро, с небольшими вариациями, об этом событии, – случилась тридцать лет тому назад, но я помню ее так хорошо, как будто это было вчера. Как сейчас, вижу отца, поджидавшего меня на улице, когда я возвращался домой под бременем наградных книг и венков. Заметив меня еще издали, он бросил свою работу и вышел ко мне навстречу, обливаясь радостными слезами. Прекрасное зрелище – видеть слезы сурового и честного человека!»
Затем девица Дидро рассказывает нам, как увенчанный ученик, которому наконец надоели постоянные выговоры и наказания, однажды сказал своему отцу, что желает оставить школу. «Итак, тебе хочется быть лучше ножовщиком?» – спросил его старик. Вследствие утвердительного ответа ему дают кожаный передник, и он принимается вместе с отцом за работу – портит все, что ему попадается в руки: ножи, ножницы и пр. Работа эта продолжалась около пяти дней, – наконец он вдруг выходит из мастерской, отправляется в свою комнату, забирает книги и снова возвращается в школу, которой остается уже надолго верен.
Достопочтенным отцам показалось, что из Дени может выйти отличный иезуит, вследствие чего они старались окружать его лестью, чтоб завладеть им для собственных целей. Предоставляем читателям поразмыслить на досуге о дьявольской хитрости и усердии этих святых отцов, которые в настоящее время, к счастью, уничтожены и изгнаны отовсюду. Мы же, к нашему великому прискорбию, считаем уместным только заметить, что ни одна корпорация в мире, какой бы окраски она ни была, не проявляла столько искусства и усердия в звании учителей и наставников, как эти пронырливые иезуиты. Предугадать способности неопытного и неоперившегося юноши, из которого впоследствии разовьется действительный человек, взять его за руку и вести по умственному пути, снабдив его при этом необходимым орудием – знанием и развив в нем характер и волю, составляет в большинстве случаев заслугу великую, если предположить, разумеется, что этот путь честен и справедлив… Но мы уже заметили, что иезуиты уничтожены, а корпорации всех родов исчезли, вместо эгоистичных обществ у нас очутилось двадцать четыре миллиона людей, не связанных никакими корпорациями, так что правило: «Человек, заботься сам о себе» – произвело тесноту, давку, из которой люди выходят с помертвелыми лицами и раздробленными членами, словом, – изображают дикий хаос, куда страшно и заглянуть. И самой жалкой, покинутой и беспомощной фигурой в этой толпе является в настоящее время фигура, известная под именем писателя. Нужно надеяться, впрочем, что столетия через два подобный порядок вещей изменится и улучшится. Но возвратимся к нашему рассказу.
«Иезуиты, – продолжает девица Дидро, – прибегали к самым соблазнительным средствам, именно прельщали юношу путешествием и свободой и успели уговорить его покинуть родину и уехать с иезуитом, к которому он сильно привязался. У Дени был друг, кузен одних с ним лет, и этому-то другу он доверил свою тайну, желая, чтоб и он сопутствовал ему. Но кузен, более прирученный и осторожный юноша, сообщил весь проект отцу, не забыв упомянуть о дне и часе отъезда. Мой дед ни одним словом, ни малейшим намеком не выдал себя, но вечером, уходя спать, запер только входную дверь и ключ положил в карман. Услыхав в полночь, что сын осторожно сходит с лестницы, он неожиданно явился перед ним и спросил: «Куда так поздно?» «В Париж, – отвечал молодой человек, – к иезуитам». «Но ночью этого нельзя сделать, – возразил старик, – пойдем лучше спать, а завтра я постараюсь исполнить твое желание».
На следующий день отец взял два места в почтовой карете, проводил сына в Париж, поместил его в коллеж д’Аркур и простился с ним. Но добрый старик слишком любил своего сына, чтоб покинуть его, не убедившись вполне, доволен ли юноша своим новым положением. Вследствие этого он остается еще две недели в Париже, чуть не умирает со скуки в гостинице и наконец отправляется в коллеж. Отца моего до такой степени тронула эта любовь и участие, что он, по его словам, был готов идти на край света, если б старик потребовал этого. «Мой друг, – сказал он ему, – я пришел узнать о твоем здоровье, доволен ли ты начальством и содержанием. Если тебе нехорошо здесь, если ты несчастен, то воротимся снова к твоей матери. Но если ты решился жить здесь, то мне остается только сказать тебе несколько слов, обнять и благословить тебя». Юноша уверил его, что он совершенно доволен и новое заведение ему весьма нравится. Мой дед простился с ним и зашел к директору узнать, доволен ли он своим воспитанником».
Получив благоприятный ответ, почтенный старик воротился домой. Дени виделся с ним редко, потому что никогда уже не жил с ним под одной кровлей, хотя в течение нескольких лет и до самой последней минуты поддерживал с ним сношения, навещал его и, по-видимому, пользовался его советами и помощью. И действительно, семейство Дидро было достойное семейство, наш философ горячо был привязан к нему, и эта привязанность составляла не последнюю его добродетель. Дени был старшим сыном в семействе и, при всех своих недостатках, пользовался большим расположением. Кроме него, был еще брат, сделавшийся впоследствии аббатом, и добрая остроумная сестра-девица, несколько раз пытавшаяся жить вместе с младшим братом, чтоб помогать его хозяйству, но все ее старания остались без успеха.
Так как аббат был человек строгих правил, а Дени тем, чем мы его знаем, то, естественно, они не могли поладить между собой, и все их надежды к сближению не осуществились. Аббат усердно изучал свой Служебник и нередко обращался к заблуждавшемуся философу с торжественными увещаниями, но тот, не обращая на них внимания, шел своей дорогой. Партия, державшая в семействе сторону Дени, вследствие этого не совсем хорошо отзывалась об аббате, но отзывы эти нельзя назвать основательными. Читать увещания, может быть, составляло его добродетель или по крайней мере призвание.
Истинный пастырь, который бы хотел или мог снисходительно смотреть на «Энциклопедию», еще не родился, – а разве из всех ложных явлений в мире ложный пастырь не есть самое худшее?
Между тем Дени в коллеже д’Аркур изучает греческий язык и математику и совершенно утрачивает вкус к иезуитскому поприщу. Мы не сомневаемся, что он совершил немало проказ, немало получил и выговоров. Но несмотря на это, он приобрел себе друзей и в особенности сблизился с аббатом Берни, в то время поэтом, а впоследствии кардиналом. «Они обыкновенно вместе обедали в соседнем трактире по шести су с человека, и я нередко слышала, как они восхваляли этот веселый пир».
«Когда он окончил курс, – продолжает мадемуазель, – отец его написал к г-ну Клеману де Ри (прокурору и земляку) в Париж и просил его взять сына к себе в пансионеры, чтоб он мог изучить юриспруденцию и законы. Дидро прожил у него два года, но занятие «актами» и «инвентарями» не имело для него прелести. Все время, которое ему удавалось уделять от юридических занятий, он посвящал латинскому и греческому языкам, в которых чувствовал себя довольно слабым, математике, страстно им любимой до конца жизни, итальянскому и английскому языкам.
Впоследствии он так предался своей страсти к наукам, что Клеман счел долгом известить его отца о том, как дурно молодой человек употребляет свое время. Мой дед просил Клемана заставить сына избрать какое-нибудь призвание: сделаться доктором медицины, прокурором или адвокатом. Отец мой потребовал времени на размышление, и оно было ему дано. Через несколько месяцев к нему снова обратились за ответом. Он отвечал, что звание доктора ему не нравится, так как он не желает морить людей; прокурорская должность, по его мнению, занятие не деликатное, а адвокатом он охотно бы сделался, если б не чувствовал отвращения целый век заниматься чужими делами. «Чем же вы наконец хотите быть?» – спросил Клеман. – «Я люблю науку, счастлив, доволен и не нуждаюсь ни в чем больше».
Вот перед нами смелый юноша, полный широких надежд, которыми думает питаться и быть сытым. Он, как и многие, не прочь бы сделаться владетельным принцем, но, к несчастью, у него недостает ни капитала, ни других необходимых вещей для этого. При подобных условиях отцу остается только одно: известить Клемана де Ри, что платить ему за содержание Дени более не будут и он, при первом удобном случае, имеет полное право показать новому князю дверь.
Какого мнения, сидя на своем чердаке в Париже, был сам Дени об этих мерах, осталось для нас неизвестно. Отец, отказав ему в дальнейшей помощи, хотел разумным путем принудить его избрать какой-нибудь род занятий, обещая ему помочь, в противном же случае советовал воротиться домой. Но Дени не исполнил ни того, ни другого. Подобные запросы со стороны отца продолжались в течение десяти лет, но с тем же неуспехом Принц-Дени жил и правил на своем чердаке с деньгами или без денег, как и другие принцы в мире, но отречься от престола не мог. Сангвиническому, ветреному юноше казалось невозможным, чтоб на этой обширной земле нельзя было найти золотых рудников. Он жил, пока были средства, не заботясь о завтрашнем дне. У него были книги, веселое общество, вокруг него пел и плясал Париж; он мог давать уроки математики, мог идти различными путями. Разве ему нельзя было сделаться знаменитым математиком и ученым и достать звезды своею величественною головою? А между тем к нему незаметно подкрадывается одно из самых чувствительных человеческих зол – когда приходится «положить зубы на полку».
«Проснувшись однажды во вторник на Масляной, – рассказывает его дочь, – он роется в кармане и видит, что ему не на что купить обеда; друзей же он беспокоить не хочет. Его грусть еще более увеличивается при воспоминании о том, как прежде он проводил этот день в кругу родных, обожавших его. Труд ему не идет на ум, и, чтоб рассеяться, он отправляется гулять, заходит в Дом Инвалидов, Королевскую библиотеку и Ботанический сад. От скуки еще можно избавиться, но голод заглушить нельзя. Отец мой возвращается домой, чувствует себя нездоровым, хозяйка дает ему немного хлеба и вина, и он ложится в постель».
«В этот день, – часто говаривал он мне, – я поклялся, что если буду иметь средства, то никогда не откажу бедному в помощи, никогда не обреку своего собрата на подобный мучительный день».
Что Дидро в это грустное время избег голодной смерти, достаточно объясняется вышеприведенным рассказом, но как он после этого распорядился своей жизнью, остается для нас большей частью загадкой, мадемуазель, сообщая довольно ограниченные сведения об этом, продолжает, по обыкновению, «поражать блеском и трескотней фраз», вместо того чтоб быть ясною и понятной. Так, нередко грандиозный фейерверк уступает скромной грошовой свечке, если дело идет о том, чтоб что-нибудь видеть. Кто были товарищи, друзья, враги и покровители Дидро; как он жил; каков был Париж, в котором он вращался и на который смотрел из своего чердака, – все это узнаем мы только из некоторых загадочных намеков. Нам нередко приходилось слышать, что юный Дидро был каким-то умственным забиякой, который воображаемой рапирой боролся с судьбой ради забавы или, в случае неудачи, иронически отвешивал ей поклоны, – вообще жил и действовал, как никто в мире. Все это прекрасно, и со всем этим мы вполне соглашаемся, но все-таки спрашивается, хотя, к прискорбию, на наш вопрос нет ответа, «как именно» действовал он в то время?
Мы знаем, что он давал уроки математики, но при этом с княжеским равнодушием относился к плате за эти уроки. Если его ученик был боек и одарен хорошими способностями, то он просиживал с ним целый день; если же находил, что ученик его туп, то после первого урока уже не являлся к нему. Ему платили книгами, мебелью, бельем, деньгами или вовсе не платили. Кроме того, он сочинял проповеди по заказу. Один миссионер заказал ему полдюжины проповедей для португальских колоний и наградил его весьма щедро, выдав по пятидесяти крон за штуку. Однажды он получил место домашнего учителя с хорошим содержанием. По прошествии трех месяцев он является к отцу семейства и предлагает ему искать другого учителя, так как не желает более жить у него. «Но, мсье Дидро, разве вам не хорошо у меня? Может быть, вы недовольны жалованьем? В таком случае я прибавлю вам. Может быть, вам не нравится ваша комната, – выбирайте любую, не довольны вы столом – заказывайте сами кушанья, какие любите. Я не пожалею ничего, чтоб только удержать вас». «Милостивый государь, – отвечает ему Дидро, – взгляните на меня: лимон не так желт, как мое лицо. Я стараюсь из ваших детей сделать людей, но с каждым днем сам делаюсь с ними ребенком. Мне слишком хорошо и покойно в вашем доме, но я должен оставить вас. Цель моих желаний заключается не в том, чтоб лучше жить, но в том, чтоб не умереть теперь».
Мадемуазель сознается, что если ему случалось «пьянеть от веселости», то нередко также он предавался грусти, и тогда только один бином Ньютона, великолепная идея или другой дар неба могли развлечь его.
«Золотые рудники» еще не являлись на свет, а между тем его родной городок протягивает ему руку и спасает его от голодной смерти. Встретив земляка, Дени, не стесняясь, занимает у него деньги, и добряк отец не отказывается платить долг сына. Мать еще добрее, по крайней мере мягче сердцем: она открыто помогает ему, не через почту, а поручает это дело служанке, которая делает шестьдесят миль, чтоб передать ему несколько денег от матери, не жалуясь ни на что, но прибавив к этим деньгам еще свое скудное сбережение. Подобное странствование она совершала три раза. «Я видела ее, – прибавляет мадемуазель, – несколько лет тому назад, она говорила о моем отце со слезами на глазах; ее единственным желанием было еще раз увидать его; шестидесятилетняя служба не притупила ни ее ума, ни чувства».
Общество Дидро состояло нередко из «людей порядочных, из людей так себе, чтоб не сказать дурных». Впрочем, сложив все это вместе, нетрудно угадать, что последний сорт был преобладающим.
По-видимому, Дени в течение первых десяти лет бездельничал, – то выпивая полную чашу Цирцеи, то с жадностью вдыхая чувственный воздух и постоянно «рискуя сгореть в тут же находящемся аду». В одном из своих поэтических произведений он обнаруживает близкое знакомство с миром повес, плутов и их проделок и поступков. Между другими способностями, как это можно заметить из его «Фаталиста Жака», он обладает еще оригинальным, теоретическим талантом – «выманивать деньги».
Поступок этот совершен был Дени (как гласят его мемуары) таким скандалезным образом, что полиция вмешалась в это дело, и отец, «посмеявшись над обманутым простаком, заплатил деньги». Простак этот был аббат-прозелит, которого хитрец Дени обошел тем, что принялся ему жаловаться на пресыщение жизнью и вследствие этого изъявлял готовность идти в монахи. Но все эти обещания, разумеется, испарились, лишь только деньги были в его руках. Другой раз, впрочем, подобное дело приняло иной оборот, и рыбак вместо пескаря вытащил своим неводом акулу.
Литература, кроме проповедей для португальских колоний или небольших статеек, не открывала ему еще гостеприимных объятий. По всей вероятности, он сочинял просьбы и любовные письма людям, у которых было больше денег, чем знания орфографии, затем составлял каталоги, реестры, газетные объявления и в такой форме имел удовольствие видеть в печати произведения своих рук. Но через некоторое время он уже более сближается с литературой и принимается за переводы с английского языка. Литература в то время, как и теперь, была общим приютом и убежищем для бедняков, где всем смертным, какого бы цвета или разряда они ни были, предоставлялась полная свобода жить или по крайней мере умирать, но для предприимчивого человека средства, добываемые ею, были в то время весьма ограниченны. Газет было немного; руководящих статей не существовало и еще менее других отделов с их казенным гонораром за строчку. Паквуд и Уоррен, а еще более Панкук и Коулберн42 еще покоились мирным сном на лоне хаоса; хвалебная литература также не существовала, а потому не могла быть оплачиваема. Таланту недоставало рынка, где бы он мог рассчитывать на верный сбыт труда. С ним обходились, как с добродетелью, осыпали похвалами и оставляли умирать с голоду. Чтоб читатель не был слишком высокого мнения о щедрости тогдашнего литературного рога изобилия во Франции, мы представим ему небольшую историческую сцену, которую он может видеть собственными глазами. Рассказ принадлежит Дидро и относится уже к позднейшей эпохе, когда времена несколько улучшились.
«Я дал одному бедняку переписать рукопись. Так как срок, в который он обещал мне доставить ее, прошел, да и сам он не являлся ко мне, что меня сильно беспокоило, то я решился разыскать его. Я нашел его в норе, которая была не больше моей ладони, лишенной дневного света и с совершенно голыми стенами. Два соломенных стула, жалкая кровать без занавесок с одеялом, источенным червями, сундук, набитый грудой всевозможного тряпья, небольшая жестяная лампа, с бутылкой вместо подставки, и дюжина превосходных книг – вот все, что было в комнате. Я проговорил с ним три четверти часа. Бедняк был гол, как червь, – это было в августе, – худ, грязен, но при этом весел. Не жалуясь ни на что, он ел с аппетитом ломоть хлеба и по временам ласкал свою возлюбленную, лежавшую на жалкой кровати, занимавшей две трети комнаты. Если б я не знал, что счастье живет в сердце, то этому мог бы меня научить мой Эпиктет с улицы Гиасинт».
Несмотря на свои двадцать девять лет, Дидро влюбляется по уши. Это была честная, благородная привязанность – первая и, вероятно, последняя в этом роде. Если читатель желает познакомиться с поэтическим описанием этой любви и с талантом Дидро изображать подобные картины, то может прочесть об этом в некогда знаменитой его драме «Отец семейства». Известно, что сюжет этой драмы он взял прямо из жизни, не прибегая ни к каким прикрасам и эффектам, составляющим неизбежную принадлежность французского театра. Отрывок из этой пьесы мы приводим здесь.
Первый акт.
Выход седьмой.
Сент-Альбан: Отец, ты должен узнать все, – иначе как мне разжалобить тебя? Первый раз я увидел ее в церкви. Она стояла на коленях у алтаря, подле пожилой женщины, которую я принял за ее мать. Отец! Какая скромность, какая прелесть! Ее образ преследует меня днем и ночью и не дает покоя. Я утратил веселость, здоровье и спокойствие. Я не могу жить без нее, – она изменила мою жизнь: я уже не тот, чем был прежде. С первой же встречи все пошлые страсти исчезли из моей души, осталось одно благоговение и удивление. Еще прежде, чем она бросила на меня свой взор, я сделался робок, и эта робость усиливалась с каждым днем, – покуситься на ее добродетель было бы для меня все равно что покуситься на ее жизнь.
Отец: А кто эти женщины? Как они живут?
Сент-Альбан: Ах, если б ты знал, как они несчастны! Вообрази себе, что их тяжелый труд начинается с раннего утра и нередко продолжается всю ночь. Мать занимается тканьем; грубое полотно касается нежных пальчиков Софии и причиняет боль. Ее глаза – прелестнейшие глаза в мире – должны работать при тусклом свете единственной лампы. Она живет на чердаке, в четырех голых стенах, деревянный стол, пара стульев, жалкая кровать – вот вся их мебель. О, небо, если ты создало подобное существо, то какую же участь готовишь ты ему?
Отец: Как ты познакомился с ними? Говори правду.
Сент-Альбан: Мне пришлось преодолеть невероятные препятствия. Хотя я живу под одной кровлей с ней, но вначале я избегал ее видеть. Когда мы встречались на лестнице, то я учтиво раскланивался с ней. Вечером, когда приходил домой, я тихонько стучался к ним в дверь, просил у них воды, дров, огня, как это обыкновенно случается между соседями. Они постепенно привыкли ко мне, и, по-видимому, я понравился им. Так как вечером они выходили из дома весьма неохотно, то я брал на себя обязанность приносить им все, что было нужно.
* * *
Вся правда, прибавляем мы от себя, заключалась в следующем: «Я заказал им сорочки и сказал, что я бакалавр богословия и намерен поступить в семинарию Св. Николая, и всю эту речь, разумеется, вел на языке змия-искусителя».
Но мы пропускаем многое и спешим заключить сцену: «Вчера вошел я к ним по обыкновению. София была одна. Она сидела у стола, закрыв лицо руками, работа валялась у ее ног. Я вошел так тихо, что она не заметила моего присутствия. Она вздохнула, и слезы потекли по ее пальцам и падали на руки. Уже несколько времени тому назад я заметил, что она грустит. О чем плачет она? – думалось мне. Что огорчает ее? Крайнего недостатка не может быть, – ее работа и мое внимание служат ей верной поддержкой. Опасаясь единственного несчастья, которое для меня было бы ужасно, я немедля бросился к ее ногам. Как велико было ее удивление! «София, – сказал я ей, – вы плачете, – что с вами? Не скрывайте от меня вашего горя, расскажите, умоляю вас, расскажите мне все». Она молчала. Ее слезы текли по-прежнему, глаза ее, в которых теперь вместо спокойствия выражался ужас, устремились на меня. Затем она опустила их и, снова взглянув на меня, сказала: «Бедный Серж, несчастная София!» Я положил мою голову на ее колени и облил ее передник моими слезами».
Одним словом, ничего не оставалось более делать, как вступить в брак. Старик Дидро как ни рад был видеть своего сына, с негодованием и насмешкой встретил подобную просьбу, и бедный юноша принужден был возвратиться в Париж, избегать дорогого дома, – вследствие чего захворал и был близок к смерти. Это обстоятельство еще более увеличило недоумение его возлюбленной и заставило ее навести о нем справки. Она, к своему ужасу, узнала, что комната его – сущая собачья конура, что он живет почти без пищи, без ухода, жалкий и грустный, и решилась идти к нему, обещала быть его женою, – так что с этого времени мать и дочь сделались его сиделками. Как только он поправился, они отправились в церковь Св. Петра и там повенчались в полночь 1744 года. Но нам еще остается прибавить, что когда София, на которой он женился, утратила достоинства прежней Софии, то ошибка скорее заключалась в его непостоянстве, чем в ее качествах. Как в юности она была «высокой, красивой, благочестивой и умной», так, по-видимому, в течение всей своей жизни она сохранила мужество, благоразумие и верность, – слишком хорошая жена для подобного мужа.
«Мой отец был слишком ревнив, чтоб позволять моей матери продолжать работу белья, которая заставляла ее принимать чужих людей и с ними разговаривать. Поэтому он предложил ей прекратить это дело, на что она весьма неохотно согласилась. Для себя она не боялась бедности, но ее мать была стара, и она опасалась, что не будет в состоянии удовлетворять всем ее нуждам. Тем не менее она принесла эту жертву в полном убеждении, что она необходима для спокойствия ее мужа. Наемная женщина приходила каждое утро убирать маленькую квартиру и приносила провизию, но все хозяйство лежало на обязанности моей матери. Нередко случалось, что, когда мой отец не обедал дома, она ела один только хлеб и радовалась той мысли, что на следующий день может угостить его более порядочным обедом. Кофе был, разумеется, роскошью при таком хозяйстве, но она, не желая лишать своего мужа любимого напитка, обыкновенно давала ему каждый день шесть су, чтоб он отправлялся в кафе «Режанс» выпивать свою чашку и смотреть на игру в шахматы.
В это время он перевел с английского языка «Историю Греции» Станьяна и продал свой перевод за сто крон. Этими деньгами он несколько поправил свои домашние обстоятельства…
Моя мать разрешилась дочерью и была уже беременна во второй раз. Несмотря на ее осторожность, уединенную жизнь и старание всюду выдавать своего мужа за брата, до его семейства в провинции все-таки дошли слухи, что с ним в квартире живут две женщины, вследствие чего происхождение, поведение и характер моей матери сделались предметом самой гнусной клеветы. Отец мой заранее предвидел, что переписка не поведет ни к чему и может продолжаться до бесконечности, а потому посадил свою жену в почтовую карету и отправил к родителям в Лангр. Перед этим она только что разрешилась сыном. Уведомляя об этом своего отца, он также сообщил ему и об отъезде моей матери. «Она уехала вчера вечером, – писал он, – и через два дня будет у вас. Вы можете сказать ей, что вам будет угодно, а если она надоест вам, то пришлите ее сюда обратно». Как ни странно было это известие, родитель моего отца все-таки решился послать ей навстречу свою сестру. Первое знакомство было довольно холодно, но вечер показался ей уже не так тягостен, а на следующее утро она вошла в комнату своего тестя, встретилась с ним, как с родным отцом, и ее ласковый, симпатичный характер очаровал доброго, чувствительного старика. Она немедленно принялась за работу, не пренебрегала ничем, чтоб только угодить семейству; теперь она уже не боялась его и желала только заслужить его расположение. Вообще ее присутствие производило самое благоприятное впечатление на стариков, а ее простота, скромность, умение хозяйничать заставили их полюбить ее еще более, так что даже намерение лишить моего отца наследства было отменено. Добрые люди удержали ее у себя три месяца и затем отправили обратно в Париж, снабдив ее всем тем, что они считали для нее полезным и приятным».
Вся эта идиллическая жизнь писателя рассказана просто, изящно, но в самой музыке этой идиллии слышится резкий диссонанс (может быть, музыканты тому виною); впрочем, где люди, там и зло.
«Эта поездка, – пишет мадемуазель, – стоила моей матери немало слез». Что скажет читатель, когда узнает, что мсье Дидро в это время завел связь с некой г-жой де Пюизье и встретил свою честную жену холодно и сухо. Г-жа Дидро два раза ездила в Лангр, и обе поездки были невыгодны для ее спокойствия.
Отношение его к Пюизье, которую он не только страстно любил, но для которой трудился и добывал деньги, продолжались десять лет, но наконец, убедившись в ее неверности, он оставил ее; за этой связью, по-видимому, последовали другие связи в подобном же роде.
Но когда много выстрадавшая жена воротилась из своей второй поездки в Лангр, то узнала, что он вошел в близкие отношения с некой девицей Волан, дочерью вдовы одного чиновника. Ей он посвятил всю остальную свою жизнь, «деля свое время между ней и наукой», и ей же мы обязаны настоящею «внебрачной» перепиской. Своей законной жене он предоставил только обязанность готовить ему кушанье и по возможности поддерживать согласие в доме.
Увы! Его Пюизье казалась ему пустой, продажной женщиной, для испорченной души которой могли служить нишей только одни неприличные книги, а пожилая девица Волан представлялась ему чувствительным благородным сердцем, нежной и доброй душой. И при этом обеды жены из черствого хлеба, шесть су, сбереженные ею на чашку кофе! Безумный, едва извиняемый Дидро! Жесткое, но справедливое слово «подлость» – означает несправедливость и должно быть предоставлено только подлецам. Потому, что твоя оскорбленная жена, которой ты клялся совершенно в других вещах, будет своими собственными страданиями, которые ты выставил в таком непривлекательном виде, возбуждать искреннее участие и истинное сожаление, что тяжелые испытания, вызванные расчетами и самоуслаждением мужчины, не выпали на долю другой, более недостойной женщины.
Но, отвернувшись от беспорядочной семейной жизни, которая бы позорно распалась, если б жена не была разумнее и энергичнее мужа, мы видим, как наш философ пролагает себе заметную дорогу в литературном мире и этим способом наконец заручается постоянным куском хлеба. На «Историю Греции» Станьяна и на переведенный им с английского «Медицинский словарь», без имени автора, все издатели смотрят как на книги, не имеющие никакой цены. Подобная же участь постигает его «Очерк о достоинстве и добродетели», составленный им по «характеристикам» Шефтсбери. В этой книге, с ее примечаниями, проникнутой непроходимою ложью, мы встречаем только подтверждение старого, не раз высказанного мнения, что идея знаменитого сочинения Шефтсбери, если в нем только есть идея, в высшей степени ненадежна, скользка и, подобно угрю, выскальзывает из рук, оставляя нас одних на песке.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.