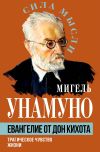Текст книги "Герои, почитание героев и героическое в истории"

Автор книги: Томас Карлейль
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 30 (всего у книги 72 страниц)
Первое февраля – великий день передачи ожерелья. Бёмер находится в Страсбургском дворце; его вид официально-таинственен, и хотя лицо значительно осунулось, но все-таки сияет восторгом. Сена не поглотила его, и если он теперь худ, то пополнеет вскоре и примется за новые предприятия.
Нам бы показалось странным, если б мы к тому не привыкли, что при имени входящего Бёмера склоняются все алебарды гайдуков; глаз истории видит, как он с сияющей улыбкой низко раскланивается в приемной зале, обтянутой красным бархатом. Не угодно ли монсеньору взглянуть на пес plus ultra ожерелий? Чудо искусства, не имеющее равного себе в мире (только нужда заставляет бедных ювелиров), должно быть продано за такую низкую цену. Ювелирам придется долго ждать, пока они покроют свои убытки, но по крайней мере произведение их нашло достойную носительницу и перейдет в отдаленное потомство. Монсеньору остается только расписаться в получении, остальное зависит от султанши Высокой Порты. Придворный ювелир, поощряемый ясным взглядом монсеньора, старается при этом изобразить на своем радостном, хотя и осунувшемся лице, многозначительную улыбку. Вот первое из трех реально-поэтических представлений, поставленных нашим драматургом с полным успехом.
Спустя долгое время после этого говорили, что монсеньор и даже Бёмер должны были знать, что подпись королевы: «Да. – Мария-Антуанетта Французская» – подложная; слово «Французская» было роковым для них. Хорошо говорить и критиковать! Как могли это знать два заколдованных человека, одержимых положительной и отрицательной идеей, готовых соединиться для удовлетворения своих страстей и желаний? Итак, в руках монсеньора чудное ожерелье, добытое храбростью мужчины и ловкостью женщины, и он с таинственной поспешностью летит с ним в Версаль, как торжествующий Ясон с золотым руном.
Второе великое представление нашего драматурга-графини происходит уже в следующий вечер в ее собственной комнате в Версале. Это довольно большая комната с альковом, а в алькове стеклянная дверь. Монсеньор входит, за ним следует лакей с таинственным ящиком, который он ставит на стол и почтительно удаляется. Это – ожерелье во всем своем блеске. Наша благодетельница-графиня, монсеньор и мы можем на свободе дивиться королевскому талисману и поздравить друг друга, что наконец трудная победа решена.
Но тише! Раздается стук, легкий, но решительный, произведенный как бы лицом, власть имеющим. Монсеньор и мы удаляемся в альков, чтоб наблюдать в стеклянную дверь, что происходит в комнате. Кто входит? Дверь отворяется настежь! Вглядитесь, монсеньор, хорошенько в вошедшего, он вступил в комнату с серьезно-почтительным, но официальным видом. Это достойный камердинер королевы, Лекло, тот самый, который сопровождал нашу графиню в достопамятную лунную ночь. Разве мы не говорили, что увидим его опять? На мой взгляд, несмотря на королевскую ливрею, он очень похож на Вильета-плута. Плут или камердинер (для слепых все цвета одинаковы) с серьезно-почтительным и официальным видом получил ящик и хранившуюся в нем драгоценность, с подобающим при этом случае наставлением, и, низко кланяясь, удалился.
Так тихо, незаметно, подобно сновидению, исчезло наше массивное ожерелье.
Глава XIII Сцена третьяВ это самое время приезжает из Лиона сам граф Калиостро. Не по шифрованным предсказаниям, а по его живому голосу, имеющему общение с незримым миром, посредством «графина и четырех свеч», по его жирному лицу, напоминающему морду бульдога, мы можем вполне убедиться, что все идет хорошо и все послужит «во славу монсеньора, во благо Франции и человечества» и египетского масонства. «Токайское льется, как вода», наша восхитительная графиня с ее пикантным личиком еще бойчее прежнего и блестящими остротами, ловкою лестью подслащает это пиршество богов. О ночи, о пиры, вы слишком великолепны, чтоб длиться долго! Теперь идет третье сценическое представление, блестяще приспособленное, чтоб изгнать малейшую тень заботы из души монсеньора. – Почему до сих пор не принимает меня королева?
Терпение, монсеньор! Ты мало знаешь эти интриги, она, может быть, борется с ними, молча, подавив негодование, подобно львице, бьющейся в тенетах охотника. Да разве твой труд не кончен? Она восхищается ожерельем, украдкой любуется, как весь блеск его отражается на ее чудной шее, шее Юноны, что может засвидетельствовать наша благодетельница-графиня. Приходи завтра в Oeil-de-Boeuf и посмотри при дневном свете, как ты уже видел в темную ночь, медлит ли ответом королевское сердце. Отправимся вместе с монсеньором в Oeil-de-Boeuf, в версальскую галерею, – туда впускают всех порядочно одетых людей, – там пройдет она, дивная, к обедне, во всем королевском величии.
На всех меховые платья, все веселы, радостны, у всех носы посинели от холода. Бойкий, оживленный разговор слышится всюду: говорят о катанье на санях, о придворных увеселениях, холодной погоде, прочности Калонна, о вчерашних взглядах их величеств – одним словом, идет разговор, который с тех пор как Людовик Великий создал эти священные покои, более или менее оживлял нашу атмосферу.
Сколько лиц прошло и исчезло в этой длинной высокой галерее! – Лувуа с великим королем, бросающим на него пламенные взоры; в его руках щипцы, которые едва удерживает благочестивая Ментенон. Лувуа, где ты? А вы, маршалы Франции, вы, неведомые женщины исчезнувших поколений, – где вы? Здесь так же гремели «раскаты, подобные грому» придворной толпы в ту мрачную минуту, когда погас свет в комнате Людовика XV и его смердящий труп лежал один на смертном одре, на руках каких-то бедных женщин, между тем как придворные бежали от мертвеца, чтоб приветствовать новое восходящее светило. И они пошумели и прошли, и их «раскаты, подобные грому» замолкли. Люди – это быстро исчезающие тени, сменяющие друг друга, а Версальский дворец – разве он не похож на караван-сарай? – Монсеньор, перестань хмуриться в такой светлый день! Может быть, дивная, слегка повернув свою головку, бросит взгляд на Oeil-de-Boeuf! Да, если угодно небу, она сделает это – так по крайней мере обещала графиня, но, увы, как непостоянны женщины!
Но тише, вот отворяются двери. Она сходит по восточной лестнице, подобно луне в серебристом сиянии. – Идет королева! Что за фигура! Я (с помощью очков) могу разглядеть ее. О, чудная, дивная! Пусть смолкнет пошлый говор и пусть неумолкаемые крики: «Да здравствует королева», – подобно фейерверку, озаряют ее путь. О, бессмертные боги! Она поворачивает голову в нашу сторону, она кланяется. – Видели вы? – говорит де Ламотт. Версаль, Oeil-de-Boeuf», все люди и предметы утопают в целом море света, – монсеньор и эта кивающая голова остались одни только в мире…
О, кардинал, что за чудное видение! Наслаждайся им, пережевывай его и снова наслаждайся полной душой, – это последнее наслаждение, назначенное тебе. Скоро, не далее как через шесть месяцев, твое чудное видение, подобно видению Мирзы, постепенно исчезнет, и только быки да бараны будут пастись на этом месте, а ты, как проклятый Навуходоносор, будешь вместе с ними щипать траву.
«Разве она не смотрела сюда?» – сказала графиня де Ламотт. Что это было ее обыкновением, что не проходило дня, чтоб она не делала этого, – об этом, разумеется, графиня не промолвила ни слова.
Глава XIV За ожерелье не может быть уплаченоТеперь мы можем сказать, что весь специально-драматический труд графини де Ламотт окончен. В остальной части своей жизни она является уже актрисой или актрисой и критиком; да и что такое была вся ее прежняя жизнь, как не лицемерие, более или менее удачное разыгрывание ролей? О, «двуличная дама» (как говорит старик Биньян), каким талантом владеешь ты! Даже Протей не менял так часто образа, даже хамелеон не менял так часто цвета. Одним лицом ты была для монсеньора, другим – для Калиостро и Вильета-плута, третьим – для мира в напечатанных «Записках», четвертым – для Филиппа Egalite, одним словом – ты была все для всех!
Теперь пусть она потрудится разыграть свою роль со всей артистической иллюзией и осветит критическим объяснением свою прошедшую драматургию в глазах монсеньора и других. В этой, а не в новой драматической деятельности должен заключаться ее труд. Драматические сцены последуют сами собою, в особенности четвертая и последняя сцена, которая, как мы упоминали, принадлежит другому автору – самой судьбе.
На театре Ламотт, так несходном с нашим обыкновенным картонным театром, представление идет даже и тогда, когда нет машиниста. Странно, что эти воздушные видения, являющиеся, при помощи волшебного фонаря, во мраке ночи, так крепко ухватились за мир, кажущийся столь массивным (некоторые называют его материальным миром, как будто это делает его более действительным), и опрокидывают все эти массы. Да, читатель, это случается в здешнем мире. То, что мы называем вымыслом мозга или иллюзией, – разве это не ткань мозга, духа, живущего в мозгу и который в этом мире (его скорее, по моему мнению, следует назвать духовным миром) двигает и переворачивает все предметы, встречающиеся ему на небе и земле. Так и с ожерельем. Хотя мы видели, что оно исчезло, как сновидение, и, как полагаю я, уже ни один человек не увидит его более, но все-таки деятельность его не кончилась. Ни одно человеческое деяние, ни одна вещь не утрачиваются, если даже и исчезают, но действуют еще значительное время, в течение бесчисленных годов, действуют невидимо и бессознательно.
Так загадочно-волшебен наш древний действительный мир, который некоторые называют тупым и прозаичным. Друг, ты сам превратился в тупую прозу, ты сам безжизнен, как зола, – убедись в этом (я советую тебе) и старайся страстно, со страстью, доходящею до отчаяния, исцелиться от этого зла.
Но что подумает между тем чувствительное сердце, когда узнает, что монсеньор де Роган, как мы предсказывали, опять испытывает непостоянство двора. Несмотря на все чудные видения, преследующие его днем и ночью, королева, со свойственною прекрасному полу неблагодарностью, по-видимому, избегает его. Не думая удалять его ненавистного соперника, министра Бретеля, и не осыпая открыто почестями монсеньора, она только изредка дарит его золочеными автографами самого капризного, подозрительного, раздражающего душу свойства. Какие страшно нелепые взрывы, которые едва, с помощью графина и четырех свеч, может успокоить Калиостро, волнуют монсеньора! Сколько самых унизительных просьб, объяснений излагает он с самым пламенным красноречием и ловкой дипломатией в письме, переданном нашей покровительницей-графиней, но все напрасно! О, кардинал, какой железной палицей, подобной палице Гая Уорвика, разбиваешь ты видения, которые снова кружатся над твоей головой, принимают образ, – так, что ты только рассекаешь воздух!
Единственное утешение, впрочем, заключается в том, что королева может быть сама скомпрометирована. Разве трианонская роза не хранится здесь? Разве «Да. – Мария-Антуанетта Французская» также не в твоих руках, разве 30 июля, день первого платежа, не близок? Она должна будет сдаться. Вели готовить лошадей и гайдуков для поездки в Саверн, прекрати с ней все письменные и устные сношения, мори ее голодом, пока она не сдастся. Теперь великолепный май, и кардинал, окруженный грезами, снова прогуливается в розовой аллее, но теперь с сухими, невеселыми глазами и страшно топая ногой.
Но кого я вижу верхом на великолепно убранном коне, кто этот всадник, держащий пари на ньюмерктских скачках, не знающий ни слова по-английски и которому некто шевалье О’Ньель и капуцин Макдермот служат переводчиками? Несколько дней тому назад я видел его на Флит-стрит, задумчиво проходящего через Темпл-Бар. Он горячо толковал с ювелирами Джеффрейсом и Греем20, предлагая им купить бриллианты. Это высокий, красивый мужчина с усами, с плутовским и беспокойным взглядом. Вы, наверное, узнаете в нем графа де Ламотта, да он и сам сознается в этом. Бриллианты были подарены его жене доброй и щедрой королевой.
Удалось ли ему совершить свою сделку в Амстердаме? Мне еще придется его увидеть, но уже не на ньюмерктских скачках, а в женевских тавернах распивающим вино и водку. Неправильно приобретенное богатство непродолжительно, а у плутов нет денежных сундуков. Для каких прожорливых бездельников трудилась ты, графиня де Ламотт, и трудишься еще теперь!
Трудишься, говорим мы, потому что когда наступит 30 июля, то тебе останется только ждать всеобщего землетрясения, взрыва грязного вулкана, который бы залил грязью всю природу. Будь у меня твоя обувь, графиня, я бы бежал. «Бежать! – восклицает она с негодованием. – Бежать оклеветанной невинности?» Странно, что во многих душах, которые суть не что иное, как бездонная «хаотическая пучина позолоченных лоскутьев», вовсе нет обдуманной лжи, веры или отрицания и они только способны говорить и слушать.
Владела ли Ламотт некоторым величием характера или крайней дерзостью? Велик, несомненно, велик ее драматический талант, но что касается остального, то мы положительно ответим: нет. Двуличной даме, «искре пламенной жизни», далеко до женщины-героини. Ни при одном обстоятельстве не выказала она женского героизма, но только отличалась визгом и страхом. Ее главное качество скорее отрицательно: «неприручимость» мухи, «непромокаемость клеенки», с которой многое стекает, как вода. Маленьких воробьев, как я слышал, учат стрелять из пушки, но они были бы плохими артиллерийскими офицерами в битве при Ватерлоо. Ты не назовешь эту пробку отважным пловцом, а между тем она безопасно может плыть по Ниагарскому водопаду, и даже удар молнии только на одно мгновение погрузит ее глубже. Как мужествен был бы человек без ума, воображения, наблюдательности, если б у него был только один двигающий мотив – голод! На какое угодно дело можно отважиться, если не думаешь о нем и не сознаешь его. – Разве нелепый, бесстыдный Калиостро еще здесь? Ни у одного козла отпущения не было такой широкой спины. А у кардинала разве нет денег? Королеву даже не следует оскорблять на картинах – Субизы, Марсаны и могущественные кузены должны затушить дело, а оклеветанная невинность при общем землетрясении сумеет найти щель, сквозь которую она пролезет, как случалось ей пролезать уже не раз.
Но как поживает теперь кардинал, прогуливающийся по розовой аллее и нетерпеливо топающий ногою? Увы, все хуже и хуже. Метода заморить голодом, как ни странна она, не может принудить к сдаче. После ожиданий, длившихся целый месяц, наша покровительница-графиня приносит только золоченый автограф, «перевязанный шелковым шнурком и с печатью, где этот шнурок скрещивается», но мы читаем его с проклятием.
Мы должны снова ехать в Париж, писать новые объяснения, которые наша неутомимая графиня берется передать по назначению, но, к сожалению, не может добиться ответа. А 30 июля приближается. 19-го числа приходит коротенький, небрежный автограф со вложением полутора тысяч фунтов наличными деньгами, чтоб заплатить проценты по первому сроку, так как уплатить все 30 000 теперь невозможно. Голодный Бёмер вытаращил глаза при этом предложении, он желает получить не проценты, а часть уплаты; он – человек положительный и обратится к суду, если не будет других средств получить остальные деньги.
Государственный откупщик Сен-Джеймс, ученик Калиостро, весь пропитанный токайским, готов по желанию королевы ссудить ее необходимой суммой, но думает прежде переговорить с ее величеством. Между тем голодный Бёмер мечется во все стороны, преследуемый не господствующей идеей, а более страшным «призраком» – что деньги не будут уплачены. Однажды ему случилось разговориться об этом с камер-фрау королевы (мадам Кампан) «во время грозы, которой они не заметили», потому что были ошеломлены лучше всякого грома. Какое дурное предвещание кардиналу!
30 июля наступило и прошло, а денег все нет. Плохо простился ты, кардинал, с этим месяцем в 1785 году! Июль прошедшего года был проведен тобою среди небесных звуков и роз Трианона. А что сулит предстоящий август, – не лучше ли вычеркнуть его вовсе из календаря? Ты еще видишься с Бёмером и Бассанжем, но возвращаешься от них с «проклятиями». Но что там еще за новое несчастье? Наша покровительница-графиня входит к кардиналу со смущенным видом, она сейчас только из Версаля. Королева, со свойственным ей капризом, который мы даже не осмеливаемся характеризовать, отрицает, чтоб она когда-нибудь получала ожерелье или имела с кардиналом по этому поводу разговор. Извержение было редкое даже в вулканических летописях. Страсбургский дворец, по-видимому, окружен шпионами; Ламотты – граф также здесь – укладываются, чтоб ехать в Бар-сюр-Об. Сошел ли с ума Бёмер или имеет тайное совещание с Бретелем?
Итак, при всеобщем смятении природы начинается четвертое, последнее, представление, сочиненное судьбою.
Глава XV Сцена четвертая15 августа – день успения Богородицы. Возложи на себя полное облачение, великий раздаватель милостыни; забудь все отвратительное земное. Во всяком случае, придай своему лицу величавый и спокойный вид: тебе предстоит совершать богослужение, в котором ты займешь первое место.
Великий раздаватель милостыни исполнил это и теперь находится в Версале, в галерее Oeil-de-Boeuf, где собралась вся знать мужского и женского пола и вся благородная Франция в праздничном наряде, сверкая и блестя, как радуга, и ожидая богослужения. На величаво-спокойном лице кардинала нельзя ничего прочесть21. Но, небо! Его требуют в королевские покои.
Он возвращается с тем же величавым, загадочно-спокойным лицом. Не настала ли и для него очередь милости? Выходит барон Бретель, гордясь своим достоинством в эту торжественнейшую минуту жизни. Одним лучезарным глазом он подзывает к себе дежурного офицера, а другой устремляет на монсеньора и говорит: «Именем короля, монсеньор, вы арестованы! Вы отвечаете за него, офицер!» Мрачное, свинцовое облако спускается на монсеньора, как вихрь подхватывает его и несет в страшную бездну. Версальская галерея вздрогнула, как будто Гай Фокс произвел под ней взрыв.
«Королева плакала», – шепчут некоторые. Службы не будет.
В Европе от одного конца до другого разнеслось это событие. Но зачем скачет этот гайдук, как будто все дьяволы гонятся за ним? Гайдук послан монсеньором, который у дверей своего версальского отеля успел сказать ему несколько слов по-немецки и сунуть в руку записку, написанную карандашом. В Париж! В кардинальский дворец! Лошадь, войдя в конюшню, издыхает, гайдук, переступив порог кабинета, лишается чувств, записка выпадает из рук, но «я (говорит аббат Жоржель) был тут». Красный портфель, содержавший в себе золоченые автографы, сжигается, прежде чем явится Бретель, чтоб наложить печати. Вследствие того Европа, внимая различным слухам, теряется в догадках и даже в настоящее время, на этих страницах, видит это дело в таком интересном полусвете.
Вскоре граф Калиостро и его Серафима присоединяются к монсеньору в государственной тюрьме. Через несколько дней за ними следует графиня Ламотт из Бар-сюр-Оба, девица д’Олива из Брюсселя, Вильет де Рето из швейцарского уединения в женевских тавернах. Бастилия открывает им всем свое железное лоно.
Глава последняя Missa estПосле того как бриллиантовое ожерелье исчезло, как сновидение, и под щипцами Ламотта и Вильета потеряло свою индивидуальность и существование, а те, которые промышляли им, сидят теперь под замком в ожидании знакомства с правосудием, мы считаем свою обязанность относительно этого дела поконченною. Этот необыкновенный Proces du collier, продолжавшийся девять вечно памятных месяцев, к изумлению ста восьмидесяти семи членов парламента, журналистов, падких до новостей, рассказчиков и сатириков обоих полушарий, во всяком случае, процесс замечательный. Как при такой массе очных ставок, перекрестных допросов, уверток и запирательств, утомлявших глаз и душу, эта запутанная ложь наконец обнаружена до самых скандалезных и смешных подробностей, пусть расскажут другие.
Сколько в течение этого девятимесячного процесса, кончившегося вместе с маем 1786 года22, было напечатано в газетах или памфлетах ложных и вымышленных известий и какая куча гниет их еще в рукописях, мы не можем сказать, не имея полного собрания этих материалов, да, впрочем, и не чувствуя в них надобности. Тем не менее, отыскивая капитель сложного ордера для оконченной ныне замечательной колонны нашего рассказа, мы не могли найти ничего лучше нижеследующей речи, к тому же, как нам известно, нигде не изданной.
Речь графа Александра Калиостро, тавматурга, пророка и архишарлатана, произнесенная в Бастилии, в лето от Люцифера 5789, от бегства Магомета из Мекки 1201, от бегства Калиостро из Палермо 24, обыкновенной эры 1785.
«Братья-мошенники! Невыразимая интрига, сотканная Цирцеею-Мегерою, при нашей добровольной или недобровольной помощи, соединила нас всех если не под шатер одного дерева, то по крайней мере в мрачных стенах, окованных железом. В продолжение назначенного числа месяцев, в вечно движущемся потоке времени, мы, собранные со всех четырех концов мира, трудились, по воле судьбы, как особая корпорация, над делом, известным всему миру, и, подобно древним аргонавтам, приобрели общее название «завоевателей бриллиантового ожерелья». Пройдет немного времени (тюремные стены не могут вечно держать свободных людей в заключении), и мы рассеемся снова по всему обширному пространству, некоторые из нас, может быть, перейдут самые пределы пространства. Наши деяния не разъединены и чудесно хранятся в древнейшей памяти людей, между тем как мы, маленькая шайка мошенников, так далеко рассеемся друг от друга, что, может быть, свидимся только в день Страшного суда, в последний из дней!
В подобные интересные минуты, когда мы готовы расстаться, но еще не расстались, недурно, полагаю я, высказать в этих уединенных пространствах несколько общих размышлений. Меня, как публичного оратора, заставляет это сделать присущий мне дух масонства, философии, филантропии и даже пророчества.
Прислушайтесь, товарищи-мошенники, что говорит дух, сохраните это в сердцах ваших и руководствуйтесь им в жизни.
Хотя вы и заключены в эту, говоря метафорическим языком, центральную клоаку природы, где тиран Делоне ограничивает свободу телесного глаза, но тем не менее вы обладаете духовным оком, которым можете видеть лучше. Разве эта центральная клоака не есть сердце, в которое таинственные каналы вводят отовсюду и насильно впрыскивают все, что есть самого избранного в земном мошенничестве, чтоб оно поглощалось в нем или (другим желудочком) выбрасывалось новым путем? Пусть духовное око обозрит эту артериально-венозную систему и подивится величавому развитию мошенничества и его, так сказать, неисчерпаемому значению. Да, братья, наше царство всюду, где только светит солнце; оно обширнее древнего Рима в самую цветущую его пору. В моей жизни мне случалось быть в отдаленных странах: я был в холодной Московии, в знойной Калабрии, на востоке, западе, везде, где небесный свод расстилается над цивилизованным человечеством, и нигде не был я чуждым пришельцем, потому что находился всегда в кругу мошенничества. Разве в самые отдаленные времена противная партия не высказала, что «всяк человек есть ложь»? Разве не толкуют люди с плачем об «одном праведнике», а об остальной тысяче, кроме одного, выражаются как о действующей с нами? (Рукоплескания.)
О красной особе, – монсеньор, не оскорбляя вас, – заседающей на семи холмах, и об ее иезуитской милиции, фуражирующей от полюса до полюса, я не говорю, потому что эта история уже слишком приелась, да и самая милиция, вследствие измены, распускается и превращается в инвалидную команду. О правительствах я также умолчу по той же причине… Также не буду я говорить о волокитстве с его клятвами в любви, о придворной жизни, об адвокатах, публичных ораторах и аукционах, – я только спрошу моего противника, где то ремесло, призвание или профессия сынов Адама, которыми бы они с большим успехом могли заняться другим способом? На этот вопрос он не в состоянии отвечать. Даже сама философия, как практическая, так и умозрительная, после бесплодных усилий пришла наконец к тому заключению, что обман так же необходим для действительности, как ложь для всякого живущего, что без лжи вся деятельность мира превратится в анархический беспорядок и быстро пойдет к концу.
Но великая задача, товарищи, если хотите знать, заключается в союзе истины и обмана, союзе, составляющем одну плоть, из которой уже образуются: польза, пудинг и респектабельность, владеющая «джигом».
И в самом деле, удивительно, как истина перепутывается с обманом. Действительность покоится на грезах, истина есть только оболочка бесконечной лжи, которую ложь от времени до времени сбрасывает, и устарелая истина снова делается басней. Таким образом, все враждебные элементы накапливаются в нашем царстве и их наплыву нет конца.
О, братья, вспомните только о речах без смысла и речах с противоположным смыслом, фабрикуемых органами человечества в какой-нибудь торжественный, юбилейный день, когда даются публичные обеды и произносятся застольные речи или происходят выборы на каком-нибудь соседнем острове! Бессмертные боги! Ум теряется и в каком-то священном благоговении дивится только богатству природы.
Скажите мне, в чем заключается главная цель человека? «Славить Бога», – говорит древнее христианское чувство. «Есть и находить яства легчайшим способом», – отвечает жалкая философия. Если известен способ, которым эта цель еще быстрее достигается, чем убеждением и соблазном, то укажите мне его!..
Но при этом, товарищи-мошенники, мы также не без религии, не без культа, который, как и всякий древний и истинный культ, есть культ страха. У христиан есть свой крест, у мусульман полумесяц, а у нас разве нет виселицы? Бесконечно ужасна эта виселица, которая высится на обрыве бездонной пропасти. Мы не манихеи – у нас один Бог! Велика, страшно велика, говорю я, виселица еще издревле, даже с начала самого мира. Она не знает ни перемен, ни упадка и над всеми разрушениями времени, над всеми политическими и религиозными переворотами, возмущениями черни и революциями гордо воздымает свое чело. Товарищи, бойтесь только виселицы и не имейте другого страха. Когда она своей длинной черной рукой схватит человека, что ему все земные блага? Земля с ее шумом и гамом исчезнет из его глаз, и несчастный бездельник висит между небом и землей, отвергнутый ими обоими. (Глубокое впечатление).
Так же обширно и высоко, как виселица, и царство мошенников, а что касается глубины, то оно глубже основы мира. Ибо что такое мироздание, согласно мнению лучших философов, как не нарушение, насильственное нарушение духом времени (или дьяволом) древнего покоя вечности. Люцифер пал, а вследствие его падения восстал этот величественный мир. Да, наше царство глубоко, самая мысль, погрузившись в эту глубь, старается как можно скорее вынырнуть. Так называемый порок лжи древен, как хаос – это лоно смерти и ада, над которым добродетель и истина носятся, как легкий пар, и то на один день. Что такое добродетель, как не обработанный, искусственно сделанный порок? «Пороки людей – это корни, из которых вырастают их добродетели и видят свет», – сказал некто. «Да, – скажу я, – и неблагодарно крадут свое питание». Если б не было девятисот девяносто девяти признанных, может быть, замученных и оклеветанных мошенников, возможен ли был бы тогда хотя б один праведник? О, это слишком возвышенно для меня; разум и фантазия опускают свои усталые крылья, душа теряется и…»
Тут графиня де Ламотт громко хихикнула и проговорила: «Coq d’Inde» (индейский петух). Архишарлатан, взор которого в восторженном созерцании был углублен в самого себя, вздрогнул, услыхав этот смех; зрачки его глаз расширились, ноздри раздулись, даже самые волосы, казалось, стали дыбом на его длинных космах, а так как негодование иногда вызывает поэзию, то он ударился в пророчество, по крайней мере пророчеством звучали его слова. С лицом, искаженным гневом, жестикуляциями, которые не рекомендует ни одно приличие, начал архишарлатан неестественным голосом, напоминавшим рев льва, терзающего буйвола:
«Не смейся, графиня де Ламотт; трепещи, отвергнутая Цирцея-Мегера; день скорби близок. Взгляни на синедрион судей, разоблачивших тебя, – и ты стоишь нагая и опозоренная. Вильет, Олива, вы выболтали тайну! Вы не имеете сострадания к ее положению, она не сочувствует вашему. Тяжело ли, наконец, твоему легковерному, неприручимому сердцу? Слышите, это визг преступницы, которой прижигают оба плеча раскаленным железом; красный знак «V», ты, воровка (voleuse), проник ли в твою душу? Плачь, Цирцея де Ламотт, вой на своем ложе, скрежещи зубами, старайся задушить себя своим грязным одеялом. Ты нашла себе товарищей, ты в тюрьме Сальпетриер! Плачь, о дочь могущественного вельможи, утратившего свои «невыразимые». Что делать с тобой королевскому суду, грязное существо, пока ты жива? Беги, беги в отдаленные страны и скрой там, если можешь, твое клеймо Каина. В туманном Вавилоне – это мой Лондон – вижу я Иуду Искариота – Egalite! Печатайте, печатайте в изобилии всю гнусность ваших сердец. Дыхание гремучей змеи может только на время отуманить светлую поверхность зеркала. И наконец, угнетаемая бедностью, бросилась ли ты, несчастная дочь могущественного вельможи, с высокой крыши, чтоб уйти от преследования судебного пристава, или в глухую ночь упала из третьего этажа на мостовую, выкинутая пьяными друзьями, которым надоел твой бойкий язык23? Да, в этом новом Вавилоне ты полетела головою вниз, пронзительный крик нарушил молчание ночи, и ты, как гнилое яйцо, лежишь разбитая «близ храма Флоры». О, Ламотт, кончила ли ты свое лицемерие? Ты переиграла все роли. Здесь же ты не играешь более, а представляешь только массу запекшейся крови, позора и отвращения, которую люди поспешно зароют в землю, не поставив и памятника. Падаль висельная!..»
Здесь пророк поднял свой нос (широчайший из всех носов XVIII столетия) кверху и раздул свои ноздри с таким выражением отвращения, что все слушатели и даже сама Ламотт последовали его примеру.
«О, графиня де Ламотт! – продолжал он. – Весь круг твоей жизни совершился, и мой глаз обозревает сорок три года, дарованные тебе, чтоб сделать столько зла. Когда я вижу тебя светлоокой оборванной девочкой, просящей милостыню в Булонском лесу, и, наконец, отвратительной массой на лондонской мостовой, когда я припоминаю твое щегольство, голодание, попрошайничество и истерический смех, наполнявший этот промежуток, то становлюсь в тупик и не знаю, какое значение придать твоему существованию.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.