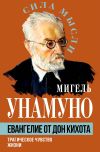Текст книги "Герои, почитание героев и героическое в истории"

Автор книги: Томас Карлейль
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 39 (всего у книги 72 страниц)
Дидро держится того убеждения, что в браке, как бы ни совершали его свято, заключается ошибка, сводящая все его значение к нулю. Это, по его мнению, самоубийственный договор, уничтожающийся уже при самом заключении: «Ты клянешься, – повторяет он два или три раза, как будто придает особый вес этому аргументу, – ты клянешься в вечной верности, стоя под скалою, которая в этот же момент разрушается». Ты прав, Дени, скала разрушается, все вещи изменяются, а человек изменяется еще скорее остальных предметов. Но под этим хранится еще неизменчивое, возвышенное и доброе начало, проникающее судьбу и действия человека и составляющее тоже истину, и трудно ожидать, чтоб механически философ сумел перемолоть ее в своей логической мельнице. Человек изменяется, и вследствие этого возникает вопрос: разумно ли с его стороны следовать слепо этой страсти к изменению, да и возможно ли это ему?
Между дуализмами вполне дуалистической натуры человека, по нашему мнению, выдается в особенности тот дуализм, что, вместе с постоянным стремлением к изменению, он наделен не меньшим стремлением противиться этому изменению. Если бы человеку суждено было только изменяться, то он, не говоря уже о браке, перестал бы пахать свои поля и до наступления осени потерял бы всякую охоту снимать жатву. Он возвратился бы тогда к кочующей жизни и поставил бы свой дом на колеса. Да и тут ему пришлось бы сдерживать свою страсть к переменам, потому что от беспрерывных передвижений его скот, не имея времени питаться травой, погиб бы с голоду.
О, Дени, что бредишь ты во сне! Каким образом человеку в этом мире постоянных отливов и приливов упрочить свой фундамент, как не тем единственно, что, заручившись вперед судьбой, при том или другом важном поступке в жизни, торжественно отказаться от перемены, волю подчинить неволе и один раз навсегда сказать: прочь дальнейшее сомнение! Да разве бедняк ремесленник, какой-нибудь чулочник, на станке которого ты работаешь в качестве дилетанта, не должен был сделать то же, когда подписывал свой контракт с хозяином? Глупец, наделенный всевозможными влечениями, охотно, может быть, сделавшись королем или императором, клянется (под страхом наказания) в вечной верности чулочному производству! А между тем без этого не были бы возможны хорошие ремесленники, а выходили бы жалкие недоучки, не могущие пропитать себя и годные только на пищу виселице. И какое чувство жило в той древней, благочестивой и мудрой душе, которая брак сделала таинством? Об этом грядущие Дени Дидро будут размышлять целые века и не разрешат вопроса.
И действительно, трудно вообразить себе большую либеральность, чем либеральность нашего друга Дидро в роли магистра нравов. Нередко бедный философ чувствует себя способным в век такой «спартанской» суровости нравов войти в непотребный дом и здесь воскликнуть: «Macte virtute! Замечательно!» Пусть следуют туда за ним те, которых интересуют эти вещи, мы же, имея на руках другое дело, пожелаем ему счастливого пути или, скорее, счастливого возвращения. О неделикатности и непристойности Дидро нам остается сказать здесь немного. Дидро не из тех людей, которых мы называем неделикатными и непристойными, но он циничен, скандален и чужд всякого стыда. Объяснять с лирическим бешенством, что это несправедливо, или со спокойствием историка настаивать на этом и тем приводить в ярость какое-нибудь чувствительное животное, считающее это обвинение преувеличенным, мы считаем излишним. Единственный, естественный исторический вопрос: «отчего происходит это?» – возможен только в этом деле. Что хотел доказать этот человек, не лишенный в другом отношении возвышенного ума, душевной теплоты, гуманности и необыкновенного остроумия? Для нас это только другая иллюстрация смелого, крайне логичного и последовательного механического философа. Она вполне согласуется с теорией Дидро – ни в человеке, ни в жизни нет ничего святого, химеры – не что иное, как химеры. Каким образом человек, – для которого все то, о чем не говорят в клубах, как бы не существует, – может иметь малейшее понятие о глубине, значении и божественности молчания, святости «тайн», известных всем?
Тем не менее природа велика, и Дени все-таки принадлежал к ее благороднейшим созданиям. В подобной душе не было недостатка в том, что мы называем совестью. Понимание нравственных отношений, разнообразное свойство этого понимания были по необходимости присущи ему. Но каким образом они могли быть ему присущи? Каким образом могла быть понятна бесконечность тому, кто в целом мироздании не заметил бесконечного? Удивителен метод Дидро и вместе с тем не удивителен, потому что мы видим и видели его каждый день. Если во всей вселенной нет ничего святого, то откуда явилась эта святыня, которую ты называешь добродетелью? Отчего происходит, что ты, Дени Дидро, не должен делать ничего несправедливого и не можешь, без внутреннего упрека, произнести ни одной лжи, если б даже тебе удалось завоевать весь Магометов рай со всеми его гуриями? Остается одно средство – это бесконечный лабиринт наград и похвал. Добродетель сама по себе есть уже награда и твердое убеждение, находящееся в противоречии с тяжкими испытаниями людей, начиная с Богочеловека, истекшего кровью на кресте, и кончая нами, читатель (если мы хоть раз исполнили свой долг), убеждение, что добродетель тождественна с удовольствием…
Таким образом, Дидро остается прибегнуть к одному из двух: или допустить вместе с Гриммом, что существуют «две справедливости», которым можно присвоить всевозможные прекрасные названия, но которые, в сущности, будут означать приятную или неприятную справедливость, из коих, впрочем, одна только будет обязательна.
Но здесь природа враждебно отнеслась к Дени. Он не был литературным придворным блюдолизом, но свободным, гениальным и поэтическим существом. Следовательно, остается второй способ: «убеждать все громче и громче», другими словами – сделаться сентиментальным философом. Но скучна постоянная болтовня о добродетели, честности, величии, чувствительности, благородных душах, – как невыразимо приятно и возвышенно быть добродетельным; так, черт побери, будьте добродетельны и замолчите наконец! Этим способом природа, несмотря на противоречия, заявила свою силу и божественность и приготовила для бедного, механического философа, так как самая сущность была скрыта от него, призрак, который и порадовал его.
Не должны ли мы, в заключение и в силу различных оснований, протянуть с благодарностью руку нашему несчастному механическо-сентиментальному философу с его громкими проповедями и скудным результатом? Во всяком случае, необходимо, чтоб логическая сторона дела была одинаково полезна. Много замечательных учений вращается теперь в мире, в особенности учение о нравственности. Желательно бы было, чтоб сбылось предсказание и аскетическая система не возвратила бы себе исключительного господства. Как бы то ни было, самоотрицание, уничтожение собственного «я» должно сделаться началом всякого нравственного действия. У кого есть глаза, тот может подметить зачатки более благородной системы, с которой первая составляет один гармонический элемент.
Кто знает, например, какие новые открытия и сложные методы ожидают нас, пока установится истинное отношение нравственного величия к нравственной правильности и их обоюдное достоинство? Каким образом полная терпимость неправды может ужиться с тем убеждением, что право к неправде находится в том же отношении, в каком находится бесконечное к противоположному бесконечному? Одним словом, каким образом после столь бурных превратностей, ложных усилий, увеличивающих еще более замешательство, будет понятно человеческому сердцу, что добро собственно не высочайшее, но прекрасное качество, что истинно прекрасное, отличающееся от ложного, как отличается небо от Валгаллы, заключает в себе доброе начало? В будущих веках поймут, что Дидро, действуя и признавая с полным убеждением, что огромная масса признает только наполовину и без убеждения, добивался результата, хотя странным и извращенным путем…
Второе качество, прославившее его, – искусство, с которым он умел говорить. Смотря с высшей точки зрения и как полагают его почитатели, его философия не столько заслуживала удивления, сколько заслуживал способ, которым он ее передавал. Как высоко ценится его философия, мы уже говорили, но что относительно изложения она была действительно замечательна, – этому нетрудно поверить. У человека откровенного, полного надежд, одаренного разносторонним, пламенным и пытливым умом, должны быть и «уста золотые». Также необходимо согласиться, что каждый образ, созданный им, с замечательною ясностью отражался в нем. Но чтобы при этом речь Дидро, имеющая такое относительное достоинство, своим внутренним содержанием заслуживала бы великой похвалы, – еще подлежит сомнению. Достоинство слов прежде всего зависит от ума, которым они проникнуты, а в словах Дидро его было немного. Живость в изложении, блестящие обороты, теоретическая ловкость, остроумные парадоксы, веселость, даже признаки юмора – все это можно было встретить в речах Дидро. Но кто предпочитает этому откровенность, серьезность, глубину практических, а не теоретических знаний, пламенное слово, ясность, уверенность, юмор, выразительность, смотря по затронутой идеи, тому следовало бы отправиться в Лондон и со вниманием послушать нашего Джонсона. Итак, на нашей стороне сильнейший? Да, у всякой нации есть своя особая сила, как это доказала борьба Львиного Сердца с легким, проворным и неуязвимым Саладином.
Вместе с даром слова Дидро был также наделен способностью быстро сочинять. Об этом таланте приводят целые сотни истинно поразительных примеров. Рассказывают, что в одну неделю, даже в двадцать четыре часа, он успевал написать большое сочинение. К прискорбию, мы можем вполне убедиться в правдивости этих рассказов. Большая часть сочинений Дидро носит следы этой поспешности, так что они скорее напоминают печатный разговор, чем сосредоточенное, обдуманное слово, которое мы были вправе ожидать от такого человека.
Было сказано: «Он написал хорошие страницы, но не мог написать хорошей книги». Ясность, понимание предмета с первого взгляда – вот характер всех произведений Дидро. Ясность, переходящая в художественность, напоминающую изящную манеру Ричардсона или Дефо. Но, допустив, что его идея отличается ясностью, мы вместе с тем спросим: каково самое свойство этой идеи? Увы, эта идея большею частью поверхностна, в ней чуть-чуть брезжит более глубокая мысль. Во всех произведениях Дидро господствует больший или меньший беспорядок; вместо порядка мы встречаем только один призрак его, – делу недостает души. Он перескакивает через радиусы, центры, но попасть в них не может.
На этом основании поразительная литературная разносторонность и быстрота Дидро скорее вредна, чем полезна для него. Мы не говорим о приеме, который он встретил в мире: его век был веком специальностей, а между тем энциклопедист Дидро, вследствие других причин, умел завоевать себе порядочный успех. Но мы касаемся более важного последствия, именно, что он этим повредил своему внутреннему развитию. Могучее дерево не выросло в один красивый, тенистый ствол, на котором висят плоды и сучья, а напротив, достигнув умеренной высоты, оно распространилось вширь, пустило горизонтально свои бесчисленные ветви, которые хотя и небесполезны, но все-таки составляют второстепенную важность. Дидро следовало бы быть художником, а он сделался энциклопедическим ремесленником. Он не был недоучкою, но опытным работником, наделенным универсальною ловкостью своего рода. Он работал за многих, но его труд, во всяком случае, был по плечу каждому.
Может быть, нет писателя, о котором бы так много говорили и которого бы так мало знали; большинству он известен только понаслышке. Правда, это – обыкновенная участь полемических произведений, к разряду которых принадлежат почти все сочинения Дидро. Полемик уничтожает своего противника, но в то же самое время уничтожает самого себя, и оба исчезают, уступая место чему-нибудь другому. Если к этому прибавить небрежный, легко забываемый слог Дидро, то дело достаточно объяснится…
Какими словами выразить чистую прибыль этого наделавшего шуму атеизма, напечатанного во многих томах? Что сталось с «Энциклопедией», этим чудом XVIII века, Вавилонской башней просвещенной эпохи? Но к сожалению, это была не каменная башня, служившая силой и оплотом на все времена, а деревянный храм, в котором сидел философ, сжегший и истребивший немало ветхих, полуразрушенных Сорбонн. Так как это время миновало давно, то и самый храм можно разобрать и употребить на дрова. Знаменитое энциклопедическое дерево оказалось искусственным деревом и не принесло никаких плодов. Мы полагаем, что это дерево, по самому свойству, чисто механическое. Это один из тех экспериментов, посредством которых силились превратить невидимую, таинственную человеческую душу в прейскурант так называемых «способностей», «мотивов» и пр., которые составлялись с подобающим остроумием, начиная с д-ра Штурцгейма и кончая Дени Дидро или Иеремиею Бентамом, но оказывали пользу только на один день.
Тем не менее было бы ошибочно смотреть на Дидро как на исключительно механический ум, человека, слепо вертящего свое колесо на мельнице механической логики, довольного своею участью и не подозревающего существование другой. На него следует скорее смотреть как на человека, избавившего нас от этого и, благодаря своему механическому уму, доведшего все дело до кризиса. Дидро, как мы уже заметили, был от природы художник. Изредка через его механическую оболочку пробивается молниеносная мысль, свойственная поэту и пророку и которая при других условиях могла бы еще более проявлять свою силу.
Так и в художественном отношении на него следует смотреть как на одного из тех людей, которые неуклонно стремились из искусственной, узкой сферы того времени перейти в естественную, плодотворную сферу. Его драмы перестали существовать, но между тем в них заметно стремление к великим вещам. Это стремление остается при нас и старается осуществиться разными путями, даже осуществилось, и будет еще осуществляться. В его «Салонах» (критический обзор художественных выставок), написанных наскоро для Гримма и, к несчастью, о произведениях второстепенных артистов, виден верный взгляд на искусство, пламенное, не только критическое, но и творческое стремление к чему-нибудь совершенному. Благодаря их неподражаемой ясности, вследствие которой перед нами как бы рисуется вновь картина, мы можем видеть и судить о ней. Благодаря теплоте, оригинальности и художественному чутью, с которыми они написаны, их можно признать, за некоторыми исключениями подобных сочинений на немецком языке, единственными критическими статьями о живописи, достойными чтения. И здесь, как и в своих драматических опытах, Дидро является писателем, который считал необходимым во всяком произведении быть ближе к природе, подражать ей и верно передавать ее. Это глубокая, неизбежная истина, разрушающая старинное заблуждение, но в подобной форме она все-таки является только полуистиною, потому что искусство искусством, а природа природой. Но это стремление, в виде полуистины или настоящей истины, составляет в странах, знакомых с искусством, постоянную тенденцию художественного стремления. На этом основании великий современный знаток искусства и великий художник Гете перевел «Опыт о живописи» Дидро, который и можно прочитать вновь в его сочинениях.
Мы не без удовольствия должны заметить, что область искусства не была закрыта для самого Дидро. Несмотря на свое тесное заключение, он, подобно Прометею, все-таки похитил искру божественного огня. Между его бесчисленными произведениями, большая часть которых наполнена философской всякой всячиной, находятся два рассказа, которые мы почти можем назвать поэмами, – так много в них заключается поэзии. Это – «Фаталист Жак» и «Племянник Рамо». Здесь воспроизводится перед нами человеческая жизнь во Франции, отделенная от нас целым столетием, – «с высоты роскоши и изящества мы спускаемся на самую низкую ступень бесстыдства».
Оба рассказа написаны небрежно и бессвязно, но странною связью соединяются они с внутренним, бессознательным чувством художника. Докучливая трескучая острота умолкает, и вместо нее появляется мрачный, молчаливый, дьявольски дерзкий юмор, напоминающий юмор Хогарта. Во всей французской литературе мы не можем указать на произведение, которое могло бы сравниться с этими рассказами. Лафонтен слаб перед ними, а об остроумии какого-нибудь Лабрюйера нечего и упоминать. Эти рассказы скорее походят на «Дон Кихота», – действующие лица одинаковы, но окраска другая. В первом проглядывает солнечный луч, в последнем господствует мрак ночи. Оба, впрочем, принадлежат к области бесконечного. В «Жаке» также заметна спешная работа: автор старается его окончить, не употребляя тщательной отделки на изображение лиц и действия, но бросая просто краски на полотно – маневр, который в этом случае не имел большего успеха. «Племянник Рамо» меньше предыдущего рассказа, но его можно назвать лучшим из всех произведений Дидро. Он походит на речь Сивиллы, вылившуюся из переполненного сердца, и никогда еще эфемерному литературному явлению (это собственно сатира на Палиссо) не приходилось так долго жить. По странному стечению обстоятельств это произведение в течение пятидесяти лет лежало в немецких и русских библиотеках и только в 1805 году впервые увидело свет в мастерском переводе Гете. Парижская публика познакомилась с ним в обратном переводе только в 1821 году, когда, может быть, всех тех лиц, на которых оно написано, уже не было в живых. Это – фарс-трагедия, и участь ее вполне соответствовала содержанию. Рано или поздно она должна быть переведена на английский язык, но только за это дело нужно приняться с головой, – обыкновенная паровая машина здесь недостаточна.
Здесь простимся мы с Дидро как с художником и мыслителем. Богато одаренная, неблагоприятно обставленная натура, стремления которой, задерживаемые препятствиями, могут только торжествовать при особых условиях, не может быть вполне бесплодною. В нравственном отношении как человек он представляет явление знакомое: как во всех людях, так и в нем в особенности теория была в тесной связи с практикой. Один умный человек заметил, что «теоретические принципы нередко бывают только дополнением (или оправданием) практического образа жизни».
Поступки Дидро не кажутся нам достойными удивления, но, взятые в целом, и они заслуживают оправдания. Лафатер заметил в его физиономии «что-то робкое», и это замечание друзья его признавали справедливым. И действительно. Дидро был не герой. При всех своих высоких дарованиях, он был наделен женским характером. Чувствительный, пылкий, живший импульсами, которым он старался придать форму принципов, он был сварлив, как женщина, но зато чужд мужской энергии, осторожности и силы воли. Поэтому-то он и вращался большею частью в кругу женщин или тех мужчин, которые, подобно женщинам, льстили ему и услаждали его жизнь. Поэтому-то он и отвернулся с ужасом от серьезного Жан-Жака, не понимавшего науки, созданной только для тщеславия и напоказ. Но он полагал, что истина существует для того, чтоб о ней говорить и по ней действовать.
Мы не называем Дидро трусом, но не можем назвать его также мужественным и смелым человеком – ни относительно себя, ни относительно других он не выказал особого мужества. «Все добродетели, – говорит Мейстер, – не требующие великих идей, были ему даны, но тех, которые требуют подобных идей, у него недоставало». Другими словами – он исполнял нетрудные обязанности, да, к счастью, и сама природа распорядилась создать многие из них нетрудными, и, по-видимому, не стремился особенно поддерживать и уяснять их себе, а скорее изобретать новые и легкие. Поэтому-то и понятно, что он постоянно вращался в области «чувств», «благородства сердца» и т. п. Убеждение, что добродетель прекрасна, относительно ценится недорого, но достичь ее и руководиться ею – подвиг другого рода и хвастунам, насколько мы знаем, редко удающийся. Но да будет мир над его «чувством», потому что и оно уже далеко от нас!
Дидро, как мы уже заметили, не выполнил трудных обязанностей. Да и мог ли он, «чувствительный», бороться с таким чудовищем, как страдания? И что оставалось ему делать на том пути, где нет недостатка в опасностях, как не заравнивать выбоины потоками «чувствительности» и этим способом продолжать свой путь? Но во всяком случае, он не был добровольным лицемером, – в этой великой заслуге ему нельзя отказать. И вот он перед нами со своей механической философией, страстями, деятельностью и любовными приключениями, мягким сердцем, но без истинной привязанности, по временам злой и капризный, как ребенок, в целом же неисчерпаемый клад добродушия и простоты, – и нам не остается ничего более, как принять его.
Если мы и наши читатели, с точки зрения современных требований, достаточно выяснили себе жизнь Дидро, то время, потраченное нами на этот труд, все-таки небесполезно. Разве мы не стремились это самое время соединить тесными узами с прошедшим и будущим? Разве мы не старались, насколько хватало наших сил, превратить в историю эти мемуары XVIII столетия и скрепить две нити, которые впоследствии образуют ткань?
Если же, наконец, это событие мы перенесем в область всемирной истории и взглянем на него глазами не того или другого времени, а времени вообще, то, может быть, придем к заключению, что это событие, в сущности, не имеет особого значения. Если когда-нибудь будет подведен окончательный итог нашей европейской жизни, то все дело французской философии представит одну незаметную дробь или превратится в ничто! Увы, в то время, когда простая история и идеи «презренных евреев», варварская боевая песнь Деворы, вдохновенное пророчество Исаии продолжают жить в течение трех тысяч лет и не утрачивают своего значения, – блестящая «Энциклопедия» в какие-нибудь пятьдесят лет потеряла всякий интерес. Вот факт, – как бы его ни объясняли, – который «энциклопедист» не должен выпускать из виду. Еврейские звуки проникнуты святой мелодией, полны вечного значения и гармонии, – в звуках же энциклопедистов слышался разлад, и бренчание их умолкло, не оставив должного впечатления.
«Возвышенная и глубочайшая задача всемирной и человеческой истории, которой подчинены все другие задачи, – говорит современный мыслитель, – это борьба неверия с верой». Все эпохи, в которых преобладает вера, какой бы формы она ни была, славны, возвышают душу и плодотворны как для современников, так и для потомства. Все же эпохи, напротив, в которых безверие в какой бы то ни было форме торжествует свою победу, исчезают, если они даже сияли обманчивым светом, из глаз потомства, потому что никто не захочет изучать бесплодную науку.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.