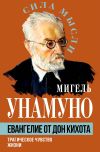Текст книги "Герои, почитание героев и героическое в истории"

Автор книги: Томас Карлейль
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 37 (всего у книги 72 страниц)
Причина этого частью заключалась в том, что Шефтсбери был не только скептиком, но и дилетантом скептицизма – род скептицизма, давно проглоченного и уничтоженного более мрачным и серьезным. Как мог деликатный, раздушенный и расфранченный индивидуум, каким был Шефтсбери, устоять в этой титанической борьбе?
Между тем наш Дени из области переводов перешел в область самостоятельного авторства. Он в четыре дня пишет весьма обыкновенную книгу: «Философские размышления», затем свои метафизические и фантастические размышления об «Интерпретациях природы» – и вырученные за них деньги отдает своей возлюбленной Пюизье. После этого он с той же целью сочиняет в две недели неприличнейший из всех прошедших, настоящих и будущих нелепых романов, – работа, по-видимому, не трудная, но, к несчастью, не невозможная. Если бы какому-нибудь смертному, положим рецензенту, пришлось снова заглянуть в эту книгу, то по прочтении ее он немедленно бы выкупался в ключевой воде, надел бы свежее белье и все-таки до самого вечера не избавился бы от грязи. Метафизико-атеистическая книга «Письма о глухонемых и слепых», доставившая ему славу и трехмесячную квартиру в Венсеннской крепости, относится к позднейшему времени. Но он уже успел своим медоточивым языком, возрастающею славою и сангвиническим темпераментом уговорить известных книгопродавцев приобрести от аббата Гуа его тощий перевод «Малого словаря искусств» и поместить его в «Энциклопедии», редакцию которой он вместе с д’Аламбером принимает на себя. В 1751 году он окончательно делается «писателем», надежным и видным членом этого замечательного цеха.
Литература со времени своего появления на европейской сцене, в особенности со времени ее выступления из монастырей на общественный рынок, где она занимала подобающее ей место и этим добывала себе средства к жизни, испытала странные фазы в своем развитии и сознательно или бессознательно произвела странное влияние. Чудесный ковчег Всемирного потопа, в котором хранится так много дорогих, бесценных сокровищ для человечества, беззаботно продолжает свое плавание через хаос волнующегося времени, не зная, отыщет ли он когда-нибудь Арарат, где можно бы было отдохнуть и выждать, пока сойдет вода. История литературы, в особенности в последние два столетия, – это наша собственная церковная история, потому что другая церковь, в течение этого времени, изменила своим древним функциям, утратила влияние и перестала иметь свою историю. Чтоб познакомиться с оборотной стороной дела, стоит только вспомнить, как разные Тассо и Расины старались поднять свое призвание из унизительной роли придворного паясничества, поучать и облагораживать мир и вместе с тем исполнять другую нелепую обязанность: забавлять и воспевать земного Юпитера, облеченного в бархатную мантию или другую золотую или позолоченную сбрую и тем добывать себе хлеб! Взгляните на Шекспира и Мольера, у которых было одинаковое ремесло, но пользу из него они извлекали двойную: потешая королевскую милость, они вместе с тем не забывали толстокожей толпы, снабженной хорошими карманами. Затем обратите внимание на издательское право, на раздор авторов и их стеснительное положение, на Гейне, например43, питавшегося вареной гороховой шелухой, Жана Поля, поддерживавшего свое существование супом из одной воды, или Джонсона, платившего по четыре пенса в сутки за стол и ночлег. В заключение обозрите невыразимую путаницу в нашем настоящем периодическом существовании, когда, между другими явлениями, с шумом и громом выступает на сцену четвертое сословие, которого не могут подавить три старшие сословия. Сословие это теперь еще сухой, не сформировавшийся «телец», но вскоре он вырастет в тощую фараонову корову, которой должны будут остерегаться жирные коровы!
Все это относится к внешней стороне литературы, так как мы не заглядываем в ее внутренний отдел, не касаемся добытых ею доктрин, а предоставляем будущим исследователям объяснить нам их значение. Значение это неисчерпаемо, – жизнь человеческая постоянно стремится из неисчерпаемого источника и хотя меняет форму, но, в сущности, остается неизменной. И в литературе есть свои апостолы и мученики, но также нет недостатка в «Симонах Волхвах» и «Аполлониях». В настоящее время все это совершается в безгранично-громадном размере: разрозненные элементы носятся в отдалении друг от друга и стремятся к единству, но беда заключается в том, что если они не соединятся, то новая форма их для большинства сделается неузнаваемой.
Французская литература во время Дидро достигла кульминационной точки, когда долго подготовляемые причины быстро переходят в действия. Это время можно назвать одним из замечательнейших ее существования. Рассматриваемая с экономической точки зрения, тогдашняя Франция, как и Англия, была веком книгопродавцев: Дадсли и Миллер рисковали своим капиталом для издания «Английского словаря», а Лебретон и Бриассон могли быть подрядчиками и интендантскими чиновниками французской «Энциклопедии». Свет любит знания и готов заплатить за них свой последний грош. Это подметили Дадсли и Лебретон и смело рассчитывали на успех, несмотря на то что в то время еще не было реклам. Но увы, как неизбежны в мире грехи, так неизбежны были и рекламы, только горе тем, кто их выдумал! Итак, они покоились еще мирным сном, и мир верил в слово человека, по крайней мере дельного человека. Поэтому книгопродавцы были возможны, они были даже необходимым, хотя и аномальным явлением в обществе. Если б они могли воздержаться от лжи или лгали бы с некоторою умеренностью, то аномалия эта длилась бы долго. Они действовали в Париже, как и всюду, зная, что мир платит за идеи; затем, благодаря своей коммерческой сметливости, они понимали, что истина, которая в конце концов все-таки будет признана, да и сама по себе более долговечна, – для торговли выгоднее, чем ложь; кроме того, их делу помогал еще общий голос, указывавший на талант тех людей, которые могут снабжать публику истинными идеями, и этого намека было достаточно, чтоб вступить в сделку с этим талантом. Но при всем этом мы должны сознаться, что большинство книгопродавцев относилось к своему делу добросовестно и разумно, вследствие чего остальная, окружавшая их масса жадных и тупоумных торгашей не является в таком неблагоприятном свете. Разумеется, обе договаривающиеся стороны выжимали друг из друга сок, насколько было возможно, так что когда книгопродавцы в задних помещениях своих Валгалл пили вино из черепов авторов, авторы, в свою очередь, в передних комнатах держали их в ежовых руках. Джонсон, например, угощает своего Осборна затрещиной по голове, а Дидро посылает корпулентного Панкука ко всем чертям.
С внутренней или теоретической точки зрения требования французской литературы были определеннее, чем литературы английской. Басня, пущенная в то время в ход иезуитским журналом «Треву» и нелепым образом проникшая в каждое европейское ухо, гласила, что существует общество, специально организованное для уничтожения правительства, религии, гражданства (не говоря уже о десятинах, податях, жизни и собственности). И что это адское общество собирается у барона Гольбаха, имеет там свои тайные заседания и публично обнародует свои труды. Но эта басня так и осталась басней. Протоколы, молоток президента, ящики для баллотировки и пуншевые чаши подобного Пандемониума так и не удалось видеть миру. Секта философов существовала в Париже, как существуют и другие секты. Секта эта была чуждым всякой серьезной организации союзом, где каждый, вероятно, стремился к собственной цели, старался завербовать побольше приверженцев, прославиться или, наконец, добиться постоянного куска хлеба. Но несмотря на это, французскую философию олицетворяли французские философы, в их руках она была могучей, деятельной силой. Зловещее, неудержимо разгоравшееся пламя, приведшее в трепет весь мир, было присуще этой философии и, так сказать, пробуравило отдушину, которая, в виде Французской революции, превратилась в кратер всемирно известного, страшного и безумного вулкана, которому еще не скоро придется угаснуть. Фонтенель говаривал, что он желал бы прожить еще шестьдесят лет, чтоб видеть, куда приведет это общее безверие, безнравственность и распущенность. В течение шестидесяти лет Фонтенель увидел бы немало диковинных вещей, но конец этому феномену, пожалуй, не случится и в шестьсот лет.
Почему Франция была кратером подобного вулкана? Какие специальные условия заключались во французском национальном характере, политическом, нравственном и интеллектуальном положении, в силу которых революция вспыхнула во Франции, а не в другом месте, в то время, а не прежде или позже? Вот вопрос, который возбуждался нередко, на который отвечали охотно. Но этот вопрос завел бы нас слишком далеко, если б мы вздумали на него верно ответить. Вопрос «куда» еще важнее вопроса «почему», но и его разрешать здесь мы считаем излишним. Для нас достаточно знать, что во Франции действительно был разыгран акт всемирной истории, на сцену была поставлена небольшая живая современная картина, – вследствие чего тут лучше спросить не «почему это?», а скорее – «что это?» Но, оставив все эти рассуждения, а также действия и причины, мы лучше представим себе, как много замечательных умов явилось в Европе, в Париже того времени, и взглянем на их действия, стремления и цели.
«Мистическое» наслаждение предметом неизмеримо обширнее «интеллектуального», и мы еще долгое время с удовольствием и пользой можем «смотреть» на картину, когда все, что нас поучало в ней, сделалось пусто и скучно. На этом весьма важном основании и самые письма Дидро к Волан, в которых разоблачается и «показывается» перед нами парижская жизнь, для нас гораздо дороже, чем многие объемистые тома, старающиеся объяснить ее. Правда, мы десять раз видели картину парижской жизни, но мы можем глядеть на нее еще в одиннадцатый раз, потому что это не холст, а живая картина, значение которой для нас бесконечно. Поэтому не укоряйте старую деву за ее существование и не говорите, что она напрасно жила. Разве за тот исторический отрывок, заключающийся в этой переписке, мы не должны простить ее и забыть все, даже самую «чувствительность». Занавес, опустившийся столетие тому назад, вновь поднимается, и на сцене царствует бойкая, подвижная жизнь. Лица, сделавшиеся историческими, являются перед нами как живые.
Французский философский театр был неоригинальным театром, и преоригинальная драматическая труппа играла на нем. Подобной труппы, относительно блеска и ветрености, талантов, но и рельефных несообразностей, мир, вероятно, никогда не увидит. Впереди всех выступает Вольтер, «наифранцуз» из всех французов, человек, которого французы долго ждали, чтоб за «один раз и в одну жизнь создать все, что наиболее ценит и любит французский гений». О нем и его изумительной деятельности, после предыдущей статьи, нам остается сказать немного. Обладая достаточной энергией, чтоб сокрушать мерзость, он вел свою травлю во многих странах, во многих столетиях и на всевозможные лады с такою дерзостью, что сделался опасен и сам навлек на себя опасность. Теперь сидит он в Фернее, не принимая деятельного участия в охоте, а только издали натравливая своих собак: лютого пса Дидро он принужден уже несколько раз сдерживать. Мысль уничтожить существующую теологию не удовлетворяет свирепого Дени, хотя можно бы было и этим удовлетвориться. Патриарх посылает ему дружеское увещание относительно атеизма и снова заставляет его огрызаться.
На д’Аламбера мы можем также смотреть как на знакомое лицо. Из всех философов он по своей деятельности более всего подходит к нашим английским воззрениям: независимый, терпеливый, разумный человек, одаренный громадной способностью, владевший замечательной ясностью, знаменитый математик и, к немалому удивлению многих, знаток литературы. Нелепое удивление, – как будто мыслитель может мыслить только об одной вещи, а не о каждой, к которой чувствует влечение. «Смесь» д’Аламбера, как плод оригинального ума, отличающийся оригинальными выводами, поучительна до сих пор как для головы, так и для сердца. Человек этот живет в подозрительном уединении со своею мадемуазель Эспинас, обвиняется в ереси, потому что не видит в «Энциклопедии» ни Евангелия, ни божественного откровения, а только огромное издание in folio, для которого он не пожертвует жизнью без «вознаграждения». Для Дидро было грустно видеть, как его товарищ спешил в гавань и не обращал внимания на сигналы в то время, как морские чудовища окружали его! Между ними не было раздора; встречи их были дружеские, хотя в последнее время они виделись не более одного раза в два года. Д’Аламбер умер, когда Дидро лежал на смертном одре. «Мой друг, угасло великое светило», – сказал он принесшему ему весть о смерти д’Аламбера.
Держась в отдалении, со страдальческим, угрожающим лицом показывается Руссо. Бедный Жан-Жак! То боготворят его, то попирают ногами; глубокий мыслитель, благородный человек, наделенный пламенной душой, но жалкий чудак, в котором природные недостатки, по милости неблагоприятной судьбы, развились чуть не в помешательство. Он держится особняком – вся жизнь его походит на длинный монолог. Он был Тиресием44 своего времени, обладавшим даром пророчества, не свойственного другим. Может быть, в этом-то и заключалась частью причина, что мир, относительно него, впал в крайности, и мы видим, спустя долгое время после его смерти, как целая нация боготворит его, между тем как Берк45 от имени другой нации причисляет его к извергам рода человеческого. Его истинный характер, его возвышенные стремления и скудная деятельность, его пламенный ум, как молния, рассекавший мрак хаоса, но не озаривший его, а впоследствии сам угасший, – все это в настоящее время может быть оценено по достоинству. Пусть его история научит всех, кого она касается, «закалить себя против зол, которыми посетила их мать-природа, и в своей собственной душе находить то, в чем отказал им мир».
Руссо и Дидро были друзьями с юных лет. Кто не помнит, как Жан-Жак ходил в Венсенский замок, где Дени томился в заключении за еретическую метафизику и неуважение к господству любовниц, и по дороге в этот замок создал свой первый литературный парадокс? Их ссора, занимавшая весь Париж и оплаканная одним из фешенебельных героев тогдашнего времени, – также известна. Читателю, вероятно, известно героическое послание Дидро к Гримму по этому поводу и слова: «Друг, останемся добродетельными, потому что положение тех, которые перестали ими быть, ужасает меня». Но знает ли читатель, какое преступление совершил тот, кто перестал быть, чем он был? Распространил массу сплетен, подсказанных ему завистью, сплетен, которых, как наивно выражается мадемуазель, и сам черт не мог бы разобрать. Увы! черт отлично понимал их, тиран Гримм также, а у Дидро было ухо, в которое тот и перелил всю свою желчь. Чистую бумагу не к чему пачкать грязной историей, где главную роль играет не кто иной, как «Белый Тиран»46. Достаточно сказать, что добродетельный тиран нашел Дидро «слишком внимательным». Бедный Жан-Жак должен был идти своей дорогой, захватив с собой, вместе с прежним общественным презрением, и эту неприятность. Дидро в этом деле заслуживает не упрека, а скорее сожаления: он был только дудкой, на которой могла играть не только судьба, но и любой льстец.
Если мы не желаем ссориться с тираном Гриммом, то нам остается сказать немного. Этот человек не так замечателен, как замечательна судьба его. Времена переменились с тех пор, когда немецкий бурш, в изношенном платье, с освистанной трагедией в кармане, покинул Регенсбург и пустился на юг. Когда Руссо впервые познакомился «с молодым человеком, искавшим какого-нибудь занятия, потому что его внешность ясно доказывала, что он сильно нуждался в этом занятии». И действительно, с тех пор обстоятельства Гримма улучшились. Руссо познакомил его с Дидро, Гольбахом и с черноокою д’Эпине, и он не только сумел упрочить это знакомство, но и извлекать из него пользу. Поизносившийся бурш нарядился в изящное платье с манжетами, надел парик, прицепил шпагу, нарумянил свою нахальную физиономию. Чтоб нравиться прекрасному полу, принялся угощать философской болтовней гиперборейских владык, разбавляя ее лестью, и зажил припеваючи в этом мире, посреди нежных ласк г-жи д’Эпине, не обращая никакого внимания ни на мужа, ни на нравственные условия страны.
Вообще относительно Гримма мы должны сказать, что этот человек был рожден для того, чтоб иметь успех в мире. Он владел прекрасными талантами, музыкальным образованием, энциклопедическими знаниями, салонным остроумием, дерзостью; сердце его постоянно лежало как бы на рынке, где тороватый покупатель мог легко его приобрести. И действительно, он был методичный, ловкий и решительный человек. «Путем благоговейного поклонения», путем тонкой лести он сумел сделать из Дидро свою дойную корову, из которой он, по своему усмотрению, мог свободно выдаивать или статью, или целый том. Победоносный Гримм! Он даже избег «ужасов Французской революции», растеряв по этому случаю только свои манжеты, и потом долго и покойно проживал еще при готском дворе.
По всему вероятию, мир также слышал о шевалье Сен-Ламбере, игравшем заметную роль в литературе, в любви и на войне. Мы снова видим его здесь распевающим сладенькие стишки, но, к счастью, видим его издали, так что бренчанье его струн не достигает нашего слуха. О другом шевалье, достойном Жокуре, нам остается сказать только несколько слов: он роется, как крот, в энциклопедическом поле, хватает добычу, какая попадется под руку, и боится света. Затем является перед нами Гельвециус, откормленный откупщик, услаждающий свою сибаритскую жизнь метафизическими парадоксами. Его сочинения «О человеке» и «О духе» проникнуты свободным философским духом, с примесью гуманности и чувствительности. Поэтому-то и удивляемся мы, встретив в нем самого горячего защитника охотничьих привилегий.
«Эта мадам де Носе, – пишет Дидро в одном письме о горячих ключах Бурбона, – соседка Гельвеция. Она рассказывает нам, что философ в своем поместье несчастнейший человек в мире. Он окружен соседями и крестьянами, которые ненавидят его; они бьют окна в его доме, разоряют ночью сады, рубят деревья и ломают заборы. Он не смеет выйти на охоту, не захватив с собою людей для защиты. Вы меня, вероятно, спросите о причине всего этого? Причина, отвечу я вам, заключается в его излишней ревности к охотничьей привилегии. Фагон, его предшественник, имел для охраны своих лесов только двух сторожей и два ружья. У Гельвеция их двадцать четыре, а толку нет. Эти люди получают ничтожную награду за поимку браконьеров и готовы на всякую мерзость, чтоб добыть себе побольше денег. Кроме того, они сами браконьеры, только с той разницей, что за свое ремесло получают еще жалованье. Прежде для охраны лесов на окраинах их жили вооруженные люди в выстроенных ими небольших домиках, – в настоящее же время он велел эти домики сломать. Подобными дикими поступками он нажил себе много врагов, которые сделались еще наглее и дерзче с тех пор, говорит мадам Носе, как узнали, что почтенный философ трус. Я бы не согласился даром принять от него прекрасного имения Вор, если б мне пришлось жить там в постоянном страхе. Какую пользу извлекает он из подобного рода действий, я не знаю, но он здесь один, и ему всюду грозит ненависть и опасность. Ах, насколько умнее была наша г-жа Жоффрен, когда, говоря об одном процессе, беспокоившем ее, сказала мне: «Избавьте меня от этого процесса; если они хотят денег, то они у меня есть, – отдайте их им. Лучшее употребление, какое я могу сделать из моих денег, – это купить ими спокойствие». На месте Гельвеция я бы сказал: «Эти люди бьют у меня зайцев и кроликов, и пусть бьют. У бедных животных нет ничего, кроме леса, так пусть и укрываются они в нем». Я бы следовал примеру Фагона, и меня, вероятно, боготворили бы так же, как и его».
Увы! разве охотничьи привилегии Гельвеция не уничтожены? Придет время, когда и другие привилегии, под какою долготою или широтою они бы ни находились, подвергнутся той же участи. Если Рим был однажды спасен гусями, так после этого нужно опасаться, что Англия погибнет от куропаток? Мы все дети Евы, променявшей рай на яблоко.
Но воротимся в Париж и к его философам. Здесь является перед нами Мармонтель, деятельный помощник их, ведущий малую войну с помощью «Меркурия» и прославляющий «возвышенную мораль» в своих сладеньких романах. Иногда показывается и аббат Морелли, занятый составлением хлебных законов, – он согнулся и съежился, как бы стараясь быть ближе к самому себе. За ним виднеется плуг Галиани, чередующийся между Неаполем и Парижем, «удачно решивший вопрос о хлебном законе»47, человек, впрочем, праздный, умственный лазарони, проказник и насмешник, не лишенный при этом оригинального итальянского юмора. Появление его смуглого острого лица постоянно служит сигналом к громкому смеху, в котором человек, к несчастью, испаряется, не достигнув никакого прочного результата. О бароне Гольбахе можно сказать только одно, что он задает роскошные обеды как в Париже, так и в Гранвале. Сорок или шестьдесят томов его атеистической философии, напечатанные на его собственный счет, заслуживают в наше время забвения и даже снисхождения. Открытый, вместительный кошелек, теплое, покойное, общительное сердце вместе с превосходными винами доставили ему литературное значение, на которое он, при своих мыслительных способностях, не имел никакого права. При этом он был покладистый, чопорно-вежливый человек, нередко ссорившийся за картами, но, в сущности, добрый и великодушный.
В этом обществе также не было недостатка в последнем даре, которым небо награждает человека, – в естественном господстве женщин. Госпожи Шатле, д’Эпине, Эспинас, Жоффрен, Деффан тоже имеют здесь свои роли, так что перед нами являются не только философы, но и философини. Впрочем, странную роль играют эти женщины в этом странном для них обществе. Лавируя между метафизикой и кокетством, системой природы, модой, тщеславием, жаждой к знаниям, ревностью, атеизмом, ревматизмом, благородными порывами и румянами, прелестный женский ум блуждает в таком хаосе, что и мудрейший человек не только растеряется в нем, но окончательно погибнет. А между тем, несмотря на это, женщинам предоставлена роль председательниц в этом обществе, – они пользуются большим влиянием, так что все действия и поступки этого общества заметно проникаются их оригинальным духом.
Само собой разумеется, что в обширном и разнообразном мире этот небольшой кружок философов, смотря по их речам и действиям, должен был встретить и различный прием. Голоса разделились до крайности: большинство человечества, занятое собственным делом, только в случае необходимости обращало на них внимание. Но несмотря на это, все-таки образуется огромная нейтральная почва, на которой должна происходить битва и где обе армии, смотря по успеху оружия, сами должны заботиться о подкреплениях. Из высших классов, по-видимому, только незначительная часть людей, не занятых исключительно едой и питьем, сочувствует, как бы странно нам ни казалось, их вопросам. Читающий мир, в то время более образованный, более жаждавший знаний, чем нынешний, охотно встречает каждое разумное, живое слово, для него написанное. Он наслаждается им и усваивает его себе, хотя без всякой определенной цели и недостаточно вдумавшись в него. Зато бдительно, постоянно настороже братство иезуитов, хотя и близкое к смерти в то время, но тем не менее злобствующее и ожесточенное. Опасны также предсмертные судороги издыхающей Сорбонны, по временам все еще волнующие Париж. Философам необходимо пробираться осторожно и, при подобных критических обстоятельствах, нередко одним глазом плакать, а другим смеяться. Даже сама литература не вполне сочувствует философам. Кроме регулярной силы иезуитов, заключающейся в журналах, издаваемых в «Треву», проповедей, епископских преследований и нападок, выходящих из другого лагеря или каземата, организовалось еще значительное иррегулярное войско, состоящее обыкновенно из перебежчиков, людей недовольных и обойденных по службе и тому подобных неблаговидных личностей, ведущих утомительную войну из-за куста. Предводитель этого сброда Фрерон, – в прежнее время он еще пользовался довольно сносной репутацией, но теперь, подняв голову слишком высоко, споткнулся и упал. Вольтер в «Шотландке» выводит его под именем Фрелона («осы») на сцену и чуть не убивает смехом.
Другой забияка еще более ненавистен – это Палиссо, написавший и поставивший на сцену комедию «Философы», которая, несмотря на всю ее плоскость, заставила немало смеяться Париж. «Смеяться над нами, – взволновались философы, – обладающими такими высокими заслугами! Слыхало ли человечество что-нибудь подобное?» Если б бедняк Палиссо в то время им попался в руки, то, наверное, рисковал бы быть высеченным. Но так как, к счастью, этого не случилось, то они прибегли к перу, напитанному ядом и желчью, и призывали небо и землю в свидетели подобного обращения с божественной философией. С этой целью, по-видимому, наш друг Дидро написал своего «Племянника Рамо», где, как лютый пес, изорвал несчастного Палиссо в клочки. Так различны были взгляды литературного придворного и остального мира на это дело; такой извращенностью и аномалией отличалось время.
К числу поразительных аномалий принадлежат также отношения французских философов к иностранным коронованным особам. В Пруссии мы видим короля-философа, в России императрицу, сочувствующую философии, а мелкие германские князья следуют их примеру. Они даже держат специальных послов при философах и платят им хорошие деньги. Великий Фридрих и великая Екатерина помогают философам при их малейших стеснительных обстоятельствах, покровительствуют им, предлагают в своих государствах убежище, но благоразумнейшие принимают только деньги. Вольтер уже испытал убежище у прусского короля и нашел его несоответствующим своим целям и желаниям, а д’Аламбер и Дидро отказываются повторить знакомый им эксперимент…
Не меньшей аномалией, извращенностью и противоречием отличаются отношения философов к их собственному правительству. Но могло ли быть иначе, когда отношения их к обществу были так неопределенны, а правительство, вместо того чтоб руководить этим делом, влиять на него, находилось само во власти аномалии, оцепенения и старческой немощи. Отношения, в которых французский государь находился к французской литературе тогдашнего времени, несмотря на всю важность этого дела, трудно определить, да и можно ли было ожидать, чтоб чувственный Людовик XV, в своем Оленьем парке, подозревал какие бы то ни было отношения? Его «мирная душа» была занята иным, а министрам предоставлялось полное право советоваться со своими собственными целями, прихотями, преимущественно же со своим комфортом. Таким образом, все дело, если взглянуть на него теперь, представится нам самым нелепым, жалким и смешным периодом из истории государственного управления. Увы! Нужда не знает законов. Что может делать государственный человек без просвещения, может быть, даже без глаз, если судьба принудит его «управлять» в то время, когда мир грозит падением? Ему остается только увеличивать налоги, преследовать по возможности убийства и кражи, метаться во все стороны, делать шаг вперед и два назад, да, кроме того, есть и пить и предоставлять черту все управление!
Чтобы дать понятие, до какой степени доходило это искусство «управлять», в особенности относительно философов, мы приведем из тысячи примеров только один: Мальзерб, желая предостеречь Дидро, пишет ему, что на следующий день он сделает распоряжение о конфискации у него всех бумаг. «Это невозможно, – отвечает Дидро, – как рассортирую я их и куда успею спрятать в двадцать четыре часа?» «Пришлите мне их», – пишет Мальзерб, и они действительно были отправлены к нему и заперты на ключ, так что голодным сыщикам пришлось обыскивать только одни пустые ящики.
Издание «Энциклопедии» было начато «с королевского одобрения и указания», но затем, по высочайшему повелению, приостановлено. Так как публика роптала на это распоряжение, то разрешено было продолжать печатание. Впоследствии привилегия была уничтожена и книга подверглась окончательному запрещению, несмотря на то что она уже была отпечатана, обращалась в продаже, – более ста наборщиков работали над ней при открытых дверях, и весь Париж знал об этом. Шуазель, следуя своему обычному, решительному методу, закрыл глаза правительства и держал их закрытыми. Наконец, для увенчания дела, экземпляр запрещенного издания находился в частной библиотеке короля, что послужило поводом к забавному эпизоду и снятию запрещения.
«Один из слуг Людовика, – говорит Вольтер, – рассказывал мне, что однажды, за ужином короля «в узком кругу» в Трианоне, зашел разговор об охоте и затем коснулся пороха. Кто-то из присутствующих заметил, что лучший порох делается из равных частей серы, селитры и угля. Герцог Лавальер, знакомый с этим делом, напротив, утверждал, что для приготовления хорошего пороха требуются две равные части серы и угля и пять частей очищенной селитры. «Это забавно, – сказал герцог Нивернуа, – мы всякий день убиваем куропаток в Версальском парке, нередко убиваем людей и даже позволяем убивать себя, а между тем не знаем, из чего собственно приготовляется это убийственное средство». «Увы! Так случается со всеми вещами на этом свете, – отвечала мадам де Помпадур. – Я не знаю, из чего сделаны румяна, которыми я натираю себе щеки, и вы поставите меня в большое затруднение, если спросите, каким образом изготовляются шелковые чулки, которые я ношу». «Жалко, – сказал герцог де Лавальер, – что его величество конфисковал наши энциклопедические словари, стоившие нам сто пистолей. В них мы нашли бы ответы на все наши вопросы». Король оправдывался тем, что ему сообщили, что двадцать один том этого словаря, лежавший на всех дамских туалетах, – самая вредная вещь для Французского королевства, и поэтому он решился сам убедиться в истине этих слов прежде, чем разрешить свободную продажу книги. После ужина он приказал троим слугам принести ему экземпляр, слуги возвращаются вскоре, и каждый из них держит в своих руках по семи томов «Энциклопедии». Открывают статью «порох» и убеждаются, что герцог Лавальер прав; а затем и мадам Помпадур узнает разницу между старинными «испанскими румянами», которыми мадридские дамы натирали себе щеки, и «дамскими румянами», приготовляемыми в Париже. Она узнает также, что греческие и римские дамы румянились порошком, добываемым из «пурпуровой улитки», что наша красная краска есть пурпур древних, что испанские румяна содержат более пурпура, а французские кошенили. Затем ей читают, как ткутся чулки, а описанный в статье чулочный станок приводит ее в изумление. «Ах, какая великолепная книга! – вскричала она. – Вероятно, ваше величество конфисковали этот магазин полезных вещей потому, что только одни желаете его иметь и сделаться единственным ученым во всем королевстве?» Все присутствующие с такой же жадностью бросились на книги, как некогда дочери Ликомеда бросались на драгоценные камни Улисса, и каждый находил то, что ему было нужно. Люди, имевшие процессы, с удивлением узнавали решение их, а король прочел права своей власти. «Я совершенно не могу понять, – сказал он, – почему мне наговорили так много дурного об этой книге». «Ах, – возразил герцог Нивернуа, – разве ваше величество не видит»…» и т. д.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.