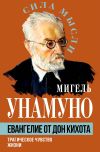Текст книги "Герои, почитание героев и героическое в истории"

Автор книги: Томас Карлейль
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 51 (всего у книги 72 страниц)
Порядок поезда наконец был установлен, и только что экипаж двинулся, как леди Анна выехала из рядов и с громким смехом закричала: «Папа, папа, я знаю, что ты не поедешь без своей любимицы». Скотт посмотрел вокруг и даже покраснел и улыбнулся, когда заметил маленькую черную свинью, вертевшуюся около его лошади и, по-видимому, имевшую явное намерение присоединиться к компании. Он старался быть серьезным и даже хлопнул бичом, но потом рассмеялся. На шею бедной свиньи накинули ремень и потащили назад. Скотт посмотрел ей вслед и с поддельным пафосом продекламировал первый стих пастушеской песни:
Что мне делать, когда моя свинка умрет?
Смех увеличился, и отряд наконец двинулся в путь. Эта свинья, неизвестно почему, питала странную сентиментальную привязанность к Скотту и постоянно старалась попасть в число членов его «хвоста» вместе с борзыми и гончими. Помню я также, что в другое лето ему пришлось испытать настойчивую привязанность курицы. Объяснение подобных явлений я предоставляю философам, потому что факт был налицо. Я слишком уважаю оклеветанного осла, чтоб ставить его на одну доску со свиньей и курицей. Но не могу не упомянуть здесь, что два года спустя после этого происшествия у моей жены была пара этих животных, на которых она обыкновенно каталась в маленьком экипаже. Лишь только ее отец подходил к нашим воротам, как Ханна Мор и леди Морган (так в насмешку окрестила Анна Скотт обоих ослов) бежали с пастбища и клали свои морды на забор.
В Чифсвуде прожили мы с женой лето и осень 1821 года, и это время останется в моей памяти как счастливейшее в моей жизни. Мы жили вблизи Эбботсфорда и могли постоянно участвовать в его блестящем, часто менявшемся обществе, не подвергая себя утомлениям и хлопотам, которые испытывало все семейство, за исключением Вальтера Скотта, вследствие бесконечных приемов новых гостей.
Но по правде сказать, подобная открытая жизнь и на него наводила скуку. И он нередко терял хладнокровие, слушая напыщенную похвалу какого-нибудь тупоумного педанта, приторный восторг разрумяненных и украшенных париками вдовиц, вопросы, предлагаемые невежливыми иностранцами, впивавшимися в него с жадностью пиявки, и смотря на глупую и снисходительную улыбку сановников. Когда все эти церемонии ему уже чересчур надоедали, он как бы нечаянно вспоминал, что у него есть важное дело в одном из отдаленных поместий, и, вечером извинившись перед гостями, на другой же день являлся к нам ранним утром.
Стук копыт Сивиллы, лай Мастарда и Спайса и его собственный веселый голос, раздававшийся под нашими окнами, служили сигналом, что он сбросил с себя бремя и желает провести тот день на свободе. Сойдя с лошади, он садился, окруженный своими и нашими собаками, под развесистый ясень, бросавший тень почти на полберега между мызою и ручьем, и принимался точить свой топорик, внимая вместе с тем рассуждениям Тома Парди о том, что нужно расчистить и вырубить в лесу.
После завтрака он отправлялся наверх и там писал главу «Пирата», заделывал ее в пакет и отсылал к Балантайну. Затем вместе с Томом шел в лес посмотреть на работу лесничих. Иногда и сам принимался за работу, исполняя ее не хуже всякого Джона Суонстона, и это длилось до тех пор, пока не наступало время ехать снова к своим гостям в Эбботсфорд или присоединиться к нашему обществу. Если у него было немного гостей или если это были, что называется, свои люди, то он нередко привозил их к нам в Чифсвуд и в это время был крайне любезен и предупредителен, усердно помогая нам в наших хозяйственных хлопотах.
Он был в высшей степени изобретателен на разного рода выдумки, чтоб устранить тесноту помещения. В особенности любил, прежде чем уйти в лес, опускать в колодезь корзину с вином и вынимать ее оттуда перед самым обедом, – этим способом, по его словам, он руководился еще в молодости и находил, что это гораздо лучше, чем ставить вино в лед. Если же погода была хорошая, он предлагал обедать на воздухе, говоря, что этим можно избавиться от тесноты помещения, а кавалеры будут прислуживать дамам, вследствие чего можно обойтись и без излишней прислуги».
Все это прекрасно, как рассказы Боккаччо, как идеал деревенской жизни нашего времени, но отчего же подобная жизнь не могла всегда продолжаться? В доходах недостатка не было, их хватало на удовлетворение самых дорогих прихотей, но прихотей, во всяком случае, разумных, осмысленных и комфортабельных!.. Скотт получал до двух тысяч ежегодно, кроме дохода от книг. Но зачем, вместо того чтоб отдаться творчеству, он принялся фабриковать с целью добыть более денег, громоздить массу за массой до тех пор, пока не рухнуло все здание и не погребло его в своих развалинах в то время, когда к услугам его было готовое и приятное жилище? Увы, Скотт, при всем своем здоровье, был «заражен», он страдал одной из страшнейших болезней – тщеславием. До этого недуга довели его титул баронета, милости и почести мира и «шестнадцать компаний» в день. Вследствие этого он возводил постройки, вел жалкую, бесконечную переписку о мраморных столах, обоях и занавесах, беспокоился о том, должны ли последние быть оранжевого или серого цвета. Скотт, один из даровитых людей, бьется из-за того, чтоб сделаться помещиком, основателем рода Лэрдов.
Это одна из странных трагических историй, когда-либо совершавшихся под солнцем. И подобная жалкая страсть могла довести такого твердого человека до крайности. И действительно, если б человек не был постоянным глупцом, можно бы было принять за колоссальную глупость тот факт, что Скотт ежедневно писал с неутомимостью и быстротой паровой машины. Писал для того только, чтоб этим ежегодно добывать 15 000 фунтов и тратить их на обои и на пустые украшения стен своего дома в Селкиршире, покупку старинного оружия и генеалогических щитов. Да разве присоединение одной полосы земли к другой в болотах Селкирка, – скрепленное на бумаге и названное одним общим именем, – не напоминает нам подвиги тех же Наполеонов, Александров и других героев-завоевателей, только в жалком и крохотном издании!
Если уже наполеоновские владения, глядя на них с луны, которая сама по себе далека от бесконечности, показались бы не обширнее моих владений, то что значит какое-нибудь эбботсфордское поместье даже при самых выгодных условиях? По сказанию арабов, в каждой душе есть черное пятно, – будь оно хоть не более горошины, – которое, если пустить в дело, окутает человека безумием и погрузит его в кромешную тьму.
Относительно литературного характера романов «Уэверли», замечательных в коммерческом отношении, нам остается сказать немного, в особенности теперь, после такого количества хороших и дурных рецензий. О них можно только заметить, что они писались скорее и лучше оплачивались, чем какие-либо другие книги в мире. В них заключаются более крупные достоинства, чем следовало ожидать в подобных случаях. И если единственное назначение литературы состоит в том, чтоб забавлять неподвижных и ленивых людей, то на эти романы можно смотреть как на литературное совершенство. Человеку оставалось только покойно улечься и воскликнуть: «Мой рок – это лежать на софе и вечно читать романы В. Скотта!» Сочинение, как бы бессодержательно оно ни было, в некоторой степени имеет связь и все-таки может быть названо сочинением. Так и эти рассказы льются плавно, свободно, в них изображаются приключение, различного рода ощущения, и во всем этом видна мастерская рука.
Кроме того, нужно быть слепым критиком, чтоб не подметить здесь свежих, художественных и оригинальных картин. Изображения событий и характеров отличаются изяществом, блеском, обнаруживают глубокую любовь к прекрасному в природе, любовь к человеку, начиная с Деви Динса, Ричарда Львиное Сердце, Мег Мерилейк, Дей Вернон и кончая королевой Елизаветой. Это речь человека откровенного, смелого, дальнозоркого, братски связанного со всеми людьми. По художественности, задушевности, верному взгляду и теплому чувству, словом – по общему «здоровью» ума эти рассказы ставят Скотта наряду с первыми писателями.
Даже в крайне трудной способности верно изображать характеры у него нет недостатка, хотя они и не всегда удаются ему. Его Джервисы, Динмонтсы и Долджетисы (имя их легион) смотрят и действуют именно так, как действовали и поступали бы те люди, за которых они себя выдают. И если их нельзя назвать продуктом «творчества», если они чужды поэтичности, то, во всяком случае, они играют свою роль, как сыграл бы ее отличный актер. Положим, что для читателя, лежащего на софе, более ничего и не требуется, но для читателей другого сорта подобные требования крайне недостаточны. Было бы долго доказывать различие в рисовке характеров, встречающихся в произведениях Скотта, Шекспира и Гете, а между тем оно буквально громадно, – это различие видовое, его не оценить одной и той же монетой. Мы заметим только в немногих словах, но в которых заключается многое, что Шекспир изображает свои характеры сердцем наружу, Скотт, напротив, кожею внутрь, не доискиваясь в них никогда сердца. Первые поэтому являются живыми мужчинами и женщинами, последние же механическими фигурами, грубо размалеванными автоматами. Сравните, например, Фенеллу с гетевою Миньоной, о которой говорили некогда, что Скотт «сделал честь Гете», заняв ее у него. И действительно, он занял у Миньоны все, что мог: маленький рост, способность лазить, лукавство – словом, одни «механические качества», душу же Миньоны захватить позабыл. Фенелла – неудачное создание Скотта, она резко выражает все те недостатки, которыми отличаются и другие изображенные им характеры.
Также мы должны сказать, что все эти знаменитые книги исключительно назначены для обыденного ума, другой же ум не найдет в них никакой пищи. Тех понятий, ощущений, принципов, сомнений, верований, до которых, по-видимому, мог бы возвышаться вместе с автором образованный человек, здесь нет и следа, – не встретишь ничего, кроме порядка, осторожности и приличия. Да, вероятно, Скотт и не был бы в состоянии дать более, потому что лишь только сворачивал он с обычной колеи и принимался за героический предмет, – что, впрочем, случалось редко, – то ударялся в приторную сентиментальность. Но, заметив предостережение Минервы-критики, он спешил покинуть этот путь, понимая лучше всякого, что путь этот ни к чему не ведет. Сравнивая «Уэверли», написанного старательно, с его последующими романами, написанными без всякой подготовки, наскоро, нельзя не пожалеть о методе скорописания. Может быть, Скотт и достиг бы совершенства в своем роде, может быть, при своем усердии и сосредоточенности, он раскрыл бы перед нами все богатство своих дарований, полученных им от природы, если бы, по-видимому, благоприятные, но, в сущности, неблагоприятные обстоятельства не препятствовали этому развитию.
Но сверх того, при оглушительном громе популярности, не следует забывать истину, вечно остающуюся истиной. У литературы есть другое назначение, кроме пустой забавы, интересующей только неподвижных и ленивых людей. Если же у литературы нет этого назначения, то она – жалкое дело, и тогда что-нибудь другое должно же иметь эту цель, осуществлять ее, требуя за это благодарности или неблагодарности, потому что иначе благодарный или неблагодарный мир давно не был бы миром.
Но в этом отношении немного найдешь в романах «Уэверли». Они не пригодны ни для изучения, ни для руководства или назидания и развития в каком бы то ни было смысле. Больное сердце не найдет в них исцеления, блуждающая во мраке душа не узрит в них путеводной звезды, а для героизма, присущего всем людям, здесь нет божественной, возбуждающей силы. Ибо они основаны не на широких, общечеловеческих интересах, а на мелких, обыденных и не имеют права рассчитывать не только на вечность, но и на продолжительность. И действительно, весь интерес этих романов заключается в том, что можно назвать контрастом костюмов. Язык, род оружия, одежда и образ жизни одного века – все это изображено метко и живо и бросается в глаза другого века; эффект выходит поразительный, но, в сущности, временный.
Впрочем, не мешает поразмыслить о том, не будем ли и мы когда-нибудь антиками, не покажутся ли и наш костюм и наши привычки также со временем странными? Может быть, в глазах будущих поколений наш разряженный франт сделается любопытной мумией, а через двести лет башнеобразная шляпа будет висеть в музее древности подле патентованной шляпы Франка и К°, предоставляя препираться антиквариям, которая из них безобразнее. Фрак с фалдами, напоминающими ласточкин хвост, будет, по всему вероятию, казаться костюмом донельзя смешным, когда-либо уродовавшим почтенную спину человека. Не узкими брюками, не башнеобразными шляпами, кожаными поясами, устарелыми и антикварными выражениями могут долгое время интересовать нас герои романа, но единственно только тем, что они люди. Кожаные пояса, куртки и всевозможные фасоны платьев преходящи, один человек вечен. Человек, мыслящий глубже и шире других людей, сохранится и в памяти долее других, в противном же случае его ожидает забвение. Если подвести Скотта, с его практическим взглядом, общительным характером и другими здоровыми качествами, под эту категорию, то он, пожалуй, покажется немал, а между обыкновенными героями, обращающимися в библиотеках, сойдет и за полубога. Он не мал, говорим мы, но и не велик. Даже в его время один или два человека превосходили его, а на место в ряду великих людей всех веков он не имеет и права.
Но какой же результат всех этих романов «Уэверли»? Должны ли они занимать только одно поколение или более? Они займут многие поколения, но не все. Лишь только фалды наших фраков сделаются так же немыслимы, как шаровары, они потеряют всякий интерес. Однако ж, насколько мы можем понять, их результат был разнообразен. Прежде всего и, вероятно, не менее всего – не заключался ли он в том, что большинство человеческого рода пресытилось простой забавой и принялось искать чего-нибудь лучшего? Забава чтением подобного рода не могла идти далее, не могла дать ничего лучшего, так что люди наконец пришли к вопросу: да неужели только в том и заключается все наше дело? Скотт, на наш взгляд, довел много вещей до их крайних пределов и кризиса, вследствие чего перемена была неизбежная, – заслуга с его стороны большая, но непосредственная.
Во-вторых, эти исторические романы научили людей истине, незнакомой прежним историкам, что прошедшие века были действительно населены живыми людьми, а не протоколами, актами, полемикой и абстрактными идеями. Не абстрактные идеи, не диаграммы и теоремы жили там, а люди в кожаных и других платьях и штанах, с румянцем на щеках, страстями в сердце, речью, чертами и жизненной силой. Дело, по-видимому, не важное, а в нем заключается глубокое значение. История обратит на это внимание; знакомая ей понаслышке опытная философия превратится в действительное наблюдение и исследование, которые будут считаться единственным и настоящим опытом, а философия удовольствуется тем, что подождет у дверей. Скотт оказал важную и богатую последствиями услугу, открыв великую истину, вполне соответствовавшую энергической натуре этого человека, основательного и правдивого даже в своем воображении, – а эти качества и составляли его отличительную черту.
Теперь слово о скором способе писания, который пользуется такой славой в наше время. Скотт, по-видимому, довел его до больших размеров, – быстрота его была необыкновенна, а полученный таким образом материал, если взвесить его, был превосходный. Писать скоро – вещь драгоценная, а для цели Скотта она была единственно удобным способом. Если б он отнесся с большим усердием к своему труду, он не увеличил бы своего дохода ни на одну гинею, а читателю, лежавшему на софе, было бы от этого не мягче лежать. Ему во что бы то ни стало было нужно, чтоб его произведения создавались быстро. Вообще неизбежная прелесть всех дел человеческих – будь это писание, или какое-либо другое занятие – заключается в том, чтобы знать, «как справиться с делом». Тот человек боится дела, не умеет взяться за него, он не мастер, а пачкун, если не знает, как справить свою работу. Абсолютное совершенство недостижимо. Ни один плотник в мире не сделал еще математически правильного угла, а между тем все плотники знают, когда он достаточно правилен, и не станут попусту убивать время и терять свою плату из-за того, чтоб сделать его совершенно правильным. Тот, кто чересчур много или слишком мало тратит свои силы на труд, одинаково показывает нездоровый ум. Человек ловкий, наделенный здоровым умом, старается тратить на всякое дело приблизительно столько труда, сколько оно заслуживает, и затем со спокойной совестью оставляет его. Все это можно применить и к скорому писанию и, если нужно, подтвердить и доказать.
А с другой стороны – можно привести самые веские доказательства, что всякое литературное произведение требует усердного труда. Пусть запомнят это авторы, пишущие наскоро, но не лишенные таланта! Легко или нелегко должен относиться человек ко всякой работе, какая бы она ни была, а в особенности к так называемой «душевной работе», где приходится погружаться в тайник мысли, воплощать истину из мрака, истину, окруженную со всех сторон ложью? Нет, не легко ни теперь, ни в какое-либо другое время. Опыт всего человечества доказывает это. Разве Вергилий и Тацит писали скоро? Все пророчество Исаии не сравняется объемом с любой журнальной статьей. Мы верим, что Шекспир писал скоро, но перед этим он долго и скорбно обдумывал свой труд, как заметит всякий наблюдательный глаз, жил и боролся посреди мук и постоянно висевшей над ним грозы, – только его великая душа молчит об этом. Вследствие чего ему нетрудно было писать скоро, потому что он достаточно подготовился к этому. Тайна труда, собственно, заключается в том, что быстрота писания действительно лучший способ, но только после энергической подготовки; так, из достаточно раскаленного горна льется потоками чистое золото. Таков был метод Шекспира, а между тем он не был борзописцем, в противном случае он никогда не был бы Шекспиром. Мильтон также не принадлежал к категории скоропишущих джентльменов, – он, по-видимому, не достиг способности Шекспира писать скоро после долгой подготовки, но боролся и скорбел, даже когда писал. Гете говорит, что ему «ничего не было дано во сне». У него не было ни одной страницы, о которой бы он не знал, как она явилась, поэтому-то его проза и считается лучшей во всей современной литературе. Шиллер, как несчастный и больной человек, никогда не мог сладить с работой, – его благородный гений действовал неразумно, слишком пламенно, чем подточил и сгубил свою жизнь. А Петрарка разве скоро писал? Данте, создавая свою «Божественную комедию», «исхудал». В мрачном изгнании он боролся с ней насмерть, употреблял все силы, чтоб одолеть ее и наконец одолел, и этот пламенный труд остался вечным достоянием людей.
Нет, творчество не дается легко. У Юпитера были мучительные боли и пылал огонь в голове, когда из нее вышла вооруженная Паллада. Что же касается фабричных литературных произведений, то это дело другого рода: оно может быть легко и трудно, смотря как примешься за него. Но и на фабриках соблюдается то общее правило, что ценность производства находится в прямом отношении к труду, потраченному на это производство, – нет труда, так и производство ничего не стоит. Поэтому перестань, борзописец, хвастаться своей скоростью и легкостью. Для тебя она, если ты принадлежишь к разряду фабричных, дело выгодное, может быть, прибавка к заработной плате, для меня же чистый убыток, потому что самый товар делается от этого хуже. Пиши скоро, пиши даже с помощью пара, если умеешь, но скрывай это, как добродетель. «Легкое сочинение, – сказал Шеридан, – иногда оказывается дьявольски трудным чтением». Но кроме того, это чтение еще бесполезное, а для человека, много работающего и не пользующегося продолжительною жизнью, в высшей степени трудное.
Производительная способность Скотта изумляла всех и привела капитана Холла к весьма оригинальному методу объяснения ее без помощи чуда, как можно видеть из вышеупомянутого дневника. Капитан, считая строчку за строчкой, нашел, что он сам в известные дни и часы написал в свой дневник столько же, сколько и Скотт. «Что же касается изобретения, – говорит он, – то известно, что оно Скотту ничего не стоит, а приходит само собою». Но и для нас быстрота Скотта кажется замечательной, – она доказывает нам прочное здоровье человека, как духовного, так и телесного; она замечательна, повторяем мы, но мы не дивимся ей, как чуду, – она под силу и другим людям, кроме капитана Голля. Ей можно удивляться, но в меру, потому что в этом деле заключаются два условия: сначала я определю качества, а количество должен ты уже определить сам! Всякий может скоро сладить со своею работой, если она удовлетворяет его. Если напечатать разговор любого человека, то из него ежедневно можно составлять по объемистому тому в осьмушку; улучшите в три раза написанное против сказанного им, то выйдет только треть тома в день, но и эта работа солидная.
Если же при этой скорости он еще пишет довольно сносно, то это доказывает не гений человека, а привычку. Это доказывает здоровье его нервной системы, практический ум и, наконец, что он понимает свое дело. Положим, что быстрота есть признак здорового духа, но многое, может быть, почти все, зависит от здоровья тела. Поэтому нечего сомневаться, что человек не может усвоить себе легкого и быстрого писания. Человеческий гений, раз попав на этот путь, пойдет далеко. Уильям Коббет, один из здоровейших людей, был еще большим импровизатором, чем Вальтер Скотт. Сочинения его, состоящие из рассказов, обзоров, грамматик, проповедей, статей о картофеле и бумажных деньгах и т. д., кажутся нам относительно количества и качества еще изумительными. Пьер Бейль написал громадные фолианты – неизвестно, вследствие каких побуждений. Он плыл по могучей реке, наполненной болотной водой, и умер, крепко держа перо в руках.
Но самый загадочный борзописец – это редактор ежедневной газеты. Обратите внимание на его руководящие статьи – как трактуют они и как прилично написаны. Они походят на солому, которую уже сто раз молотили, не получив от нее ни единого зерна, на пустой звук или преходящее явление, которое уже не раз оказывалось пустяками. Человек, наделенный дюжинными способностями, каждую ночь возится с этой обмолоченной соломой, молотит ее вновь и вновь поднимает тревогу, и это длится целые годы, – вот факт, выхваченный нами из человеческой физиологии, требующий еще разъяснения и доказывающий живучесть человека.
Не следует ли и нам сказать, что Скотт, между многими вещами, доведенными им до кризиса, довел и эту быстроту писания до того, чтоб люди могли лучше видеть, что заключается в этом способе? Тогда и его дело не будет чуждо достоинств и даст результаты, от которых, пожалуй, и сам Скотт содрогнется как приверженец тори. Ибо если печатание будет производиться так же часто и скоро, как это случается с нашими разговорами, то демократия (если мы заглянем в корень вещей) не будет пугалом или каким-нибудь неопределенным явлением, а перейдет в факт и действительность. И мне думается, что подобный исход неизбежен. Но, оставив этот вопрос, мы заметим, что скорое писание, по-видимому, вполне упрочило свой успех, потому что многие борзописцы торжественно кичатся этим ремеслом.
В недавно появившемся переводе «Дон Карлоса», одном из самых плохих и бездарных переводов, неизвестный до сей поры индивидуум уверяет читателя в следующем: «Читатель, вероятно, извинит меня, если я скажу, что вся пьеса была переведена в десять недель, т. е. с 6 января по 18 марта настоящего года. Включая сюда и двухнедельный перерыв по случаю сильного утомления, – так что я нередко переводил по двадцати страниц в день, а пятый акт кончен мною в пять дней». О, неизвестный индивидуум! Что мне за дело, во сколько времени совершил ты свой труд, в пять или пятьдесят лет? Единственный вопрос, с которым я могу обратиться к тебе, это – как ты совершил этот труд?
Но все-таки дух скорого писания господствует, надвигается на нас, как океан мутной и грязной воды. Зрелище, поистине достойное сожаления. Неужели волны этого скорого писания смоют всю литературу и наступит время умственного всемирного потопа? Это было бы страшною мыслью, но утешься, любезный читатель, такой литературы не существует, которую можно бы было смыть, подобной участи подвергаются только спекулятивные издания. Разве не было литературы до искусства печатания или «Фауста» в Майнце, а между тем люди писали без всякой литературной подготовки? Прежде нежели Кадм изобрел буквы, люди уже говорили, вовсе не подготовляясь к своим разговорам. Литература есть мысль мыслящих душ; по милости Бога она не исчезнет ни в одном поколении, но будет жить с нами до конца.
Деятельность Скотта писать романы экспромтом, чтоб покупать имения, была не такого рода, чтоб кончиться добровольно, напротив, она все более и более увеличивалась, и трудно решить, к какой бы мудрой цели она привела его. Банкротство книгопродавца Констебля еще не разорило Скотта. Причиной его разорения было тщеславие и ложное тщеславие, соединенное с его неразумным образом жизни. Куда бы могло привести его это тщеславие, где остановиться? Постоянно покупались новые имения, пока писались новые романы для уплаты за них. Возраставший успех усиливал аппетит и придавал более смелости. Понятно, что эти импровизированные сочинения делались все слабее и слабее и быстро приближались к категории крайне плохих и дюжинных произведений. Уже втайне образовалась значительная оппозиционная партия, существовали свидетели «чудес» Уэверли, не верившие в них и протестовавшие одним только молчанием. Эта оппозиционная партия принимала все большие размеры, а так как импровизации Скотта делались заметно слабее, то она грозила привлечь на свою сторону всех. Молчаливый протест должен был прибегнуть к слову, резкая правда, вытесненная резкой популярностью, теперь уже, впрочем, утраченной, начала высказываться, как высказывается она в настоящее время еще смелее, потому что не может уже оскорблять сердце благородного человека. Кто знает, лучше ли было бы, если б его падение произошло иначе, но так или иначе, а оно случилось. Однажды в горе Констебль, стоявшей, по-видимому, так же крепко, как и другие могучие горы, внезапно послышался страшный треск, подобный треску ледяных гор, и затем она с грохотом рухнулась, превратившись в снежную пыль. В один день все накопленные деньги Скотта разлетелись в прах, в ничто; в один день богатый помещик лишился всего, сделался банкротом, окруженным кредиторами.
Это было тяжелое испытание. Он встретил его гордо и мужественно. Оставалось еще одно гордое средство: объявить себя банкротом, человеком, лишенным всех благ мира, репутации, и искать себе в другом месте убежища. И подобное убежище действительно существовало, но не в натуре Скотта было отыскивать его. Он не мог сказать: «До сих пор я шел ложным путем, а моя слава и гордость, ныне утраченные, были пустым обманом!» Но это было ему не под силу, и он решился поправить свои дела, найти точку опоры или умереть. Молча, как сильный и гордый человек, принялся он за геркулесовский труд, приводил в порядок горные обломки, уплачивая долги продажей сочинений, которые мог еще писать. И все это случилось на закате дней, когда горе еще вдвое и втрое чувствительнее и сильнее. Скотт с энергией и мужеством принялся за геркулесовскую работу, бодро и весело, несмотря на упадок сил, боролся он с ней на жизнь и смерть, но работа оказалась не по силам, – она сломила его жизнь и порвала струны его сердца.
Относительно последних произведений Скотта, о его «Наполеонах», «Демологиях» и т. п. критика не выскажет порицания, а молвит только слово: «Горе мне!» Благородный боевой конь, некогда презиравший удары копья, осужден возить грузные фуры и работать чуть не насмерть. Но к счастью, падение Скотта было быстрое и прямо вниз. Это та же трагедия, как и самая жизнь, – старое доказательство, что фортуна стоит на вечно вертящемся колесе, а литературное, военное, политическое и денежное честолюбие еще никому не приносило пользы.
Последний отрывок заимствуем мы из шестого тома биографии, отрывок трагический, но не лишенный красоты, как не лишены красоты и святости те развалины, на которые смерть уже наложила свою печать. Скотт нанял квартиру в Эдинбурге, чтоб продолжать здесь свою поденную работу, а жена его, находившаяся уже при смерти, осталась в Эбботсфорде. Он молча ушел от нее, молча взглянул на ее спящее лицо, которое не надеялся уже более увидеть. Мы приводим здесь несколько извлечений из его дневника, который он начал вести в последнее время, отчего и шестой том его биографии сделался интереснее первых томов.
«Эбботсфорд. 11 мая 1826 г. Сердце сжимается при мысли, что я едва ли могу надеяться возвратить доверие того существа, которому я все доверял. Но к чему послужило бы мое присутствие в ее настоящем летаргическом положении? Анна обещала мне сообщать верные и постоянные сведения. Я должен обедать сегодня у Балантайна, отказаться нельзя, хотя я бы лучше желал остаться дома. Я не поддамся чувству безнадежности, которое старается одолеть меня.
Эдинбург. 12 мая. Я провел приятный день у Балантайна и там облегчил свое горе, которое дома замучило бы меня. Он был совершенно один.
Мне хорошо в Ардене, и я могу сказать с Тачстоуном: «Когда я был дома, мне было лучше». Я утешаю себя словами Николая Джарвиса: «Нельзя всюду носить с собою удобства родины». Телом я еще крепок, – была бы только душа спокойна. Со мною в доме живет только один жилец, мистер Шенди, священник и, как говорят, человек весьма спокойный.
14 мая. Здравствуй, доброе солнце, озаряющее эти грустные стены. Мне думается, что и на берегах Твида ты так же хорошо сияешь, – но куда ты ни взглянешь, всюду видишь одно страдание. Вчера был здесь Хогг, он в большом горе: несколько времени тому назад он занял у Балантайна 100 фунтов и теперь должен их уплатить. Я не в состоянии помочь бедняку, потому что сам принужден занимать.
15 мая. Сейчас получил печальную весть, что в Эбботсфорде все кончено.
Эбботсфорд, 16 мая. Она умерла утром в 9 часов. За два дня перед смертью она ужасно страдала, но под конец почувствовала себя легче. Я приехал сюда вчера ночью. Анна страшно утомлена и страдает истерическими припадками, которые возобновились с моим приездом. Она почти детским голосом, отрывисто, но спокойно сказала мне: «Бедная мама не придет более, она оставила нас навсегда». Потом, придя в себя, она говорила разумнее, и это продолжалось до тех пор, пока не возвращался припадок. Если б я даже был посторонним человеком, то и тогда было бы мне тяжело, – но каково выносить это отцу и мужу!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.