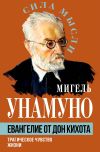Текст книги "Герои, почитание героев и героическое в истории"

Автор книги: Томас Карлейль
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 44 (всего у книги 72 страниц)
Во время этого грустного периода Мирабо скитается всюду: он побывал в Германии, Голландии и Англии, но нигде не может успокоиться, нигде не находит приюта. Жизнь его проходит в изыскании средств существования «ото дня ко дню». Расточительный, не умея ограничивать издержек, он постоянно находится в долгах, выпутаться из которых нужно или усиленной деятельностью, или более искусным устройством своих финансовых дел. Его доходная статья – это ум, он владеет пером и головой, а главная сила его заключается в том, что он «демон невозможного». Он постоянно носится с грандиозными проектами, – которые озарят и согреют весь мир, – но нередко эти проекты до такой степени неосуществимы, что он заменяет их другими, переделывает, не утрачивая ни на минуту надежды на их осуществление. С неутомимостью паровой машины он пишет памфлеты об «ордене Цинцинната», «Вашингтоне», «графе Калиостро» и бриллиантовом ожерелье. У него много сотрудников и помощников, вроде Мовильонов и Дюмонов, деятельностью которых, при собрании разного рода материалов, он отлично пользуется. Он пишет целые тома сочинений, но, в сущности, это те же самые памфлеты, полемизирует с Кароном Бомарше относительно парижского водопроводного общества, – Карон мечет в него свои острые стрелы, на которые он отвечает, демонически «качая горами и лесами».
Он находится в дружеских отношениях со многими людьми. Его искренность, доверчивость, искусство нравиться не покидают его. Но дружба, оказываемая дарованиям человека, а не его репутации, довольно сомнительна, и бедный, разорившийся Рикетти, не утративший еще своей прежней гордости, чувствует это и понимает как нельзя лучше. Зато дружба его с женщинами отличается более интересным характером. Он запутан в целую систему женских интриг, следующих за ним всюду. Он путешествует редко без женщины, с которой, по взаимному условию, живет год, два или более. Относительно этого громадного отдела в истории Мирабо остается только сказать, что его слабость к женщинам была велика, чудовищна и ни в каком случае не извинительна…
Старик маркиз сидит один у камина и размышляет, что выйдет наконец из этого беспутного, беспокойного и мятежного титана. Не примет, маркиз, этот титан участия во всеобщем перевороте? Он глотает формулы, знакомится с положением дел и людьми, а в дерзости, отчаянном мужестве у него недостатка нет. Старик делится с ним своими умными жизненными наблюдениями, но денег ему не дает.
Министры постоянно меняются, но как ни тасуются карты, а Мирабо все не везет. Неккера он не любит, но нет и особой ненависти между ними. Калонн спокойно слушает, как он громовым голосом ораторствует против биржевой игры, поддерживает с ним сношения, ведет переписку и пользуется первым удобным случаем, чтоб отправить его в качестве явного или дипломатического шпиона в Берлин и, таким образом, как говорится, зажать ему глотку. Великий Фридрих все еще на сцене, но уже готовится покинуть ее; тощий, морщинистый сержант мира и могучий, дюжий агитатор в изумлении смотрят друг на друга. Один только что выступает на сцену, другому приходится проститься с ней. Пребыванию Мирабо в Берлине мы обязаны многими памфлетами, из коих некоторые и до сих пор не лишены интереса.
Вообще при первом знакомстве с Мирабо как писателем и оратором вы немало бываете поражены. Вместо образного, расплывающегося в чувствах, пламенного языка, которого, по слухам, нужно было ожидать от подобного оратора, вы, к изумлению, наталкиваетесь на сжатые, точные выражения. Видите мощь и силу, чуждую всяких прикрас, меткий, светлый взгляд на дело и неотразимую убедительность. Главную основу, по нашему крайнему разумению, всех речей Мирабо и его самого составляют искреннее убеждение, твердый, здравый ум, нравственная сила и добросовестное распоряжение этой силой. И действительно, в его умственных дарованиях, при более точных исследованиях, замечается честное и высокое направление. Он одарен могучим, практическим умом и в этом отношении имеет полное право занять видное место между даровитыми людьми всех времен. В его сочинениях заключается богатый материал, но его нужно просеять, очистить от излишнего мусора, – он слишком хорош, чтоб лежать под ним.
Его идеи и мнения имеют глубокое значение, самые выражения его отличаются меткостью и силою. «Я знаю только три средства, с помощью которых можно существовать в этом мире, – это вознаграждение за труд, нищенство или воровство». Или: «Мальбранш видел всю силу в Боге, а Неккер видит ее в Неккере». Прозвища, которыми Мирабо наделял того или другого из своих современников, стоят целого сочинения. «Грандиссон-Кромвель-Лафайет». Лучше охарактеризовать этого человека невозможно, если даже написать о нем целую книгу. Это один из удачнейших портретов Лафайета, когда-либо нарисованных.
Так как годы летят и роковая эра, «эра надежды», близится, то и сам Мирабо, чуя приближение великих событий, постоянно находится в лихорадочной деятельности. Показываясь по временам на парижском горизонте, он, подобно огненному метеору, спугнет малодушных, но, заметив, что время еще не приспело, снова скроется во мраке. Иногда памфлеты навлекают на него гнев государственных властей и вызывают крутые меры, грозят ему арестом, так что остается только бежать из Парижа. Добряк Калонн так любезен, что заранее предупреждает его о грозящей ему опасности. «В такой-то день я отдам приказ о вашем аресте, а потому постарайтесь скрыться как можно скорее». Когда весною 1787 года открылось собрание нотаблей, Мирабо расправил свои крылья и спустился в Париж и Версаль. Ему казалось, что он должен быть секретарем этого собрания, но, увы, приятель его Дюпон де Немур занял это место, – время его еще не наступило. Теперь время только разных «Криспинов-Катилин», «д’Эпременилей» и подобных животно-магнетических личностей. Тем не менее достопочтенный Талейран, остроумные герцоги, либерально настроенные знатные друзья твердо держатся убеждения, что время наступит. Итак, Мирабо, жди его…
Наконец 27 декабря 1788 года появляется давно ожидаемый королевский указ о созыве государственных чинов в мае следующего года. Понятно, что подобное событие поднимает на ноги Мирабо, он спешит в Прованс, тамошнее собрание нотаблей, и сосредоточивает всю свою деятельность на одном пункте. Тебе стоит сделать только один шаг, титан, и, может быть, ты достигнешь цели! Громадную силу развернул Мирабо в этой борьбе, ему приходилось целые дни говорить, спорить, все ночи напролет писать памфлеты и журнальные статьи, – при этом многое переносить, сдерживать свой неукротимый нрав, отвечать молчанием на все упреки и оскорбления, чтоб не обнаружить свою слабую сторону. Искусно, неутомимо ведет он дело, – где нужно возбуждает, а где и сдерживает страсти, одним словом – действует, как истый «демон невозможного». «С неучами, жадными и дерзкими дворянами», по его словам, ему предстоял немалый труд. Мы приводим здесь небольшое извлечение из его знаменитой защитительной речи, когда большинством голосов было решено исключить его из собрания.
«Что сделал я преступного? Я желал, чтоб дворянское сословие было настолько благоразумно и уступило бы сегодня то, что завтра неизбежно отнимут у него, чтоб оно приняло также участие в славном деле и утвердило собрание трех сословий, которого так громко требует весь Прованс. Вот преступление «врага вашего спокойствия», как вы его называете! Или, может быть, вы обвиняете меня в том, что я дерзнул заявить о правах народа, а в ваших глазах дворянин, запятнавший себя подобной идеей, достоин мщения! Так знайте, что моя вина больше, чем вы думаете. Я твердо убежден, что ропщущий народ прав, его необыкновенное терпение ждет, пока гнет дойдет до крайности, чтобы решиться на сопротивление, и это сопротивление продлится недолго, и он получит полнейшее удовлетворение. Кроме того, народ не понимает, что молчанием и спокойствием можно навести страх и ужас на его врага, а отказ его требованиям внушит ему непреодолимую силу. Вот мое убеждение, – итак, казните врага спокойствия!..
А вы, мирные служители Бога, – долг ваш благословлять, а не проклинать, а вы между тем предаете меня проклятию, не попытавшись ни разу объясниться или вступить в спор со мною! И вы, «друзья спокойствия», стараетесь сделать меня ненавистным народу, меня, его единственного защитника, которого он нашел вне своего сословия. Для водворения доброго согласия вы наводняете столицу и провинцию плакардами, чтобы возмутить сельское население против городов, но, к счастью, все ваши поступки противоречат этим плакардам. Чтоб подготовить путь к примирению, повторяю я, вы протестуете против королевского указа о созыве государственных чинов, потому что он предоставляет народу право иметь столько же депутатов, сколько имеют их два других сословия. Кроме того, вы заранее протестуете против будущего национального собрания, если оно не даст восторжествовать вашим притязаниям и не упрочит навеки ваши привилегии. О, бескорыстные «друзья спокойствия!» Я взываю к вашему благородству и требую доказать мне, чем мои слова могли оскорбить королевскую власть или права народа? Дворяне Прованса, Европа внимает вам, взвесьте хорошенько ваш ответ, а вы, служители Бога, подумайте о том, что вы делаете, – Бог слышит вас. Так как вы молчите или прикрываетесь пустым, нелепым красноречием, которым и осыпаете меня, то позвольте мне прибавить еще несколько слов.
Во всех государствах и во все времена аристократы беспощадно преследовали друзей народа, и когда, вследствие странной судьбы игры, подобный друг являлся в их кругу, то они все свои силы обращали на него, чтоб высоким положением жертвы еще более вселить ужас. Так погиб последний из Гракхов от руки патрициев. Но, получив смертельный удар, он бросил к небу горсть пыли и призывал мщение богов на главу убийц. Из этой пыли восстал Марий, – Марий, который не тем славен, что истребил кимвров, а тем, что низвергнул тиранию патрициев в Риме!»
Была распространена нелепая басня, будто бы Мирабо открыл в Марселе суконную лавку, чтоб войти в милость третьего сословия, над чем мы немало смеялись. Мысль, что Мирабо стоял за прилавком и действовал аршином, крайне забавна. Хотя нет и тени правды в этой басне, но все-таки ложь, как ложь, может долгое время держаться.
В действительности было совсем иначе. При нем находилась «гвардия», состоявшая из ста волонтеров. В Провансе тысячная толпа теснилась около его экипажа, воздух оглашался радостными криками, а многие, чтоб видеть его, «платили по два луидора за окно». Даже самый голод, случившийся в то время, он, по-видимому, утолял своим красноречием. Грозные возмущения в Марселе и Э, по случаю дороговизны хлеба, возмущения, против которых были недействительны огнестрельное оружие и губернаторы, он укрощает одним словом. Это походило на римские триумфы, если не более. Он избран депутатом в двух городах и должен отказаться от Марселя, чтоб сделать честь Э. Враги его значительно переглядываются, изумляются и, забытые им, вздыхают, но и этим людям Мирабо устраивает карьеру. Да разве, в конце концов, благосклонный читатель, чуждый всякого честолюбия, не посочувствует этому бедному смертному? Победа – вещь радостная, но представьте себе положение такого человека, когда он наконец восторжествовал над двенадцатью геркулесовскими подвигами. Долгое время бился он с многоголовою Лернейской гидрой, и бился с ней на жизнь и смерть, – сорок тяжелых лет длился бой, но теперь он раздавил ее.
Наконец-то достигнута вершина горы. Он долго взбирался по крутым скалам, висел над зияющею пропастью, окруженный мраком, не встречая ни единого дружеского взора, и нередко самое мужество грозило ему изменить. Но он продолжал взбираться на крутизну, кровь текла из его израненных ног. Подобно Гипериону, он достиг наконец вершины и радостно потрясает сверкающим копьем. Какое богатое поприще, какое новое царство перед ним, всюду сияет утренняя заря надежды и далеко-далеко разливает свой свет! Какая чудная музыка, несущаяся как бы из недр природы, проникает душу, внезапно возродившуюся из борьбы и смерти для победы и жизни! Мы вполне уверены, что даже простой посторонний зритель плакал бы вместе с Мирабо его радостными слезами.
Но вскоре эти слезы радости превратятся в слезы скорби. Познай, честолюбивый сын Адама, что вся эта утренняя заря, вся эта музыка – не что иное, как обман. Человек нуждается в равновесии, – ему необходимо спокойствие или мир, а этим путем, как Богу известно, он не обретет его никогда. Блаженны те, которые находят спокойствие, не отыскивая его. Через каких-нибудь два года это великолепное, ярко пылавшее светило, титан Мирабо, превратится в прах и ляжет в Пантеоне великих людей, обретя наконец покой на лоне своей матери-земли. Есть люди, которых боги, по своей милости, наделяют славой, но нередко во гневе они превращают эту славу в проклятие и отраву, подтачивающие все нравственные силы человека. И действительно, если б смерть не вмешивалась в это дело или, что еще лучше, если б самая жизнь и общество не были настолько разумны и не предавали бы скорому забвению скоро преходящее светило и таким благодетельным, хотя и прискорбным, способом не тушили его, то, по всему вероятию, многие из славных мужей, а еще более многие из славных жен кончали бы свое существование в сумасшедшем доме.
Вот что 4 мая 1789 года видела г-жа Сталь из окна на главной улице Версаля, когда процессия депутатов двинулась из церкви Богоматери в церковь Св. Людовика, чтоб присутствовать при обедне и затем при открытии собрания государственных чинов. «Между дворянами, избранными в депутаты третьего сословия, заметнее всех выдавался граф Мирабо. К мнению, сложившемуся о его гениальных дарованиях, примешивалось еще тревожное чувство, возбужденное его безнравственностью, а между тем эта самая безнравственность уменьшала то влияние, которое он производил своими изумительными дарованиями. Этого человека нетрудно было различить в толпе: своими огромными черными волосами он выделялся из толпы; казалось, сила его заключалась в них, как у Самсона. Его лицо было еще выразительнее от своего безобразия, – вся его фигура дышала какой-то беспорядочной мощью, но мощью, свойственной только одному народному трибуну».
Здесь не место писать историю Мирабо в первые месяцы революции, но она, во всяком случае, заслуживает описания. Конституционное собрание с ропотом выслушало его имя, когда оно впервые было провозглашено, не умея даже объяснить причину этого ропота. А между тем человек, имя которого они встретили с недоверием, был возвышенный конституционалист, без которого у них не было бы и конституции. Его деятельность в этом эпизоде всемирной истории крайне замечательна. Он был тут единственной силой, не имевшею соперников, и благодаря этой силе ему удалось спасти существование конституционного собрания именно в один из тех моментов, когда решается судьба целых столетий.
Королевская декларация от двадцать третьего июня была обнародована: в ней упоминалось о военной силе и приказывалось собранию разойтись. Бастилия и эшафот, может быть, ожидали ослушников. Мирабо отказывается повиноваться королевскому распоряжению, возвышает свой голос, чтоб воодушевить пораженное паническим страхом собрание. Обер-церемониймейстер де Брезе входит в залу и повторяет приказ короля разойтись. «Господа, – говорит де Брезе, – вы слышали приказ короля?» В ответ на это Мирабо сказал вечно памятные слова: «Да, мы слышали заученные фразы короля, а так как вы не можете быть переводчиком его мнений, не имеете ни места, ни голоса в нашем собрании, то и не имеете никакого права напоминать нам о приказе. Ступайте и скажите тем, которые вас прислали сюда, что мы здесь по воле народа и нас можно выгнать только штыками».
А между тем этот великий момент сам по себе принадлежит к числу его менее замечательных подвигов. Он видел в революции материал и силу, а не формулу. Когда бесполезные Сиэсы и конституционные педанты с большими усилиями и не меньшим шумом созидали свою величественную бумажную конституцию, длившуюся одиннадцать месяцев, – этот человек обращал внимание не на фразы и «общественные договоры», а на вещи и людей. Он знал, что делать, и тут же приступал к делу. Он выгоняет за дверь Брезе, считая это необходимым. «Мария-Антуанетта в восторге от него», когда он является к ней, он человек революции, пока жив, вожак ее и, по нашему мнению, только с жизнью утратит это достоинство. В нем одном заключалась способность быть вожаком, потому что разве не видели мы, как тщательно готовила его судьба к делу, которое теперь в его руках? Желчный «друг человечества», знал ли ты, что делал, когда ссылал своего сына на остров Ре и в замок Иф, стараясь убить в нем собственное сознание и превратить его в свое другое «я»? Нам остается упомянуть еще, что маркиз пережил победу сына над судьбой и людьми и радовался этому. Сидя у камина в Аржантале, близ Парижа, он до последней минуты продолжал производить свои меткие наблюдения над жизнью и умер за три дня до взятия Бастилии, именно в то время, когда совершился «всеобщий переворот».
Но наконец и двадцать три месяца прошли. Г-жа Сталь еще 4 мая 1789 года видела римского трибуна и Самсона с его длинными волосами, а 4 апреля 1793 года уже потянулась погребальная процессия, занявшая чуть не целую географическую милю. Министры, сенаторы, национальная гвардия и весь Париж, – факелы, печальные звуки труб и барабанов, людские слезы и скорбь целого народа, скорбь невиданная, беспримерная, провожали Мирабо в последнее жилище. Прекратилась его деятельность, и он покоится с первобытными гигантами.
Роберт Бернс51
При наших социальных условиях ничего нет необыкновенного, если гениальный человек, подобно Батлеру52, «попросит хлеба и вместо него получит камень», потому что, несмотря на наше великое правило спроса и предложения, величайшего, совершенного дарования не оценивают люди. Изобретатель ткацкого станка может быть уверен, что он еще при жизни получит свою награду, автору же какой-нибудь оригинальной поэмы придется убедиться в противном. Не знаем, бросается ли эта несправедливость еще резче в глаза оттого, что воздаяние обыкновенно совершается после смерти. Роберт Бернс, по закону природы, мог бы жить еще долго, но его кратковременная жизнь была растрачена в тяжком труде и бедности, и он умер во цвете лет, жалкий и покинутый. Но теперь над прахом его возвышается красивый мавзолей, великолепные памятники воздвигнуты в честь него и в других местах, улица, где он выжил горькие дни, названа его именем, знаменитейшие литераторы гордятся быть его комментаторами и поклонниками, а перед нами лежит его биография, по счету уже шестая.
М-р Локхарт считает необходимым оправдаться перед публикой за эту новую биографическую попытку, и мы надеемся, что читатели оправдают его или, в худшем случае, осудят выполнение предпринятой им задачи, но никак не выбор ее. И действительно, жизнь Бернса не такая задача, которую легко решить и бросить. Напротив, отодвинутая от нас временем, она не только не утрачивает своего достоинства, но еще более приобретает его. Говорится, что никто не может быть героем перед своим слугой, – и это справедливо; но вина в этом деле заключается столько же в слуге, сколько и в герое, потому что для простых глаз, как известно, многие вещи имеют только тогда значение, когда они не отдалены. Людям чрезвычайно трудно убедиться, что человек, простой человек, бьющийся в поте лица своего о бок с ними из-за жалкого существования, создан из лучшего материала, чем они. Представим себе, что какой-нибудь собутыльник сэра Томаса Льюси и сосед Джона, утомившись постоянно охранять свою дичь и улучив свободную минуту, написали бы нам биографию Шекспира! Вероятно, в их сочинении не было бы и речи о «Гамлете» и «Буре». Дело бы касалось шерстяной торговли, охотников, стреляющих на чужой земле, законов о пасквилях и бродягах, затем приведен был бы рассказ, как пойманный охотник ломался и корчил из себя актера, а сэр Томас и мистер Джон, имея в груди христианское сердце, не хотели доводить его до крайности. Поэтому мы полагаем, что пока товарищи земного странствия Бернса, разные достопочтенные акцизные надсмотрщики, думфрийские аристократы, сквайры и графы, эйрские литераторы, с которыми он приходил в соприкосновение, не сделаются невидимы во мраке прошедшего, до тех пор будет трудно верно судить как о нем, так и о том, что он действительно сделал в XVIII столетии для своей родины и мира. Трудно, говорим мы, но небезынтересно для биографов, которых не раз повторенные попытки, может быть, наконец познакомят нас ближе с жизнью и деятельностью поэта.
Его прежние биографы, без сомнения, сделали кое-что, но труд их не имеет для нас большого подспорья. Д-р Керри и Уокер ошибочно взглянули на крайне важный пункт, именно на отношение их личности и мира к поэту и на способ, усвоенный им, анализировать и говорить о нем. Д-р Керри, по-видимому, искренно любит поэта, может быть, более, чем он признается в том своим читателям или самому себе, а между тем он относится к нему с тоном покровительства, как будто изящная публика найдет странным и предосудительным, что он, ученый муж и джентльмен, оказывает такую честь мужику. Но при всем этом мы полагаем, что его ошибочный взгляд происходит не от недостатка любви, а от недостатка убеждения, и жалеем, что первый и благомыслящий из биографов нашего поэта не владел более смелым и широким взглядом. Уокер впадает в еще большую ошибку, и оба, впрочем, ошибаются одинаково, когда подносят нам целый каталог его различных предполагаемых качеств, добродетелей и пороков, вместо того чтоб представить верное изображение характера, сложившегося при этих качествах, – результат всякого человеческого существования. Это не значит рисовать портрет, а измерять длину и ширину некоторых черт и их объем выражать в арифметических цифрах. Да и этого, впрочем, здесь нет, потому что нам прежде необходимо узнать, с помощью какой сноровки или инструмента следует измерять ум.
Локхарт, к счастью, сумел избежать этих ошибок. Он смотрит на Бернса как на великого и замечательного человека, каким признал его теперь общий голос. При изображении его личности он отрешился от метода общего обзора ее, но анализирует характеристические случаи, привычки, поступки, выражение – одним словом, те явления, которые показывают нам всего человека, разоблачают его деятельность и жизнь посреди своих собратьев. Поэтому книга Локхарта, при всех ее недостатках, дает нам более понятия об истинном характере Бернса, чем прежние биографии, хотя мы и ожидали более компетентного произведения от такого даровитого автора. Но во всяком случае, этот труд отличается ясностью, последовательностью, искренностью. Он проникнут духом терпимости и примирения; комплименты и похвалы расточаются щедрой рукой, не минуют ни маленьких, ни великих людей, и, как выражается Моррис Биркбек об обществе в американских лесах, «вежливость, свойственная образованному обществу, ни на минуту не упускалась из виду». Но в книге Локхарта встречаются вещи еще лучше этих, и мы можем смело засвидетельствовать, что она не только с приятностью прочитается один раз, но ее без труда можно прочесть и в другой раз.
Но тем не менее мы все-таки далеки от мнения, чтоб этой книгой была наконец исчерпана биография Бернса. Мы этим не намекаем на недостаточность содержащихся в ней фактов, но указываем только на неудовлетворительное распоряжение этими фактами как главную цель всякой биографии. Наш взгляд на этот предмет, может быть, покажется несколько преувеличенным, но если человек действительно достоин биографии, которая сохранила бы его память для человечества, то мы держимся того мнения, что читателю необходимо познакомиться со всеми внутренними стремлениями и оттенками его характера.
Как при его индивидуальном положении представлялись его уму мир и человеческая жизнь? Как влияли на него внешние условия, какое влияние он сам производил на них? С каким успехом боролся он с ними, какие муки и скорби сопровождали его поражение? Одним словом, каким путем, какими средствами действовало влияние общества на него и каким путем и какими средствами он, в свою очередь, влиял на общество? Кто на все эти вопросы относительно одного человека ответит верно и обстоятельно, тот, полагаем мы, в состоянии одарить нас образцовой биографией. Понятно, что немногие люди заслуживают подобного изучения, большинство биографий пишутся собственно для удовлетворения невинного любопытства, читаются и забываются, как биографии, не отвечающие вышесказанным условиям. Бернс, если не ошибаемся, принадлежал к числу этих немногих людей, но, к сожалению, не удостоился подобного изучения, или по крайней мере оно не дало желаемого результата. Мы вполне убеждены, что наши собственные заметки о жизни этого человека крайне скудны и недостаточны, но делимся ими охотно и надеемся, что они благосклонно будут приняты теми, для которых назначены.
Бернс вначале казался миру каким-то чудом. Его встретили громким, нелепым, шумным восторгом, но затем этот восторг перешел в порицание и пренебрежение, пока преждевременная и жалкая смерть не возбудила вновь к нему энтузиазма, который, так как уже нечего было делать и оставалось только говорить, и не остывает до нашего времени. Положим, что и «девять дней» давно прошли, но все-таки продолжительность этого шума как нельзя более доказывает, что Бернс был не совсем обыкновенным чудом. Поэтому если в продолжение многих лет он исключительно опирался на свои внутренние заслуги, которые, положим, уже теперь для нас утрачены, – всякий беспристрастный судья признает его не только истинным английским поэтом, но и замечательнейшим из английских людей XVIII столетия.
Не нужно обращать внимания, что он мало сделал. Он сделал много, если мы рассмотрим, где и как. Если дело, совершенное им, было невелико, то мы должны вспомнить, что ему самому приходилось изобретать материал. Металл, которым он работал, лежал в пустынной болотной почве, где только его глаз мог подметить присутствие этого металла. И кроме того, он должен был собственной рукой делать орудие для отделки его, потому что жил во мраке, без поддержки и образования, без образца или пользуясь образцом самого низшего сорта. Для образованного человека открыт необъятный арсенал и складочный магазин, наполненный всевозможным оружием и машинами, изобретенными человеческим умом с незапамятных времен. Здесь он работает с той силой, которая им заимствована еще от прошедших веков. Как различно, напротив, положение того, который стоит вне этого арсенала и чувствует, что его нужно взять штурмом – или вход туда навеки останется для него закрытым. Средства его ничтожны и грубы, самое дело, совершенное им, не есть еще мерило его силы. Карлик, стоя за паровой машиной, может сдвинуть горы, но никакой карлик не сдвинет их заступом; подобный труд под силу только одному титану.
Таким титаном является перед нами Бернс. Рожденный в прозаическом веке, какой когда-либо видела Англия, и при самых неблагоприятных условиях. Ум его, желая даже что-нибудь совершить, принужден был совершать это под гнетом постоянного физического труда, бедности, предчувствия еще худших зол, без всякой поддержки, образования, кроме образования, живущего в хижине бедняка, принимая за образчик красоты вирши какого-нибудь Фергюсона Рамсея, – он все-таки не погиб. А сквозь туман этого мрачного царства его рысий глаз умел подметить истинные отношения мира и человеческой жизни, развить свои умственные способности и приобрести умственную опытность. Увлекаемый гибким умом, он старается обнять все и подносит нам с гордой скромностью дар, которого мир не забудет. Если прибавить к этому его темное, тяжелое детство и юность, его преждевременную смерть, – он умер в 37 лет, – то не покажется странным, что его гений, не успев развиться в полной силе, создал немного. Увы! Его солнце сияло как бы во время бури, а смерть уже набросила на него свою тень в самый полдень! Гению Бернса, окруженному подобным мраком, никогда не удалось видеть мира в светлом, лучезарном блеске, и только по временам слабый луч прорезывал тучи, окрашивал их радужными цветами славы и грустного величия, на которое люди смотрели молча, с изумлением и слезами.
Мы стараемся, по возможности, воздержаться от преувеличенных похвал, потому что читатели наши требуют от нас не удивления, а фактов, а между тем нелегко это сделать. Мы любим Бернса, сочувствуем ему, но любовь и сочувствие способны на преувеличение. Критика, как иные полагают, должна быть делом ума хладнокровного. Мы не вполне согласны с этим мнением, но, во всяком случае, не можем исключительно относиться к Бернсу как критики. Хотя его поэзия оригинальна и правдива, но он все-таки скорее интересует нас не как поэт, а как человек. Ему нередко советовали написать трагедию. Времени и средств недоставало ему на это, а между тем в продолжение всей своей жизни он играл трагедию, и трагедию самую потрясающую. Мы не думаем, чтоб миру случалось видеть более грустное зрелище. Мы сомневаемся, чтоб сам Наполеон, томившийся на скале среди пустынного океана, мог возбуждать в мыслящем человеке более сострадания и ужаса, чем этот благородный и кроткий ум, истощавший свои силы в бесплодной борьбе с теснившими его со всех сторон пошлыми препятствиями, пока наконец смерть не указала ему выхода.
Завоеватели принадлежат к тому сорту людей, без которых, в большинстве случаев, мир мог бы легко обойтись. Да и самое свойство ума этих людей, их гордость, не внушающая сочувствия, энтузиазм, проникнутый себялюбием, не может возбудить горячей любви к ним. Мы смотрим на них с изумлением, а падение их вселяет в нас жалость и страх, как падение с какой-нибудь пирамиды. Но истинный поэт, одаренный сильным умом и в душе которого живет «вечная мелодия», – это драгоценный дар, когда-либо выпадающий на долю миру. Подобный человек отражает в себе все чистые, благородные побуждения, свойственные нам. Его жизнь для нас благотворна, поучительна, а смерть его мы оплакиваем как смерть нашего благодетеля, наставника, крепко любившего нас.
Подобным образом наградила природа Роберта Бернса, но с изумительным равнодушием бросила его на произвол судьбы, как незначащую вещь, которая была уже исковеркана и разбита вдребезги прежде, нежели мы узнали ее. Злополучному Бернсу дана была сила возвысить и облагородить любую человеческую жизнь, но ему отказано было в способности обставить благоразумно свою собственную. Самая судьба, его ошибки и ошибки других, все соединилось, чтобы погубить его, а высокий ум, не успев развиться, заглох, блестящие способности увяли при самом расцвете, и он умер, едва только начав жить. А между тем какой любовью согрета его душа, с каким сочувствием относится он к природе, умея отыскивать красоту и глубокий смысл в самых, по-видимому, незначительных ее явлениях. Маргаритка не падает не замеченная под его плугом; он заботливо откладывает в сторону нечаянно разоренное гнездо полевой мыши, «трусливого серенького зверька, которому стоило столько хлопот сложить из дерна этот свод». «Суровый лик зимы» восхищает его; он с глубоким чувством любуется этой возвышенной картиной запустения, но вой бури еще сильнее поражает его слух. Он любит странствовать в лесу, когда ветер качает деревьями, и этот шум возносит его мысли к тому, кто парит на «крыльях ветра».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.