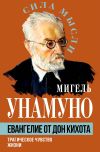Текст книги "Герои, почитание героев и героическое в истории"

Автор книги: Томас Карлейль
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 43 (всего у книги 72 страниц)
Мы уже заметили, что эта поездка была совершена вопреки королевскому «Lettre de cachet», но, вероятно, никто не обратит на это внимания и никто не донесет об этом. Великолепный летний вечер, – ты едешь спокойно, бедный Габриель, на душе у тебя легко, – но, может быть, надолго, может быть, навсегда придется тебе отказаться от такой приятной поездки, потому что смотри: кто там катит, освещенный желтым солнечным лучом, – совершенный джигмен, владеющий собственным кабриолетом! Боги, да это гаденький барон Вильнев Моан, оскорбивший твою сестру на гулянье! Человеческая природа невольно впадает в ошибки, если ей не дадут времени на размышление. Кабриолет прямо наезжает на тебя, ты останавливаешь лошадь, слезаешь с седла и совершенно бессознательно подходишь к барону и требуешь от него удовлетворения за оскорбленную честь сестры. Барон отказывается исполнить требование; тогда свирепый Габриель вытаскивает его из кабриолета и отделывает хлыстом, – и все это совершается на большой королевской дороге, в виду любопытных крестьян. Вот новая пища для людской молвы.
Молва эта разрастается, заносится в Париж и всюду. В ответ ей, 26 июня 1774 г., приходит новое и более выразительное «Lettre de cachet», а вместе с ним являются полицейские сыщики и карета. Габриеля разлучают с женой и умирающим ребенком, с домашним очагом и везут в Марсель, в замок Иф, грозно глядящий в море.
Здесь, окруженный голубым Средиземным морем, за железной решеткой, без перьев, бумаги, друзей и людей, за исключением Цербера, которому поручено строго присматривать за ним, он обречен коротать время, – такова власть «Lettre de cachet», воля сурового маркиза. Таким образом, едва пробившийся луч снова объят мраком. Жестоки формулы, бедный Мирабо, относительно тебя, но ты вступил с ними в страшный бой, и Бог знает, каким ужасным путем выйдешь ты из него победителем! С этого времени непроглядный мрак все более и более окружает бедного Габриеля, его жизненный путь делается труднее, не яркое солнце озаряет его, а блудящие огоньки, мелькающие здесь и там.
Но укроти твое бешенство, бедный Мирабо. Подави горячие слезы, примирись, если можешь, с настоящей судьбой, – другого выхода нет. Осень сменяется зимой, за зимой следует все оживляющая весна, волны пенятся и бьются о стены замка Иф, в которых ты заключен, несчастный человек… Нет, Габриеля нельзя назвать несчастным, в нем бездна природной веселости, в нем заключается пламенная жизнь, с которой не сладить никакой судьбе. Цербер Ифа, Далегр, постепенно делается мягче, уступчивее, снабжает его бумагой и перьями, принимает в нем участие, предлагает советы, так что, благодаря этой снисходительности, до него доходят некоторые письма.
Над теплым, дружеским письмом сестры Сальян проливаются слезы, но плакать, впрочем, тебе не всегда приходится, – есть лучшее дело! Ты пишешь мемуары о «Серебряном воротнике», отрывок из которых мы привели выше, и составляешь разного рода проекты. Но иногда не прочь ты и от проказ, в особенности когда дело коснется хорошеньких маркитанток… Нередко в крепость доходят и слова утешения: сестры и братья советуют ему не падать духом и не терять надежды. Наши читатели знакомы со «старшим» Мирабо, как называл Габриеля маркиз, теперь скажем несколько слов о «младшем».
Мы говорим о мальтийском рыцаре Мирабо, «суровом сыне моря», в то время он также великий сорванец. Только оправившись от тяжкой болезни, он приехал из Мальты в Марсель, куда привлекла его горячая привязанность к брату. В письме к сестре Кабри он следующим образом описывает свое свидание с ним: «Дул сильный ветер; ни один из лодочников не брался меня везти. Наконец двоих я кое-как принудил согласиться на мое требование, не столько деньгами, которых, благодаря Богу, как ты знаешь, у меня нет, сколько угрозами и красноречием. Я подъезжаю к замку Иф. В воротах поручик – Далегра в то время не было – советует мне совершенно спокойно ехать обратно. «Я уеду, но только не прежде, как увижу брата Габриеля», – отвечаю я ему. – «Этого нельзя». – «В таком случае я ему напишу». – «И этого не могу разрешить». – «Ну так я подожду Далегра». – «Ждать вы можете, но не более 24 часов». – Тогда мне приходит в голову обратиться к Ламуре, хорошенькой жене одного маркитанта, и она обещает мне устроить свидание с бедным братом после вечерней зари. Таким образом, мне удается пробраться в его келью, но только не с видом победителя, а скорее вора и любовника, и мы изливаем друг перед другом свои души. Все боялись, что он доведет мою голову до температуры своей, но мне кажется, сестра, что люди судили о нем ложно. Уверяю тебя, что в то время, когда он рассказывал мне свою историю, я клялся, что, несмотря на свою болезнь, я еще довольно силен, чтоб сломать нос Вильневу Моану или по крайней мере его трусишке-брату. «Мой друг, – возразил он мне, – этим ты только погубишь нас обоих». И я сознался, что это была единственная причина, помешавшая мне выполнить мое намерение, которое, впрочем, было бы совершенно бесполезно и могло зародиться только в моей разгоряченной голове».
Вот, любезный читатель, мальтийский рыцарь, виконт де Мирабо, известный во время революции под именем Mirabeau-Tonneau, или «бочка-Мирабо», по причине его толщины и количества обыкновенно выпиваемого им вина. Это тот самый Мирабо, который на собрании государственных чинов сломал свою шпагу, потому что дворянство уступило и тем положило конец рыцарству. В политических делах он составлял совершенную противоположность своему старшему брату и, как подобает общественному деятелю, говорил много, возбуждая нередко смех своими дикими, забавными выходками, – результат выпитого им вина.
Впоследствии, негодуя на новые порядки, он ушел за Рейн и там занимался обучением войска эмигрантов. Однажды, когда он сидел в палатке и думал невеселую думу об обороте, который приняли события, ему докладывают, что к нему явился капитан по делам службы. Он отказывает в приеме, капитан настойчивее прежнего требует свидания. Мирабо вспыхивает, как внезапно подожженная бочка со спиртом, выхватывает шпагу и бросается на наглеца, но, к несчастию, тот, в свою очередь, также успел обнажить шпагу, на которую натыкается Мирабо и умирает на месте.
Это был пятый акт жизненной драмы Mirabeau-Tonneau, похожий и не похожий на первый акт в крепости Иф. Таким образом, занавес падает, газеты называют это «апоплексиею» и прискорбным случаем.
Брат, сестры, смуглянка-жена, Цербер Ифа – все ходатайствуют за раскаявшегося бедного грешника. Но маркиз глух, как судьба. Полагая, что комендант Ифа был околдован, он приказывает перевести сына в крепость Жу, «старое совиное гнездо с горстью инвалидов», находящееся в Юрских горах. Вместо меланхолического моря он может теперь познакомиться с меланхолическими гранитными скалами, еще покрытыми снегом, насладиться их туманами и зловещими криками сов и устроить здесь свою жизнь на 1200 франков, если не умел жить на 9000 франков. Но что же делает жена бедного Мирабо? Маленькой смуглянке надоели бесполезные просьбы. Схоронив ребенка, схоронив заживо мужа, двадцатилетняя женщина старается развеяться теоретической любовью. Она перестает упрашивать маркиза и постепенно забывает мужа. Брачная жизнь, разбитая еще в то время, когда полицейские сыщики явились в Маноск, несмотря на все усилия, не может быть восстановлена, но разольется на две отдельные реки, чтоб окончательно затеряться где-нибудь в безотрадной песчаной пустыне. Мужу и жене после этого уже не удалось более увидеться.
Недалеко от меланхолической крепости Жу лежит меланхолическое местечко Понтарлье, где узнику, на честное слово, позволяется иногда гулять. В этом местечке находится дом некоего Монье, с которым и связано событие, рассказываемое нами. О семидесятипятилетнем старике Монье, президенте суда, нам придется говорить меньше, чем о его жене Софии Монье (урожденной де Роже, из Дижона), которой едва только минуло девятнадцать лет. Но вот уже четыре года, как эта достойная, героически-несчастная женщина замужем за дряхлым стариком. Какая проклятая шутка судьбы соединила весну с зимой! Таков здесь обычай, добрый читатель, следуя которому натуралист Бюффон, будучи шестидесяти трех лет, изъездил всю Францию, отыскивая молодую жену, и наконец нашел ее, – и она действительно была известна под именем жены Бюффона, но только впоследствии свела знакомство с Филиппом Egalite. София де Руже любила умных мужчин, но с тем условием, чтоб они не были чересчур преклонных лет, а между тем на нежелание ее вступить в брак со стариком ей постоянно предлагали вопрос: не желает ли она в таком случае идти в монастырь? Родители ее были строго благочестивые, крайне тщеславные и бедные люди, а несчастная героиня, вероятно, принадлежала к породе свободомыслительниц. В это время старик Монье, «поссорившись со своей дочерью», приезжает в Понтарлье с мешками золота, брачным контрактом и намерением скоро умереть. Таким образом, слагается старая, грустная повесть, которую нередко воспевали и в прозе и в стихах.
Теперь представьте себе, какое действие произвело пламенное красноречие Мирабо в этом скучном семействе, как осуществились мечты молодой женщины при виде этого пылкого, хотя и безобразного мужчины и как сам Монье, внимая его красноречию, вновь ожил и помолодел! Мирабо, уже по прежним, знакомым ему признакам, чувствовал, что сладкое, роковое чувство закралось ему в сердце, – чувство, которое старика мужа и жену и его самого приведет только к черту. Испуганный этим предчувствием, он написал своей жене и просил ее, ради Бога, приехать к нему. Может быть, при «виде своего долга» он будет тверже, а пока постарается избегать Понтарлье. Жена отвечала «холодным письмом», намекавшим довольно прозрачно, что он не в своем уме, и Мирабо с этих пор перестает избегать Понтарлье, где все-таки слаще совиного гнезда. Он чаще и чаще появляется там, встречи делаются нежнее и нежнее, и таким образом!..
Старик Монье не замечал или по крайней мере показывал, что не замечает. Но не таков был комендант крепости Жу. Находясь хотя и на дружеской ноге со своим узником, он, по словам Мирабо, «сам имел виды на Софию; он был старше меня сорока или сорока пятью годами, его безобразие не уступало моему, но на моей стороне было преимущество – я был честный человек».
Ревнивый комендант письмом предостерегает Монье, а сам между тем, под пустым предлогом, приказывает Мирабо ограничить свою прогулку только четырьмя стенами Жу. Узник не хочет знать подобного распоряжения, изливает свое негодование в письме к коменданту и отправляется в Швейцарию, лежащую в нескольких милях от крепости, а дня через два (в январе 1776 года) тайком пробирается снова в Понтарлье. Происходит скандал. София Монье резко протестует против упреков, признается мужу в своей любви к Габриелю Оноре, отстаивает свое право любить его и продолжает любить. Ее увозят к родителям в Дижон, Габриель тайно следует за ней.
Непрерывная цепь скандалов тянется всю зиму, весну и лето. Являются слезы, угрозы, происходят тайные свидания, громкие признания, лелеются робкие надежды. Некоторые коменданты «сквозь пальцы» смотрят на выходки гордого узника, но есть один комендант – маркиз Мирабо, который, сидя в замке Биньон, спокойно кует свои громовые стрелы.
«Я очень доволен, – говорит он, – что приобрел Мон-Сен-Мишель в Нормандии, и полагаю, что это надежная тюрьма. Во-первых, на этой горе находится укрепленный замок, а во-вторых – ее окружает стена, за которою тянутся непроходимые пески, так что нужно брать проводника, чтоб окончательно не завязнуть в них». Вот высится эта крутая гора, гора скорби, – из нее только вид на соленое море, – здесь царство отчаяния. Беги, Габриель, а ты, бедная София, воротись в Понтарлье, потому что монастырские стены суровы…
Габриель бежит, а с ним бежит и его сестра Кабри и ее Бриансон в эполетах. Те, собственно, бегут из своих интересов, чтоб укрыться в Юго-Западной Франции. Маркиз Мирабо, все еще помышляя о Мон-Сен-Мишель и ее песках, выбирает лучшего полицейского сыщика Брюньера и его товарища, снимает с них намордник и кричит: «Ищи!»
Так как человек существо такого рода, что с величайшею готовностью охотится за другими людьми и постоянно интересуется охотой, то мы полагаем не лишним представить здесь небольшой очерк охоты за людьми, происходившей в Юго-Западной Франции. Для составления этого очерка, к нашему необыкновенному счастью, уцелел письменный, довольно безграмотный отчет, который, по всей вероятности, посылался распорядителем этой травли главному охотнику, зорко следившему из своего далека за всеми его действиями. Не всякий день случается травить такого зверя, как Габриель Оноре, не всякий день встречаются охотники, подобные маркизу Мирабо, или имеются под рукою гончие, умеющие, хотя и безграмотно, излагать свой взгляд на дело.
«Приехав в Дижон, я отправился к президентше Руффе, чтоб собрать кое-какие сведения. Она сообщила мне, что в городе проживает некий шевалье де Макон, офицер, состоящий на половинном жалованье, друг и доверенный Мирабо и который лучше всех сумеет указать мне, где он». Затем Брюньер останавливается в той же гостинице, где живет Макон, находит случай с ним познакомиться, подделывается под его вкусы, посещает с ним вместе фехтовальные залы, бильярды и тому подобные места.
«Когда мы приехали в Женеву, то узнали, что Мирабо был здесь 5 июня. Отсюда он отправился в Савойю. К нему являлись две женщины, одетые в мужское платье, и он вместе с ними поехал в Шамбери, а оттуда через Турин. В Савойе мы не могли узнать, куда они направили свой путь», – так скрытно ведут они свое дело. «После трехдневных и невероятных усилий мы наконец отыскали человека, возившего их. Он сообщил, что они отправились снова в Женеву; мы спешим с полною надеждою найти их там». Но надежда эта так же обманула их, как и прежде.
«Кроме того, в Женеве мы узнали, что Мирабо и его товарищи, хотя вооруженные совершенными контрабандистами, купили себе еще пистолеты и даже охотничий нож с пистолетом вместо рукоятки. Беглецы избирают дьявольские дороги. Следуя за ними, мы приезжаем в Лион, куда они пробрались самым хитрым способом, так что нам стоит неимоверных усилий, чтобы по крайней мере напасть на их след. Случай помог нам наткнуться на одного человека, по имени Сен-Жан, преданного слугу г-жи Кабри. Когда Мирабо с Бриансоном, которого я считаю негодяем, уехал отсюда, то сказал Сен-Жану, что они отправляются в Лорг, в Прованс, на родину Бриансона, откуда Бриансон проводит Мирабо до Ниццы, а тот сядет на корабль и постарается добраться до Женевы, где проживет с месяц.
Следуя этим путем за Мирабо, поплывшим из Лиона по Роне, мы приехали в Авиньон. Здесь мы узнали, что он взял почтовых лошадей, которым и велел дожидаться в полмили от города. Он снова купил здесь пару пистолетов и, наняв закрытый экипаж, проехал через Авиньон и сдал письма на почту. Это происходило в сумерки; в то время была ярмарка, экипаж его затерялся в толпе, и нам не было никакой возможности уследить за ним… Почтенный адвокат Марсо много помог нам в этом деле: он познакомил нас с Бриансоном, и нам удалось с ним даже поужинать. Мы выдали себя за путешественников, лионских купцов, ехавших в Женеву и Италию, и таким образом развязали язык Бриансону…
При переезде из Прованса в Ниццу нужно переправляться вброд через речку Вар, – дело весьма опасное и даже нередко невозможное, потому что иногда эта речка выходит из берегов и разливается на 1/4 мили, да, впрочем, и в другое время она бывает очень бурной. Рассказы о ней, разумеется, еще более увеличивают опасность, так что все путешественники о переправе через нее говорят не иначе как с ужасом.
На обоих берегах обыкновенно стоят здоровенные парни, которые указывают путь, идя впереди и ощупывая шестом дно, меняющееся несколько раз на дню. Они всеми силами стараются напугать путешественника, даже если нет никакой опасности. Люди эти, помогшие нам перейти через речку, рассказывали, что какой-то господин, весьма схожий, по их описанию, с тем, которого мы искали, отказался от проводников, перешел речку без их помощи и перевел с собою нескольких женщин. По-видимому, он старался быть неузнанным. Мы принялись за самые строгие розыски и узнали, что этот же господин закусывал в одном соседнем трактире. При нем была золотая шкатулка с портретом женщины, одним словом – он вполне соответствовал описанию проводников. В трактире он узнавал, не отходит ли какой-нибудь корабль из Ниццы в Италию, и ему сказали, что на днях один корабль отправляется в Англию. Он перешел Вар, как я уже извещал вас, сударь, – при этом же имею честь донести, что в Вильфранше, небольшой гавани, находящейся недалеко от Ниццы, неизвестный человек сел на корабль и отправился в Англию. Наружность этого человека соответствовала прежнему описанию, только на нем был красный кафтан, а Мирабо до этого времени носил зеленый. Несмотря на это известие, мы все-таки послали нескольких человек, знакомых с местностью, в горы. Бюфьер взбирался на гору верхом на муле, привыкшем к подобным восхождениям, захватив с собой проводника и делая всевозможные поиски. Одним словом, сударь, мы сделали все, что только может придумать человеческий ум; всюду преследовал нас страшный зной, так что мы окончательно выбились из сил и наши ноги опухли…»
Итак, все усилия человеческого ума были напрасны. 23 августа 1776 года София Монье, переодетая в мужское платье, перелезает через садовую стену в Понтарлье и спешит, окутанная мраком и несомая на крыльях любви и отчаяния, в Швейцарию. Габриель Оноре, окутанный тем же плащом и на тех же крыльях, летит с нею в Голландию, – и с этих пор он погибший человек.
«Преступление, вечно достойное сожаления, – восклицает побочный сын, – преступление, о котором мир так много говорил и будет постоянно говорить». И действительно, есть много вещей, о которых можно легко говорить, и есть вещи, о которых не так-то легко говорить. Скажи, добродетельный побочный сын, отчего поступок маркитантки крепости Иф простая шалость, а поступок президентши – преступление, достойное вечного сожаления? По мнению автора настоящего очерка, как тот, так и другой – преступление. Да разве первым величайшим преступником и грешником в этом деле не был сам президент, этот сумасброд, которому едва ли суд природы вынесет оправдательный приговор? А кто был вторым, третьим и четвертым грешником, – да вообще кто из нас безгрешен? Автор не имеет ничего сказать, а только сошлется на следующие слова Джонсона: «Мой друг, мои любезные собратья, постарайтесь очистить ваши души от лицемерия». Это положительно первая и крайне необходимая потребность всех мужчин, женщин и детей, желающих в наше время, чтоб их души были живы, а не задохнулись от угольного дыма, который чем чище, тем гибельнее для дыхания.
Что безансонский парламент обвинил Мирабо в увозе, похищении, в самовольной отлучке и приказал обезглавить его изображение, сделанное из бумаги, – мы считаем излишним распространяться, хотя, может быть, это и было в порядке вещей. Горемычную жизнь обоих любовников в Амстердаме мы также не будем подробно разбирать. Пылкий мужчина и красивая героиня-женщина переживали свой действительный роман настолько удовлетворительно, насколько позволяли обстоятельства. Огненные темпераменты редко уживаются вместе, и путь верной любви, как в законном браке, так и в сожитии с похищенной женой, не всегда ровен. Если в настоящем случае он не был ровен, зато постоянно менялся, – ссора и примирение, слезы и искренняя любовь, тропические бури, со всей роскошью и великолепием тропической природы, чередовались в жизни молодых людей. Их жизнь доходила на островок Пафос, окутанный мраком; самая опасность и отчаяние, окружавшие этот островок, придавали ему еще более прелести. Так жалкому горемыке делается жизнь сносна и гладка, когда он видит близость смерти. Разве не может каждую минуту какой-нибудь страшный альгвазил постучаться и взломать дверь нашего чердака на Кальвестранде, в доме портного Лекена?..
Габриель работает для голландских книгопродавцев, переводит «Филиппа Второго», Ватсона, не щадит своих сил и добывает по луидору в день. София шьет и стирает белье своими нежными пальчиками и не ропщет на судьбу. В тяжком труде, блаженстве, постоянном страхе, что нет-нет да и разлучат их, быстро проходят дни. Подобная жизнь длится целых восемь тропических месяцев, по истечении которых, увы, 14 мая 1777 года действительно является альгвазил в образе нашей прежней ищейки Брюньера. Опухоль его ног прошла, и человеческий ум на этот раз достиг задуманной цели. Он предъявляет им королевский приказ, письменное согласие голландского штатгальтера, скрепленное печатью. Габриелю предстоит одна дорога, Софии другая, – бедная женщина готовится быть матерью и должна расстаться с ним навсегда. Ее отчаяние не знает пределов, она, по словам ищейки, решилась бы на самоубийство, если б ей не пообещали из сострадания, что им будет позволено переписываться и что, следовательно, надежда еще не окончательно потеряна. Посреди объятий, слез и вздохов, которые трудно и передать, они отрываются друг от друга. Мирабо везут в Париж в Венсеннскую крепость, Софию заключают в монастырь на время, пока судьба распорядится относительно ее дальнейшей жизни.
Итак, гигант Мирабо заключен в Венсеннскую крепость. Его душа волнуется, кипит и негодует на это насилие, вопль отчаяния оглашает немые стены. Унижен и опозорен в глазах целого мира этот гордый и честолюбивый человек; его золотые надежды разлетелись в прах, его жизнь загублена и разбита. Его отец глух по-прежнему, глух, как судьба; ни просьбы, ни ходатайства не трогают его. Скрипнули ржавые петли, захлопнулись тяжелые двери – и горе тебе! Из громадного Парижа доносится неумолкаемый гул и шум, – ты видишь его башни, освещенные вечерней зарей, а тебе, несчастному, ни утро, ни вечер, ни даже перемены времен года не приносят свободы. На земле ты забыт, а на небо нет надежды. Никакие горячие мольбы не могут расшевелить старого маркиза – он, повторяем, глух, как судьба. В этой крепости тебе суждено прожить сорок два месяца, а между тем гардероб наследника Рикетти истощился, он жалуется, что все его платье худо и ему нечем прикрыться от стужи. Зрение его слабеет, и в нем начинает развиваться наследственная болезнь в почках. Врачи, для сохранения жизни, предписывают ему верховую езду. «Согласен, но только в стенах крепости», – отвечает маркиз, и, таким образом, графу Мирабо приходится прогуливаться верхом в садике, имеющем не более сорока шагов, окруженном высокими стенами и башнями.
А между тем не думайте, что Мирабо проводит свое время только в слезах да жалобах. Нет, подобно Диогену, он далек от того, «чтоб плакать и рыдать, вложив палец в глаз, об том, что у него нет другой бочки»50. Такой пламенной массы жизни, которую не под силу было бы разбить молотом самих циклопов, в то время не существовало во всей Европе. Его нельзя было назвать могущественнейшим человеком из современных ему людей, – не в огне, а в свете сила, – но все-таки его энергия, обилие жизни, обаятельный характер доказывали, что в нем заключена прочная, непоколебимая сила.
Бурные, дурно направленные страсти, душевные волнения, внешний беспощадный гнет – все это могло бы сломить десятерых, а между тем Габриель Оноре, при подобных трудных условиях, остался цел и невредим. Полицейский офицер из сострадания и в силу прежнего обещания разрешает ему переписываться с Софией, но с условием, что письма будут вскрываться и затем, по прочтении, отдаваться ему на хранение. Письма Мирабо – это огонь и слезы, но только не а-ля Вертер, а а-ля Мирабо. Кроме этих писем, ему еще приходилось писать просьбы к отцу, каяться перед ним в своих грехах, вести переписку с друзьями, чтоб при их посредничестве передавать как-нибудь эти просьбы маркизу. Одним словом, у него была целая масса корреспонденции. Помимо этого занятия, он мог еще читать, хотя и с большими ограничениями, сочинять и компилировать книги вроде «Эротической библии», которую нельзя рекомендовать ни мужчине, ни женщине. Его благочестивый биограф закрывает свое лицо при этом скандалезном произведении и жалобно прибавляет, что о нем нечего сказать. Относительно же переписки с Софией нужно заметить, что она долгое время хранилась в бюро Ленуара и только в 1792 году была найдена Манюэлем, прокуратором коммуны, и увидела свет. Собрание этих писем вызывает обыкновенно слезы у сентиментальных душ, но автор настоящего очерка старается воздержаться от них, по крайней мере здесь, за неимением места; впрочем, во всяком случае, это в своем роде превосходные любовные письма.
Но чем «венсеннская переписка» вызовет еще более слез у чувствительных людей, – так это ее прискорбным результатом. Через несколько лет любовники, которых разлучили в Голландии и которым, чтоб спасти их от самоубийства, разрешили переписываться, снова увиделись, и свидание это происходило под покровом ночи, в комнате у Софии, в Провансе. Мирабо приехал издалека и был одет крестьянином. Вы, может быть, думаете, что они бросились друг другу в объятия, вместе поплакали о смерти ребенка и припомнили пережитые ими скорби и страдания? Ничуть не бывало: они стояли друг против друга, жестикулируя, как ораторы, менялись взаимными упреками в неверности, голоса их делались громче и громче, пока наконец, опустив руки, они не разошлись, чтоб никогда более не увидеться на земле.
В 1789 году Мирабо уже сделался всемирной знаменитостью. София скрылась от глаз мира и незаметно проживала в городке Гиени.
9 сентября, может быть, Мирабо гремел в Версале, и речь его была подхвачена и разнесена по всему миру журналами. София, два раза потом выходившая замуж, окруженная непроглядным мраком отчаяния, лежала на софе, подле жаровни с раскаленными угольями, чтоб умереть смертью несчастной. Не говорили ли мы, что путь верной любви не всегда гладок и ровен?
Наконец, почти через два года, после просьб и ходатайств, Мирабо освобождают из заключения. Но судьба не вводит его вновь в покинутую им семью (с семьею, женою и прошедшим он покончил давно), бросает его в огромный пустынный мир, где, подобно ветхозаветному Измаилу, он может поохотиться и попытать счастья. Взгляни на него, читатель, и ты признаешь в нем замечательного человека. Хотя он опозорен, но не унижен. Хотя мир смотрит на него как на погибшего человека, «но в душе он не погибший человек и никогда им не будет. Какой энергией и огнем наделен он, в нем соединены и громадные дарования, и мелкое тщеславие, легкомыслие и благоразумие, пороки и добродетели. Он при самых трудных обстоятельствах не уступает судьбе ни одного шага, но сам предъявляет ей требование. Его гордая, озлобленная и изуродованная гнетом и преследованиями душа сбрасывает с себя оковы и спешит на бой, как будто веря в полную победу. Скорее почтовых лошадей! – и он мчится в Понтарлье и требует от безансонского парламента отменить «заочный» приговор и вновь приставить голову к бумажному изображению. Неукротимый гигант садится добровольно в тюрьму, – говорит громовые речи в свою защиту, от которых трепещут члены парламента, к которым прислушивается целая Франция, – и голова, при самых вежливых извинениях судей, соединяется с бумажным туловищем. Монье и Руффе смотрят на него как на бесстыдного человека, – изумленный мир признает в нем одного из даровитых людей.
Даже сам маркиз не может удержаться от похвалы, хотя условной. Упрямый старик проиграл все свои знаменитые процессы, понеся при этом громадные потери, – его богатство рушилось, проекты не удались и самые «Lettres de cachet» потеряли силу и смысл. По случаю этих прискорбных обстоятельств он собрал вокруг себя своих детей, в шутку называет себя инвалидом, способным только сидеть у камина, чинить и заштопывать старую голову. Он не отказывает им в добрых советах, но не награждает их уже «Lettres de cachet» и подобными благодеяниями. Здесь, у камина, подобно тихому вечеру после бурного дня, покоится он, не метая более «громовых стрел». По временам только яркий огонек в форме меткого слова, дельного замечания вспыхивает в нем и горит до конца. В небольшом каталоге добродетелей графа Мирабо не нужно упускать из виду его искреннюю любовь к отцу, которая заставляла его забывать и прощать все жестокости последнего.
Хотя Мирабо и покончил с безансонским парламентом, но жить человеку без денег не совсем-то удобно. Если б жена не разошлась с ним, то можно бы было надеяться на осуществление блестящих надежд, потому что тесть близок к смерти. Ловкий и не стесняющийся никакими препятствиями, Мирабо весною 1783 года отправляется в Э приводить в смятение парламент и требует, чтоб жена жила вместе с ним… Слава его разносится по всей Франции и всему миру, английские путешественники, знатные иностранцы нарочно съезжаются в Э, – суд набит сверху донизу. С демосфеновским красноречием и пафосом раскаявшийся супруг требует возвращения ему жены. Но мир и парламент не знают, что думать, они уверены только в одном, что это даровитый оратор, которого когда-либо случалось слышать. Но несмотря на это, дело его все-таки проиграно, жену ему не возвращают, а следовательно, он не получает денег. Взять приступом счастье не удалось, он отступил с обманутыми надеждами, и положение его еще более ухудшилось… Средств жизни у него нет, и даже маркиз начинает посматривать на него косо. Ему остается только, подобно Измаилу, ум и энергия; в них заключается вся его надежда, они не изменят ему, – на другую же опору нечего рассчитывать. Человеку, одаренному громадными дарованиями и громадной душевной силой, остается только, чтоб употребить их в дело, прибегнуть к бесчестию, презреть все и опрокинуть все препятствия. В кармане у него только жалобы кредиторов, он лишен семьи, родины, состояния, – неизбежная гибель грозит ему. И при таких условиях нужно жить и бороться.
Жизнь, разбитая им самим и другими, вызывала у него слезы, хотя его нелегко было тронуть. Испытав бурю, сломившую ее, он утратил всякую надежду на возвращение блеска и значения. Человек с более слабым характером не вынес бы таких ударов и умер, опился бы водкой или отравился мышьяком, но Мирабо уцелел. Мир не был другом ему, а он не мог сочувствовать законам и формулам этого мира, объявил ему войну и был побежден, хотя и не совсем.
Люди подобной силы, как Мирабо, способные, в случае нужды, опрокинуть формулы, загораживающие им дорогу, всегда сумеют укрыться позади них. Несмотря на то что он лишился уважения мира и общество с его законами и правилами уже изрекло над ним свое проклятие, но тем не менее он не погиб, не предался отчаянию, малодушию или бесплодному унынию. Наперекор миру он жив, полон энергии. Мир не в состоянии отнять у него сознания собственного достоинства, не может лишить его искреннего, теплого чувства, питаемого им к другим людям, – есть пределы, переступить которые не заставят его ни мир, ни дьявол. Это колосс – могучая скала, которую разбивает молния, но она широкой пятой уперлась в землю, пустила глубокие корни и противится всякому разрушению. Весьма верно заметил один моралист: «Нельзя желать, чтоб кто-нибудь из людей впадал в ошибку, а между тем нередко случается, что после ошибки или даже преступления в человеке развивается нравственная сила и именно в то время, когда все другие силы уже оставят его».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.