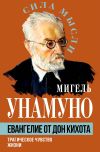Текст книги "Герои, почитание героев и героическое в истории"

Автор книги: Томас Карлейль
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 24 (всего у книги 72 страниц)
Нужно заметить, что граф Калиостро, познакомившись посредством абсолютно неизвестного Джорджа Кофтона с египетским масонством, в котором было немалое количество «магии и суеверия», решается очистить его от этих вредных ингредиентов и сделать из него род Евангелия или обновителя мира, так сильно нуждавшегося в обновлении и улучшении. «Так как в нем не было никакой веры, – говорит биограф, – то его ничто не могло остановить».
«В своей системе, – продолжает тот же биограф, – он обещает своим приверженцам, посредством физического и нравственного возрождения, привести их к совершенству: посредством первого дать им возможность найти prima material, или философский камень, который утвердит в человеке силу цветущей юности и сделает его бессмертным. С помощью последнего, или нравственного возрождения, он обещает им добыть «Пентагон», который возвратит человеку утраченное грехопадением первобытное состояние невинности. Основатель верит, что египетское масонство было учреждено Енохом и Илиею, которые распространили его в различных частях света. В течение времени оно, впрочем, много утратило своей чистоты и блеска. Так, масонство мужчин постепенно переходило в простой фарс, а масонство женщин совершенно уничтожилось, потому что не имело даже никакого места в обыкновенном масонстве. Но в том-то и состояла заслуга великого кофты (так называются египетские верховные жрецы), что он восстановил масонство обоих полов в прежнем блеске».
Относительно же великого вопроса, как добыть неоценимый «Пентагон», долженствующий уничтожить первородный грех, как для этой цели избрать уединенную гору, назвать ее Синаем и на ней построить храм, который наименовать Сионом, возвести двенадцать стен, в каждой стене по одному окну и по три этажа, из которых один назвать Араратом, затем подвергнуть себя и двенадцать мастеров, стоящих у каждого окна, всевозможным формальностям, постам и бичеваниям, – относительно этого великого вопроса мы решаемся умолчать. Также умолчим относительно еще более грандиозного процесса физического возрождения или восстановления молодости. Этого сокровища можно достичь только в таком случае, когда в продолжение двух недель будешь принимать очистительное, паровые ванны, подвергать себя голоду, кровопусканию до такой степени, что и самое восстановление молодости не стоит этого. Пропустив все внутренние церемонии и высокопарные проповеди о единстве, добродетели, мудрости, бессмертии и бог знает о чем, мы попросим читателя заглянуть с нами на таинственную внешнюю церемонию этого египетского масонства, как описывает нам ее инквизиционный биограф.
«Во всей этой церемонии, – говорит он, – встречается столько же богохульства, профанации, суеверия и идолопоклонства, как и в обыкновенном масонстве: призывание священных имен, коленопреклонения, поклонение достопочтенным братьям или главе ложи, клятвы неофитов, одежды, которые они должны возложить на себя, эмблемы Святой Троицы, луны, солнца, круга, квадрата и тысячи других богохульств и нелепостей, хорошо известных в настоящее время миру.
Мы упомянули выше о великом кофте. Под этим титулом подразумевают основателя или восстановителя египетского масонства. Калиостро подтвердил, не колеблясь, что под этим именем нужно разуметь его самого. По этой системе великий кофта сравнивается с высшим существом. Ему воздаются торжественные почести; он имеет власть над духами; его призывают при всех обстоятельствах; все происходит в силу его власти, которую он непосредственно получает от неба…
Из египетской общины не исключается ни одна религиозная община: еврею, кальвинисту, лютеранину также свободен туда доступ, как и католику, только бы они веровали в бытие Бога и бессмертие души. Члены, возведенные в звание мастеров, носят имена древних пророков, женщины называются именами сивилл.
«Гроссмейстерина дует в лицо неофитки, начиная со лба и до подбородка, и говорит: я даю тебе это дыхание, чтоб в тебе возросла и жила истина, которою мы обладаем, и т. д.
Они выбирают мальчика или девочку, находящихся в состоянии невинности, называют их голубем и голубкою, а гроссмейстер передает им власть, которой владеет еще до грехопадения человека…»
Может быть, читатель желает взглянуть на деятельность голубя или голубки? Действовать они могут двояким образом: за занавесами или ширмами, разрисованными иероглифами, за которыми помещается стол с тремя свечами, или, как при настоящем случае, перед сосудом с водой. Если чудо не удается, то причина заключается в том, что голубь или голубка не находятся в состоянии невинности, вследствие чего относительно этого предмета следует иметь большую предосторожность. Сцена происходит в Митаве – здесь действует голубь, а не голубка, что, впрочем, нисколько не изменяет дела.
«Калиостро, – рассказывает инквизиционный биограф, – ввел в ложу маленького мальчика, сына тамошнего дворянина. Он поставил его на колени перед столом, на котором находился сосуд с чистой водой, а сзади сосуда горело несколько свеч. Затем, сделав заклинание, он положил руку на голову мальчика и просил у Бога милости для счастливого завершения этого дела, приказав мальчику пристально смотреть в сосуд. Через некоторое время мальчик вскрикнул и объявил, что видит что-то белое, затем начал прыгать, как беснующийся, и закричал: «Я вижу такого же ребенка, как я, – он похож на ангела». Присутствующие и сам Калиостро не могли произнести ни одного слова от душевного волнения. Сделав затем новое заклинание над ребенком, гроссмейстер положил ему свою руку на голову и молился вместе с ним. Мальчик снова заглянул в сосуд и сказал, что видит свою сестру, – она сходит в эту минуту с лестницы и обнимает одного из своих братьев. Это показалось всем невозможным, потому что означенный брат был в это время в нескольких сотнях миль от города, но Калиостро не потерял духа и предложил послать на дачу, где живет сестра, и узнать об этом».
Но чтоб покончить с египетским масонством, я предлагаю читателю в первый и последний раз заглянуть в книгу Люше «Essai sur les illumines». Так как все это дело есть не что иное, как химера, то оно и написано, так сказать, химерически. А между тем легковерный потомок Адама примет следующий рассказ, пожалуй, и за правду. Итак, слушайте, слушайте!
«Неофит темным коридором вводится в громадную залу, потолок, стены и пол которой обтянуты черным сукном, усеянным изображениями огненных языков и шипящих змей. Три лампы проливают слабый свет, и глаз распознает в мрачном пространстве покрытые черным флером известные останки человеческой природы – груду скелетов, образующую посредине залы род алтаря, с обеих сторон которого навалены книги. В одних содержатся угрозы против клятвопреступников, в других изображена месть, которою невидимый дух преследует их.
Проходит восемь часов. Духи, в длинных саванах, неслышно проносятся по зале и исчезают, оставив по себе смрадный запах.
Неофит, окруженный мертвой тишиной, остается двадцать четыре часа в этой мрачной обстановке. Строгий пост истощил его телесные и душевные силы. Приготовленное с этой целью питье притупляет его чувства и наконец совершенно приводит его в изнеможение. У ног его поставлены три кубка, наполненные напитком зеленоватого цвета. Томясь жаждою, он подносит их к своим устам, но непреодолимый страх запрещает ему пить.
Наконец являются два человека, на которых он смотрит как на вестников смерти. Они надевают на бледный лоб неофита повязку, смоченную кровью, на которой изображены серебряные буквы и лик лоретской Богоматери. Затем ему дают в руки медное распятие в два дюйма длиною, а на шею надевают род амулета, завернутого в фиолетовое сукно. С него снимают платье, которое прислуживающие при этой церемонии братья кладут на костер, воздвигнутый на другом конце залы. Затем ему делают кровью кресты на голом теле. В этом страдальческом и унизительном положении он видит, как к нему большими шагами приближаются пять каких-то фигур, вооруженных мечами, в одеждах, источающих кровь. Лица их закрыты; разостлав на полу ковер, они опускаются на колени, молятся и стоят безмолвно, скрестив руки на груди и опустив глаза долу. Целый час проходит в этом мучительном положении; наконец, после утомительного испытания, раздается жалобный крик, костер вспыхивает, но распространяет только слабый свет, одежда неофита бросается в огонь и сжигается. Колоссальная, почти прозрачная фигура поднимается из середины костра. При виде ее все стоящие на коленях начинают трястись, на них невозможно смотреть без ужаса, – они изображают поразительную картину той ярости и борьбы, от которой смертный, подвергнутый внезапным мукам, должен погибнуть. Затем дрожащий голос раздается под сводами и произносит клятву… Мое перо отказывается писать, – я считаю почти преступлением повторять эти слова».
О, Люше, как ты ослеплен! Ты думаешь, что нет более надежды? Твой мозг превратился в гнилой блок; по-видимому, нет никакого спасения, кроме последнего прибежища всех погибших – водки! Бесчувственный мир может смеяться, но он должен также помнить, что сорок лет тому назад подобные вещи были фактом, достойным сожаления, в головах многих людей.
Относительно же страшной клятвы следует заметить, что вся суть ее заключалась в следующем: «Почет и уважение «Aqua tofana», как верному, быстрому и необходимому средству очистить вселенную смертью или усыплением тех, которые стараются унизить истину или вырвать ее из наших рук». И катастрофа кончается тем, что бедный, полумертвый неофит сперва выкупается в крови, а затем, после некоторых коленопреклонений, – в воде; после того ему предложат обед из растительной пищи, вероятно, из картофеля.
Представьте себе этот бесконечный, искусно подготовленный конгломерат черепов, ширм, расписанных иероглифами, голубка в состоянии невинности, залу с таинственным и театральным освещением, волшебный фонарь Кирхера, огненные буквы, начертанные с помощью фосфора на стене, жалобный крик, длинную седую бороду, вынырнувшую из мрака, – всю эту обстановку, действующую на человеческое воображение и имеющую якобы связь с филантропией, бессмертием и прочим. И тогда вам будет понятно, как ловкий плут, сидящий тут же и усердно следящий за всем, извлекает из этого дикого хаоса чистые деньги. Таким грандиозным, выгодным хаосом начал окружать себя с этого времени наш архишарлатан и всюду пользоваться успехом. Прибыв в какой-нибудь город, он сейчас же приобретает доверенность тамошнего ордена и не постепенно, как прежде, а в одну ночь знакомится в великой ложе со всеми местными и приезжими глупцами. Сидя в раззолоченной масонской зале, хищник может видеть все стадо в одном загоне, которое приветливо ластится к нему и лижет руку, собирающуюся выцедить из него кровь.
Победоносный Беппо! Гений изумления излил на него всю свою славу; его чело окружено ореолом, и в самой походке его замечается что-то сверхъестественное. Его встречают криками восторга или благоговейным молчанием; в раззолоченных залах, под стальным сводом скрещенных шпаг, встречают его масоны; он восседает на кресле мастера, говорит бесконечные, высокопарные речи о масонстве, нравственности, универсальной науке и божестве с «возвышенностью, восторгом и умилением».
А заручившись доверием, можно приняться и за устройство египетских лож, и если у людей есть деньги, то их можно посвятить и в сокровенные тайны «Пентагона», который, как известно, добывается в отдаленных странах мира и стоит недешево. Другие его продукты, как-то: египетское вино, вода, возвращающая молодость и красоту, – также успешно сбываются и даже поднимаются в цене. Пресыщенный жизнью, богатый тунеядец, вероятно, не упускает случая между прочими интригами завести интригу и с целомудренной Дианой, верховной жрицей и графиней Серафимой, а древняя, отцветшая, но многолюбящая вдова с умилением посматривает на рыцаря – Калиостро, владеющего сверхъестественными силами и на которого устремлены взоры целой Европы. Хитрая лиса набивает карман и при этом сумеет показать вид, что презирает деньги.
Нам, много размышлявшим об этом деле, казалось странным, почему граф Калиостро после бесконечных речей, произнесенных им, не был выброшен своими слушателями за дверь? Человек этот не мог говорить, а болтал какой-то вздор, не имевший никакого смысла. Он не умел порядком выразить ни одной мысли, он даже не владел языком. Его сицилийский выговор и составленный из разных диалектов французский язык, на котором обыкновенно объясняются «европейские чичероне», был непонятен для смертного, это было какое-то смешение языков, напоминавшее столпотворение Вавилонское. Не будучи в состоянии выразить ни одной мысли, он издавал какие-то дикие звуки, не имевшие ничего общего с разумною и толковою речью. Когда ему случалось приступать к самому простому рассказу, поток его речи внезапно обрывался и затем не походил уже на поток, а на какое-то громадное, бесконечное болото. Вот один из образчиков его красноречия:
«Я верю и желаю верить, что все почитающие своих родителей и всевластного Папу пользуются благословением Божьим. Так и мои действия и поступки совершались согласно Божьему велению и в силу власти, дарованной мне свыше и служащей во благо св. Церкви. Я хочу привести доказательства всему тому, что я делал и говорил, не только физически, но и нравственно, причем всякий увидит, что так как я служил по воле Бога, то он дал мне оружие побороть ад, потому что я не знаю других врагов, кроме тех, которые находятся в аду. Если же мои действия неправедны, то меня накажет св. отец; в противном случае – он меня наградит, и если он сегодня вечером получит все мои ответы, то я могу сказать всем моим верующим и неверующим братьям, что завтра же я получу свободу».
Когда у него потребовали этих доказательств, он продолжал:
«В доказательство того, что Бог избрал меня апостолом, защитником и распространителем веры, я должен сказать, что так как святая Церковь уже возвестила чрез своих пастырей, что католическая религия есть настоящая религия, то и я действовал согласно учению этих пастырей. И я повторяю, что все мои действия и поступки праведны, божественность же египетского ордена подтвердили пастыри, так что св. отцу остается его только санкционировать». Каким образом, ради самого неба, мог подобный индейский петух говорить с умилением?
А между тем на это дело можно взглянуть двояким образом. Во-первых, нужно иметь в виду различие между обыкновенной речью и речью публичной, а во-вторых – присутствие известной смелости, которую нередко называют также бесстыдством.
Не выпадала ли тебе горькая доля, любезный читатель, присутствовать когда-либо на митинге, созванном с какой-нибудь общественной целью? Вероятно, ты видел, как длинноухий толстяк, по собственному побуждению или приятной необходимости, вставал с места и давал своему голосу полную волю. Ты хорошо знал, что во всем его ослином мозгу нет, не было, да и не будет никогда ни малейшей идеи, но ты все-таки напрягал внимание. Когда в начале его речи еще стоит какой-то чад и ты не можешь уловить ничего, даже бессмыслицы, то это к счастью, потому что обаяние оратора исчезло, и он может бесполезно препираться, сколько ему угодно. Общих мест под рукою много: «любовь к труду», «нуждающиеся миллионы», «трон и алтарь», «божественный дар песнопения» или что бы там ни было. Одни эти названия перенесли уже слушателей в стихию «общих мест». Но вдруг его речь изменяется, делается пламенной, а публика, подогретая перед этим яствами и крепкими напитками, изъявляет свое сочувствие неистовыми криками и аплодисментами, так что глупцу, одаренному зычным голосом, остается только держаться гладкого, параллельного пути, параллельного с истиной, но, ради Бога, не приходить с ней в соприкосновение. И поверьте, что ни одно препятствие не встретится ему на этом пути и он победителем выйдет из стихии общих мест.
Он будет походить на осла, которого головою вниз бросили в воду. Вначале вода грозит его поглотить, но вскоре он, к своему удивлению, видит, что может плыть, что в нем есть способность держаться на воде. Единственное условие неизбежно: смелость или, как обыкновенно называют, бесстыдство. Наш осел должен быть предоставлен водяной стихии, он должен смело и мужественно вытянуть свои четыре ноги, и затем уж он не захлебнется и не утонет, а с триумфом и к общему удивлению зрителей поплывет вперед. Благополучно добравшись до противоположного берега, он стряхнет со своей грубой шкуры брызги воды, подивится своему таланту, о котором прежде не имел никакого понятия, и весело пошевелит своими длинными ушами.
Так и с публичным оратором. Калиостро, каким мы знаем его исстари, умел при случае умиляться и выказывать напускной жар, при этом он был говорлив, а в смелости, обыкновенно называемой бесстыдством, не встречал себе соперника. Общие места масонских лож он изучил и усвоил вскоре, а напыщенные фразы и напускной жар, имея под рукою возбуждающий предмет, составляют, как известно, единственное дарование публичного оратора – в глазах глупцов.
Здесь мы припоминаем еще другое обстоятельство, которое если справедливо, то имеет, может быть, также некоторое значение. В юные годы Беппо Бальзамо добивался, под всевозможными предлогами, достать клочок ваты, напитанной мирром. Неверующим по убеждению неверующий Беппо быть не мог, но был им скорее по глупости или нравственной распущенности. Разве на дне его хаотической натуры не могло лежать мускусное зернышко действительного суеверия? Удивительно, как зернышко веры или суеверия пропитывает и насыщает своим запахом весь внутренний мир шарлатана, так что каждая его фибра отзывается мускусом. Ни один шарлатан не в состоянии так убедить, как тот, который насквозь проникнут убеждением. И так удивительно уживаются в шарлатане вера, обман и самообман, что тот может быть назван лучшим шарлатаном, у которого мускусное зернышко первой проникает большую массу последних.
Да разве в Калиостро не заключалась способность подделываться подо все, что есть в человеке лучшего и дорогого? Шумные овации, восторг многочисленных слушателей опьяняют его; ничтожество практики воодушевляет его на громкую похвалу теории, а «филантропия», «божественная наука», «беспредельность неизвестных миров» и «возвышенные ощущения сердца» вызывают слезы у чувствительных ослов. Никто не обращает внимания, как скудны в его речах даже общие места, – благо он волнует и возбуждает всех. Так, если положить несколько крупной дроби в сухой пузырь и приняться трясти его, то он наделает столько шуму, что, пожалуй, примешь этот шум за грохот пушек на поле сражения.
Такого же рода и лесть Калиостро, чарующая все верующие души. Не золотыми, а томпаковыми можно бы было назвать его уста, – впрочем, в наш бронзовый век и этот металл годится в дело.
В целом деятельность Калиостро заключалась в стихии чудесного, сверхъестественного. Истинный человек, художник он или ремесленник, трудится в бесконечности известного, шарлатан же в бесконечности неизвестного. И в какой быстрой прогрессии возвышается и возвеличивается он, лишь только заметят его! «Твое имя знаменито, – говорит пословица, – и ты можешь спокойно спать». Нимб славы и сверхъестественного изумления окружает Калиостро и морочит глаза публики. Немногие мыслящие люди, разгадавшие его, но оглушенные всеобщим шумом, презрительно молчат и возлагают все на величайшее целебное средство – время.
Между тем чародей идет своей дорогой, неистощимые материалы для обмана: жадность, невежество и в особенности животные наклонности, представляющиеся в Европе самым лакомым блюдом для обмана, – все это испробовано и предано брожению для его пользы. Он мчится подобно комете; ядро его обхватывает огромными радиусами каждый город и провинцию, над которыми он пролетает; его длинный хвост, состоящий из любопытных и изумленных глупцов, простирается до самых отдаленных стран. Добряк Лафатер в своих швейцарских горах отзывается о нем: «Таких людей, как Калиостро, немного, но я все-таки ему не верю. О, если б он был прост сердцем и чист, как ребенок; если б у него было чувство к евангельской простоте и к величию Господа! Кто был бы выше его? Калиостро часто говорит неправду, обещает, но не держит своего обещания. Но во всяком случае, действия его я не считаю за обман, хотя они вовсе не то, за что он их выдает». Если Лафатер мог говорить о Калиостро таким образом, то что должны были говорить о нем другие!
Посреди шумных оваций, всюду вызывая духов и превращая в золото неблагородные металлы (впрочем, для тех, которые могли снабжать его для этого деньгами), наш шарлатан проехал Саксонию. В Лейпциге он борется со своим товарищем по ремеслу бедным Шрепфером и уничтожает его. Из восточной Пруссии он пробирается в Польшу и затем весною 1780 года является в Петербург. Здесь разбивает он свою палатку и торжественно поднимает флаг. У масонских лож длинные уши; своими чудодейственными снадобьями он снабжает всех, оделяет больных лекарствами, пускает в ход свою небесную Серафиму, и все сулит ему полнейший успех. Но лейб-медик императрицы Монсе (родом шотландец) подвергает исследованию чародейство Калиостро, признает все его снадобья ничтожными, негодными даже для собак, и бедному графу приказывают немедленно выехать из Петербурга. И счастлив он, что так скоро убрался, потому что вслед за ним является прусский посланник, обвиняющий его в незаконном ношении прусского мундира в Риме, а случившийся тут испанский посол взваливает на него еще большее преступление, именно сбыт фальшивых векселей в Кадисе. Но он успел уже скрыться за границу, и теперь – жалуйся на него кто хочет.
В Курляндии и Польше ожидают его великие дела, но при этом и две небольшие неудачи. Знаменитая фрау фон дер Реке, «прекрасная душа», как выражаются немцы, тогда еще юная сердцем и неопытная, опечаленная смертью своих друзей, старается узнать от всемирного заклинателя духов о тайнах того невидимого мира, на который постоянно устремлен ее жаждущий взор. Но галиматья шарлатана не могла удовлетворить честной души этой женщины, она разгадала его и вывела на чистую воду в своей книге.
Таким образом, неудачный опыт Мефистофеля с Маргаритой возобновился здесь для Калиостро. В Варшаве, где он проповедует о египетском масонстве, медицинской философии и невежестве врачей, встречает его также неудача. Некий граф М* сомневается в его чудодейственной силе и публикует свои сомнения в брошюре «Разоблачение Калиостро». Шарлатан, принятый с триумфом в городе, с избранным числом верующих, между которыми находится и неверующий граф, отправляется в имение одного магната, чтоб там делать золото, а может быть, приготовить и «Пентагон». «Всю ночь перед отъездом из Варшавы наш дорогой учитель, – говорили его помощники, – беседовал с духами». – «С духами? – вскричал граф. – Не может быть, он плавил червонцы, вот расплавленная масса их в этом тигле, который он хотел подменить другим тиглем, наполненным суриком, который и теперь еще лежит разбитый в кустах, где вы и можете видеть его, ослы!» С «Пентагоном», или жизненным эликсиром, вышло не лучше. «Наш добрый мастер пускается в длинные объяснения, клянется всемогущим Богом и честью, что он довершит свой труд и сделает нас счастливыми. Он до того простирает свою скромность, что просит, чтоб его заковали в цепи, принудили работать, и требует от учеников убить его, если в исходе четвертого часа он не сдержит своего слова. Он опускается на землю и целует ее, затем воздымает руки к небу и призывает Бога в свидетели, что он говорит правду, и требует смерти, если он лжет!» Появление великого кофты с длинной почтенной бородой придает ночи еще больше торжественности. Но увы! Черепки разбитого тигля лежат на глазах у всех, жизненный эликсир также не удался, так что великому кофте оставалось только убраться восвояси.
Граф М* даже не верил, что Калиостро владел искусством обыкновенного шарлатана.
«Будучи крайне нескромен, – говорит этот обличитель, – он хвалился в присутствии каждого, в особенности же перед женщинами, что обладает грандиозными способностями. Каждое его слово преувеличено, в нем сейчас же чувствуется ложь. Малейшее противоречие приводит его в бешенство; тщеславие его не знает границ; он требует, чтоб ему устраивали празднества, о которых бы говорил целый город. Большинство обманщиков ловки и стараются приобрести себе друзей, – он же, напротив, своими оскорбительными речами, сплетнями и разного рода дрязгами норовит перессорить всех своих друзей и поселить между ними вражду. Из малейших пустяков он заводит ссору со своими помощниками и даже перед публикой не стесняется выставить их лгунами. По моему мнению, Шрепфер был гораздо искуснее его. Ему бы следовало взять себе в помощники чревовещателя, прочесть несколько химических книг и изучить искусство Филадельфия и Комуса».
Совет твой хорош, любезный М*, но разве ты не убежден в том, что Калиостро обладает «врожденной способностью лгать», да, кроме того, «медным лбом» (front d’airain), которого не смутишь ничем. Подобному гению и подобному лбу нечего заимствовать у Конуса и Филадельфия и у всех чревовещателей в мире. Пусть при шарлатане останется то, чем он владеет.
Его высокомерие доказывает только, что он сидит на огромном коне, а мир лежит у ног его.
Подобные неудачи, встречающиеся в жизни каждого человека, для нашего Калиостро то же самое, что темные пятна для солнца. Его слава от этого ничуть не страдает. Князь П* по-прежнему рекомендует его князю О*, и чем может убедить этих великих мира какой-нибудь неверующий, безвестный граф М*? Карманы Калиостро едва вмещают массу бриллиантов и червонцев; он катит на почтовых в Вену, во Франкфурт, в Страсбург, чтоб и там удивлять всех своими чудесами.
«Свита, которую он обыкновенно держит при себе, – рассказывает его биограф, – соответствовала его остальной обстановке. Он постоянно ездил на почтовых. Толпа курьеров, лакеев, телохранителей и разного рода прислуги, одетая в великолепные ливреи, придавала вид правдоподобия его высокому происхождению, которым он хвалился. Эти ливреи, сделанные в Париже, обошлись ему по 20 луидоров каждая. Великолепные, убранные по последней моде комнаты, роскошный стол, богатые наряды его жены вполне согласовались с этим королевским образом жизни.
Его притворная щедрость также обращала всеобщее внимание; бедным он подавал медицинскую помощь даром и даже оделял их милостыней».
Посреди этой великолепной обстановки красовались две подозрительные, нарумяненные или ненарумяненные физиономии графа и графини с тупоумным и усталым выражением; полеживая на мягких диванах, они угрюмо и молча посматривали друг на друга, едва скрывая злобу и соображая, что каждый из них добывает мало, а ест много. Исполняла ли Лоренца неохотно или, напротив, с полною готовностью назначенную ей обязанность, – биографы еще не сказали решительного мнения, но в чем они положительно убеждены, так это в том, что со своим холерическим, откормленным шарлатаном она вела довольно горькую жизнь, полную постоянных раздоров. Если же мы заглянем поглубже и захотим познакомиться с внутренним самосознанием, что у других называется совестью, самого архишарлатана, то нам представится весьма неопределенная вещь, – словом, мы не увидим ничего, кроме густого, обманчивого тумана, который во всех его действиях и поступках был на первом плане. Правда, многое в жизни Калиостро осталось неясно, зато мы вполне разгадали, что он страдал недостатком понимания. Хитрость, лукавство были развиты в нем в высшей степени, но ума в нем не было нисколько. Да разве хитрость в соединении с алчностью не есть неизбежное следствие недостатка ума? Она, собственно, и доказывает близорукость ума, погруженного в пошлость, ума, неспособного возвыситься до ясного, свободного понимания, потому что иначе хитрый и алчный человек вступил бы на путь истинный.
Но проблески света, если и не совсем яркого, все-таки проникают хоть случайно в душу каждого смертного. Каждое живущее создание (а по Мильтону – даже и дьявол) обладает более или менее каким-нибудь подобием совести; оно внутренне молится, кается, верит, хоть для того только, чтоб не презирать себя или в конце концов не повеситься. Что подобное откормленное животное, как Калиостро, чувствовало и думало, сказать, во всяком случае, довольно трудно, но это покажется еще труднее, когда подумаешь о противоречиях и мистификациях, которыми опутана была вся его жизнь. Единственным верным документом служит нам его портрет, в свое время распространенный во множестве и украшавший целые миллионы комнат. Гравюра, сделанная с этого замечательного портрета, лежит перед нами. Жирная физиономия, вполне достойная шарлатана из шарлатанов, верное и меткое изображение бездельника; дерзкое, отвратительное лицо с плоским носом и толстыми губами, на котором написаны алчность, чувственность, бычье упрямство, дерзость и бесстыдство. Воздетые к небу глаза в каком-то благоговейном созерцании, не лишенные, впрочем, некоторого юмора, довершают типичное изображение шарлатана из шарлатанов, порожденного XVIII столетием. Под гравюрой находится следующий эпиграф:
De l’ami des humains reconnaissez les traits:
Tous ses jours sont marques par de nonveaux bienfaits.
Il prolonge la vie, il secourt l’indigence;
Le plaisir d’etre utile est seul sa recompense.
Нужно полагать, что теософия, филантропия и благотворительность, которым все более и более предавался наш шарлатан, должны были служить не только приманкой для дичи, но и мазью, незаметно уменьшавшей боль его собственных ран. «Разве я не сострадательный, благотворительный человек? – мог сказать шарлатан. – Если я сам заблуждался, то в то же время разве я не старался своими елейными теософическими речами устранять все поводы к заблуждению? Что такое ложь, шарлатанство, как не средство приноровиться к характеру человека, влезть в его глухое, длинное ухо, не имеющее случая прислушаться к честному слову? Разве наш мир собственно не мир неправды, где ничего нет, кроме двуногих и четвероногих хищников? Природа сказала человеку: трудись и сам добывай себе хлеб! Разве такой гениальный человек, как я, не рожденный принцем и даже в наше жалкое время не жалованный этим титулом, не считаю своей обязанностью сделаться им? Если мне нельзя достигнуть этого военной силой, то я постараюсь добиться более возвышенным средством – наукой. Лечи больных, лечи еще более опасную болезнь – невежество, одним словом, учреждай египетские ложи и добывай средства на их учреждение».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.