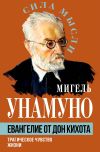Текст книги "Герои, почитание героев и героическое в истории"

Автор книги: Томас Карлейль
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 45 (всего у книги 72 страниц)
Это была истинная поэтическая душа, до которой было достаточно коснуться, чтобы извлечь из нее чудные звуки. Но главное его достоинство – это отношение к своим собратьям-людям. Какая теплая, всеобъемлющая любовь к человечеству, сильное, безграничное сочувствие, великодушное пристрастие к любимому существу. Его мужик, друг, темно-русая девушка кажутся ему не обыкновенными и ничтожными людьми, но героем и царицей, на которых он смотрит как на величайших земных существ. Суровые сцены шотландской жизни не являются ему в аркадском освещении, но среди дыма и грязи жесткой действительности, которые ему гораздо привлекательнее. Бедность его спутница, но неразлучны с ним также любовь и бодрость души. Простые чувства, благородство, живущие под соломенной кровлей, дороги ему и достойны его любви.
Таким образом, над самыми низшими сферами человеческого существования он распространяет сияние своей собственной души, и они, то укрываясь в тени, то освещаемые блеском солнца, достигают красоты, которой не удается подметить людям, стоящим и на высших ступенях. При этом он сознает свое собственное достоинство, и это сознание нередко переходит в гордость, в благородную гордость, которая умеет только защищаться, а не нападать, – в нем живет не холодное, недоверчивое чувство, а открытое, свободное и общительное. Этот мужик-поэт смотрит совершенным королем, лишенным престола, хотя судьба бросила его в круг меньших братьев, но он считает себя равным по рождению с великими мира сего. А между тем он не добивается никаких почестей; богатство и знатное происхождение в глазах его не имеют никакого смысла; его взор горит огнем, против которого бессильно всякое презрительное обхождение. При всех невзгодах и бедствиях он ни на минуту не забывает величия поэзии и человечности. Но несмотря на все свое превосходство над обыкновенными людьми, не чуждается их, сочувствует их интересам и требует у них любви и дружбы. Даже в дни самого мрачного отчаяния этот гордый человек ищет поддержки в дружбе, нередко перед недостойными людьми раскрывает свою душу и, обливаясь слезами, прижимает к своему горячему сердцу сердце, знающее только дружбу по имени. А между тем он не чужд был проницательности, умел разгадать притворство, хотя в то же время был крайне доверчив.
И таким явился перед нами этот мужик с душой, подобной эоловой арфе, струны которой, тронутые обыкновенным ветром, звучали мелодиями, полными выражения. И для такого человека свет не сумел придумать лучшего дела, как ссориться с контрабандистами и целовальниками, высчитывать акциз и ревизовать пивные бочки. И на такой утомительный труд был растрачен могучий дух, а между тем пройдут целые сотни лет, пока нам будет дан другой подобный, чтоб мы растратили его и в другой раз.
Все, что осталось от Бернса, заключается в его произведениях. Но они составляют только скудную, малую частицу его души. Слабые проблески гения, не успевшего развиться окончательно, так как для совершенного развития требуется образование, свободное время, истинный труд, продолжительная жизнь, а всего этого ему недоставало. Все его стихотворения, за небольшими исключениями, написаны случайно, без всякого заранее обдуманного плана, и выражают страсть, мысль или прихоть, занимавшие его в минуту творчества. Никогда не удавалось ему обнять предмет со всех сторон, употребить на него все свои силы, растопить его в огне своего гения и придать ему совершенную форму. Но тем не менее ни один строгий любитель поэзии не пройдет мимо стихотворений Бернса, несмотря на все их недостатки и незаконченность, чтоб не обратить на них внимания. Вероятно, владеют же они каким-нибудь прочным качеством, потому что спустя пятьдесят лет, после всевозможных изменений в литературных вкусах, они до сих пор жадно читаются не только в кругу завзятых любителей литературы, но и в кругу людей неразвитых, обыкновенно читающих мало и почти вовсе не заглядывающих в стихотворения. Причины такой необычайной популярности, простирающейся буквально от дворца до хижины и проникшей во все страны, где только слышится английский язык, достойны тщательного исследования, которое, по всему вероятию, приведет к тому убеждению, что в этих произведениях заключаются особые преимущества, – но в чем состоят эти преимущества?
Ответа на этот вопрос придется искать недалеко. Преимущество произведений Бернса выходит из ряда вон: ни в области поэзии, ни прозы не отыщешь ничего подобного, а между тем нет ничего легче подметить его, – это его искренность и правдивость. В его произведениях нет вымышленных радостей или страданий, приторной сентиментальности, натянутой мысли или чувства. Изображаемая им страсть действительно пылает в любящем сердце, высказанная им идея – плод его собственного разумения. Он пишет не понаслышке, но по собственным наблюдениям и опыту. Он изображает ту самую среду, в которой жил и трудился. Этой среде, несмотря на ее грубость и скромность, присущи прекрасное чувство и благородная мысль, возбуждающие и ободряющие его душу. Так он высказывается не из пустого тщеславия или интереса, а оттого, что его сердце слишком переполнено, чтобы молчать. И он выражает это мелодическими «родными звуками», в чем именно и заключается оригинальная прелесть его произведений. Вот тайна, которая заставляет читать писателя и не отрываться от его созданий: писатель, желающий тронуть и убедить других, должен прежде всего сам убедиться и проникнуться чувством.
Каждому поэту, каждому писателю мы можем сказать: будь правдив, если хочешь, чтоб мы тебе верили. Пусть человек только выразит правдивую мысль, искреннее чувство и действительное состояние своего сердца, и другие люди – так удивительно связаны мы взаимною симпатией – будут и должны его уважать. По развитию и понятиям мы можем стоять выше или ниже оратора. Но в обоих случаях его слова, если они искренно и справедливо высказаны, найдут отзвук в нашей душе. Потому, несмотря на все случайные, внешние или внутренние различия, человеческому сердцу также присуще общее сходство, как и человеческому лицу. Этот принцип, по-видимому, весьма прост, и в том еще не велика заслуга Бернса, что он создал его. Но дело не в принципе, а в практическом применении его, что и составляет величайшую трудность, с которою приходится бороться всем поэтам и которую редкий одолевает. Ум, неспособный отличать лжи от истины, сердце, неспособное любить при всех опасностях и ненавидеть при всех соблазнах, – гибельны для писателя. Если к этим недостаткам присоединить еще желание отличиться, сделаться оригинальным, то в конце концов на сцену выступит аффектация, такой же бич для литературы, каким бичом для нравственности оказывается лицемерие. Этого недостатка не чужды даже величайшие из писателей. Страстное желание отличиться нередко удовлетворяется обманчивым успехом, так что тот, от кого можно было ожидать многого, является с произведениями крайне несовершенными.
Байрон, например, был необыкновенный человек, но если взглянуть на его поэзию, то окажется, что она далеко не безукоризненна. Вообще говоря, мы должны заметить, что в ней недостает правдивости. Он освежает нас не божественным источником, а обыкновенными крепкими напитками, раздражающими желудок, но нередко поселяющими в человеке отвращение к ним или даже болезнь. Разве его Чайльд-Гарольды и Гяуры действительные люди, т. е. поэтически возможные и мыслимые люди? Не кажутся ли все эти характеры, не кажется ли самый характер их автора, нередко проглядывающий в них, неестественными, невозможными в действительной жизни, но изображающими нечто, долженствующее казаться грандиознее самой природы? И действительно, это бурное существование, вулканический героизм, сверхчеловеческое презрение и мрачное отчаяние, сопровождаемое страшными взглядами и скрежетом зубов, не породят ли более на неистовое беснование актера в какой-нибудь жалкой трагедии, продолжающейся три часа кряду, чем на действия человека в серьезной игре жизни, долженствующей продлиться семьдесят лет? На наш взгляд, все лучшие его произведения отличаются этим ложным и театральным характером. Может быть, один «Дон Жуан», в особенности его последние песни, представляет единственно правдивое произведение, написанное им, единственное произведение, где он является тем, чем он действительно был. Изображаемый им предмет так интересует его, что он на время забывает самого себя. А между тем Байрон ненавидел этот порок, и мы вполне верим, что он всей душой презирал его и на словах вел с ним постоянную войну.
Даже великим умам трудно усвоить себе первую потребность, по-видимому, простейшую из всех, именно потребность «читать книгу своей совести верно и без произвольных и умышленных ошибок». Мы не знаем поэта более восприимчивого, как Бернс, а между тем он вполне чужд аффектации и до последней минуты остается ей чуждым. Он честный человек и честный писатель. Как в счастье, так и в горе, во время своего величия или падения, он постоянно прост, ясен и правдив и сияет только в лучах своего собственного блеска. Мы видим в этом великую добродетель, начало и корень всех литературных и нравственных добродетелей.
Впрочем, нужно заметить, что мы здесь говорим только о стихотворениях Бернса – произведениях, которые не могли препятствовать или задерживать его вдохновение. Большая часть его писем и других прозаических отрывков ни в каком случае не заслуживают этой похвалы. Они не отличаются уже тем естественным, правдивым характером, но в них, напротив, не только все натянуто, но даже ложно и извращено. Самый слог напыщен, а изысканные высокопарные выражения составляют даже резкий контраст с его слабыми стихотворениями, которые все-таки не лишены некоторой энергии и грубой простоты. Таким образом, выходит, что нет, по-видимому, человека, который бы не страдал аффектацией. Сам Шекспир и тот нередко впадает в эту крайность.
Но и к этим письмам Бернса, если придерживаться строгой справедливости, следует отнестись снисходительно, во-первых, потому, что он не вполне усвоил себе язык, на котором писал. Хотя слог его по временам и отличается оригинальностью, но он не владеет до такой степени английской прозой, как владеет он шотландским стихом, его прозе недостает ни огня, ни глубокого чувства. В письмах этих виден человек, силящийся что-то выразить, а между тем у него нет для этого подходящего органа. Во-вторых, Бернс заслуживает еще снисхождения вследствие своего особенного общественного положения. Его корреспонденты состояли большею частью из людей, отношения которых к себе он хорошенько не уяснил. Поэтому к одним он относится недоверчиво и враждебно, другим же, напротив, льстит, причем ударяется в такой слог, который, по его мнению, может им понравиться. Но во всяком случае, мы не должны забывать, что эти промахи в его письмах составляют не правило, а исключение. Когда же он переписывается с близкими друзьями и в своих письмах затрагивает действительные интересы, его слог отличается простотой, энергией, выразительностью, даже изяществом. Письма его к миссис Данлоп в особенности превосходны.
Но возвратимся к его поэтическим произведениям. Кроме искреннего чувства, он обладает еще другой оригинальной способностью – усваивать интерес ко всем предметам, которых он касается. Обыкновенный поэт, как и обыкновенный человек, постоянно ищет во внешних обстоятельствах поддержку, которую он может найти только в самом себе. В том, что ему близко знакомо, он не признает никакой формы или прелести. Родина представляется ему не поэтической, а прозаической.
По его мнению, поэзия обитает в каком-то прошедшем, далеком, условно-героическом мире и если б судьба занесла его в этот мир, то он был бы счастлив. Отсюда происходит бесчисленное количество романов, окрашенных в розовый цвет, и героических поэм, действие которых происходит не на земле, а скорее около луны. Отсюда – наши девы солнца и рыцари креста, коварные сарацины в чалмах, медно-красные вожди и другие свирепые личности, взятые из героических времен или героических стран и постоянно фигурирующие в наших поэтических произведениях. Но да будет мир над ними!
А все-таки недурно бы сказать речь поэтам, которую сказал людям великий моралист своего века, именно речь «об обязанности оставаться дома». Пусть они убедятся, что героический век и героические страны им немного помогут. Их жизнь привлекает нас не потому, что она лучше и благороднее, но вследствие того, что она отлична от нашей, – да и это преимущество, по нашему мнению, преходящее. Разве наш собственный век также не сделается древним, разве он не усвоит себе также прародительского оригинального костюма и не будет составлять контраста с прошедшими веками, а станет с ними на одну ступень? Интересует ли нас Гомер потому, что он писал о событиях, случившихся за двести лет до его рождения, или потому, что он описывал то, что происходит в Божием мире и в человеческом сердце и что будет происходить через тридцать веков? Пусть наши поэты обратят внимание, действительно ли их чувства прекраснее, правдивее, а взгляд их глубже, чем у других людей. Если это так, то им нечего бояться, будь их сюжет даже самый скромный, если же нет, то им придется только рассчитывать на эфемерный успех, хотя сюжет их будет один из высочайших.
Мы полагаем, что поэту нечего далеко искать сюжета для своих произведений. Элементы его искусства заключаются в нем и вокруг него. Для него идеальный мир не отделен от реального, но заключен в нем же, – да он для того и поэт, что может подметить его здесь. Всюду, где есть небо над ним и мир вокруг него, там поэт на своем месте. Потому и здесь существует человеческая жизнь, с ее бесконечными желаниями и крохотными событиями, вечно тщеславными, вечно новыми стремлениями, страхом и надеждой, таинственностью, полной мрака и света, присущей каждому веку или стране с тех пор, как начал жить первый человек. Разве каждое смертное ложе, будь оно хоть последнего мужика, не есть пятый акт трагедии? Разве любовь и браки до того устарели, что у нас не может быть и комедии? Разве, наконец, человек сделался вдруг так серьезен, что всякий смех покинул его? Жизнь и человеческая природа все то же, какие были и какие будут. Но поэтому необходим глаз, чтобы видеть, сердце, чтобы понимать, а иначе жизнь не будет иметь для него никакого значения. А если она не имеет для него значения, то он не поэт и сам Дельфийский оракул не сделает его поэтом.
В этом отношении Бернс, хотя его и нельзя назвать абсолютно великим поэтом, проявляет свои способности, свой оригинальный гений лучше, чем если б он оставил нам большее количество произведений, чем то, которым мы владеем. Он по крайней мере является поэтом, как бы созданным самой природой, а природа, в сущности, и есть главная сила, создающая поэтов. Нам нередко приходится слышать, что те или другие внешние условия необходимы, чтоб быть поэтом. Ему необходима некоторая дрессировка, он, например, должен изучать старинных драматургов и этим способом познакомиться с поэтическим языком, как будто поэзия заключается в языке, а не в сердце. Другие, напротив, утверждают, что поэт должен родиться в известном сословии и находиться на короткой ноге с высшим обществом, так как ему необходимо видеть свет. Относительно последнего условия следует заметить, что это дело далеко не трудное, если у него есть глаза, чтобы видеть. Без глаз, разумеется, подобная задача была бы нелегка: слепой может объехать весь мир и ничего не заметить. Но к счастью, каждый поэт родится в свете и может глядеть на него охотно или неохотно каждый день и каждый час своей жизни. Таинственный механизм человеческого сердца, истинный свет и непроницаемый мрак человеческой судьбы можно встретить не только в шумных столицах и салонах, но во всякой хижине и землянке, где только ютится человек. Разве зачатки всех человеческих добродетелей и пороков, страсти Борджиа и Лютера не изображены в слабых или сильных чертах на совести каждого человека, если он только честно анализировал себя?
Но иногда к злополучному поэту относятся с еще более жесткими требованиями. Ему намекают, что ему следовало бы родиться по крайней мере двести лет назад, потому что поэзия около этого времени покинула землю и теперь немыслима. Подобное убеждение, как паутина, охватило всю литературную ниву, но оно не помешало развитию растения, а Шекспир или Бернс, вступая на эту ниву, молча смахивали насевшую паутину. Разве гений не представляется невозможностью до тех пор, пока не проявит свою силу? Зачем зовем мы его оригинальным и новым гением, когда мы знаем, где находится его мрамор и какое здание он намерен из него выстроить? Материала вдоволь, да работника нет; не темнота мешает нам видеть, а плохой глаз. Жизнь шотландского поселянина была крайне жалка и груба, пока Бернс не признал ее человеческой жизнью и не придал ей значения в глазах всех людей. Тысячи битв остаются невоспетыми, но «раненый заяц» не погиб для потомства; мы проникаемся невольно сожалением при виде его безмолвной предсмертной борьбы, потому что здесь был поэт. Наш «вечер всех святых» чуть ли не со времен друидов обыкновенно был обставлен суеверным страхом или диким смехом, и ни одному Теокриту не приходило в голову, что в нем заключается материал для шотландской идиллии, пока не явился Бернс. Мы еще повторяем: дайте нам истинного поэта, окружите его какими хотите условиями, и у нас в истинной поэзии недостатка не будет.
Кроме поэтического чувства, все произведения Бернса проникнуты природной, оригинальной силой, напоминающею зеленые поля и дикие горы; они дышат жизнью, в них выражается человек, стоящий близко к природе. Вместе с силой они проникнуты нежным чувством, вылившимся из сердца без всякого насилия. Бернс то трогает, то воспламеняет вашу душу, в нем вместе с мужеством и страстным огнем героя соединяется кротость, трепет, сострадание женщины. Ему доступны слезы, и пожирающее пламя страсти таится в его груди, как таится молния в туче. Он чутко прислушивается к каждому звуку человеческого чувства: пошлое и возвышенное, грустное, смешное и радостное – ничто не ускользает от этой «нежной и всеобъемлющей души». При этом с какой дикой, быстрой силой он овладевает своим предметом, какой бы он ни был, каким смелым, верным взглядом обнимает он всю картину, освещая малейшую черту, схватывая предмет во всех его мельчайших подробностях и ни разу не уклоняясь на ложный путь. Если нужно доискаться истины, то никакая софистика, никакая узкая логика не в состоянии остановить его. С энергией и уверенностью проникает он в самую суть вопроса и произносит свой приговор с такой выразительностью, которую забыть невозможно. Идет ли дело об описании, изображении видимого предмета? Ни один поэт не владеет такой кистью, как Бернс. Он с первого взгляда схватывает характеристические черты, – два, три штриха, и портрет готов, портрет, отличающийся поразительным сходством, несмотря на грубый язык и нередко неуклюжий стих художника. Можно сказать, что Бернс чертит свои произведения углем, а между тем рисунки самого Ретша едва ли отличаются такой выразительностью и точностью.
Ясность взгляда мы назвали основой всякого таланта, потому что, не видя предмета, мы не имеем возможности понять и оценить его по достоинству, дать ему место в нашем воображении и изобразить его согласно нашему внутреннему чувству. А между тем само по себе это еще не составляет особого преимущества, оно может быть по плечу как великому, так и самому обыкновенному таланту. Гомер в этом отношении превосходит всех поэтов, но, странное дело, – Ричардсон и Дефо разве немногим уступают ему. Таким образом, это качество собственно принадлежность так называемого живого ума и вовсе не намекает на другие высшие дарования, заключающиеся в человеке. В приведенных нами трех образцах это качество соединено с многословием. Их описания слишком подробны и растянуты. У Гомера еще прорывается огонь, хотя по временам и как бы случайно, у Дефо же и Ричардсона нет и следов этого огня. Бернс, напротив, отличается ясностью и вместе с тем непоколебимой силой мысли. Силу его мысли подтверждают ясно, хотя и не вполне, выражения, встречающиеся в его стихотворениях. У кого найдете вы более метких слов, метких по их пламенной энергии, убедительности и точности. Иногда одна фраза рисует целый предмет, целую сцену.
И действительно, эта сила руководила всем умом Бернса, она проникает все его суждения, чувства. Профессор Стюарт говорит о нем с некоторым удивлением: «Все умственные дарования Бернса, насколько я могу судить, были одинаковой силы. И его страсть к поэзии была скорее результатом его восторженной и страстной души, чем его гения, который исключительно был создан для этого рода умственной деятельности. Судя по его разговору, можно было заключить, что он был бы способен отличаться на каком угодно поприще». Но это, если мы не ошибаемся, было всегда особенной и истинной принадлежностью действительно поэтического дарования. Поэзия, за исключением тех случаев, где она является только тупоумной, слезливой чувствительностью, не составляет отдельной способности, которую можно приложить к другим способностям или отнять от них, но скорее выражает результат их общей гармонии и полноты. Чувство, дарования, присущие поэту, присущи также в больших или меньших размерах каждой человеческой душе. Фантазия, поражающая ужасом в Дантовом «Аде», та же самая способность, только в слабейшей степени, которая произвела на свет этот очерк. Поэт потому с такой силой говорит людям, что он во всяком отношении более человек, чем они.
Шекспир, как справедливо было замечено, высказал в своих трагедиях ум, достойный править государствами. Относительно философского развития ума Бернса мы можем всего менее судить. Развитие это, по-видимому, должно было ограничиться самыми скромными условиями. Философское учение ему было незнакомо, и только усиленным трудом и на короткое время удавалось ему проникать в область великих идей. Но тем не менее в его произведениях заметны если не ясные доказательства, то некоторые намеки на это развитие. Мы видим в них неудержимую, гигантскую, хотя чуждую образования, силу и вполне понимаем, отчего в разговорах своим верным пониманием жизни и людей он поражал удивлением лучших мыслителей своего века и родины.
Умственные дарования Бернса, кроме силы, отличаются еще изяществом. Даже самые деликатные общественные отношения не ускользали от его взора, – они были родственны и близки его сердцу. Логика сената и форума неизбежна, но не всегда достаточна, – высшая истина нередко ускользает от ее внимания. Логика действует словами, а «высшее», было сказано, нельзя выразить словами. Мы имеем полное основание верить, что восприимчивое, нежное, хотя неразвитое чувство таилось в Бернсе и к этой высшей истине. Стюарт «удивлялся», что Бернс составил себе верное понятие о социальной теории, но мы думаем, что вещи более возвышенные, чем социальные теории, были ему давно знакомы. Прислушаемся, например, к следующему рассуждению.
«Мы ничего не знаем, – пишет он, – об устройстве нашей души, поэтому и не можем объяснить ту прихоть, вследствие которой нам доставляют удовольствие вещи, не производящие никакого впечатления на других людей. У меня весной бывают любимые цветы, я всегда с особым удовольствием смотрю на маргаритку, гиацинт и шиповник. Никогда без душевного волнения, близкого к восторженному благоговению или поэзии, не мог я слышать громкого свиста чибиса в летний полдень или дикого, неумолкаемого щебетания целой стаи дроздов в осеннее утро. Скажи мне, дорогой друг, отчего это происходит? Машина ли мы, пассивно воспринимающая, подобно эоловой арфе, случайные впечатления, или эти явления указывают на присутствие в нас чего-то высшего? Я держусь того мнения, что в них заключаются явные доказательства бытия Бога, создавшего все, а также доказательства духовной и бессмертной человеческой природы и загробной жизни».
На силу и деликатность разума нередко смотрят как на нечто совершенно отличное и часто не зависящее от силы и деликатности самой натуры. Необходимость языка требует этого, но в действительности в этих качествах нет различия, они, за исключением особых случаев и причин, постоянно идут рука об руку. Человек сильного разума по правилу бывает человеком сильного характера, но деликатность первого редко отделяется от деликатности второго. Во всяком случае, каждому известно, что в стихотворениях Бернса ясное понятие идет о бок с ясным чувством, и его «сердечная теплота» ничуть не уступает «свету его разума». Он человек со страстной душой. Его страсти не только сильны, но и благородны, и такого рода, которым обязаны своим появлением великие добродетели и поэтические создания. Его вдохновляет благоговение, любовь к природе, это же самое заставляет его понимать красоту и исторгает из сердца дивные, пленительные звуки. Старая, верная пословица говорит: «Любовь поощряет знание», – но в знании-то и заключается вся сила поэта, его развитие и деятельность.
Мы уже говорили о пламенной, всеобъемлющей любви Бернса как об отличительном признаке его натуры, который одинаково проявляется у него на словах и на деле, в жизни и произведениях. Это нетрудно подтвердить многими примерами. Не только человек, но все, что в материальном и нравственном мире окружает человека, имеет значение в его глазах; «маргаритка», «стая дроздов» и «одинокий чибис» равно дороги его сердцу, все живут с ним на земле, со всеми соединяет его таинственная связь. Трогательно видеть, как он, при всей своей бедности, посреди зимней стужи, царствующей не только в полях, но и в его собственном сердце, думает о «глупом ягненке» и «беспомощной птице» и оплакивает страдания, причиненные им беспощадною бурею. Он – обитатель жалкой землянки, с полусгнившею кровлей, сочувствует их горю, и это сочувствие выше проповедей о милосердии, потому что в нем заключается самое милосердие. Но сочувствие Бернса неисчерпаемо, его душа проникает во все сферы бытия, ее влечет всюду, где только есть жизнь.
Как бы в противоположность этой любви, некоторые утверждают, что «негодование – вот источник поэзии». Это совершенно справедливо, но противоречие это скорее предполагаемое, а не действительное. Негодование, диктующее стихи, есть, в сущности, обратная любовь, любовь к какому-нибудь праву, достоинству, добру, принадлежащих нам и попранных другими людьми, и этим дурным чувством мы стараемся отомстить за наши попранные права. Никакая эгоистическая злоба сердца, как первичное чувство, не встречавшее противоречия, никогда не отличалась особенной поэзией; в противном случае и тигр был бы необыкновенно поэтическим существом. Джонсон говорит, что он любит хорошего ненавистника, но при этом он подразумевает человека, не слепо, но разумно ненавидящего низость из любви к великодушию. Несмотря на парадокс Джонсона, удобный в разговоре, но который неудобно часто повторять в печати, мы полагаем, что люди еще слишком умеренны в ненависти, – слепа она или разумна, – и что хороший ненавистник еще не появлялся на свет.
Подробный разбор отдельных стихотворений нашего поэта повел бы нас слишком далеко, да, впрочем, если отнестись к ним критически, то только некоторые из них заслуживают названия поэмы. Это, скорее, рифмованное красноречие, рифмованный пафос и рифмованный ум, чуждые мелодичности и поэзии. Даже «Тэм О’Шентер», пользующийся такою известностью, принадлежит, по нашему мнению, к этой же категории. Это не поэма, а блестящее риторическое произведение, безжизненное, сухое даже по содержанию. Оно не вводит нас в тот мрачный, изумительный век, когда верили в легенду и откуда она была заимствована. Поэт даже не старается придать новую форму своему сверхъестественному сюжету. Не стремится затронуть глубокую, таинственную струну человеческой природы, которая некогда откликалась на подобные вещи и живет и будет жить в нас, хотя теперь умолкла или издает другие звуки. Наши немецкие читатели поймут нас, если мы назовем его не Тиком, а Музеусом этой сказки. По наружному виду она одета зеленью и полна жизни, но если пристальнее вглядеться в нее, то признаем в ней не прочное растение, а плющ, приютившийся где-нибудь на голой скале. В рассказе нет связи, через страшную пропасть, зияющую в нашей неверующей фантазии, между эйрским трактиром и воротами Тофета не перекинут мост. Да и мысль о подобном мосте была бы осмеяна. Таким образом, все трагическое приключение является какой-то смутной фантасмагорией, призраком, созданным под влиянием паров эля, и только фарс несколько приближается к действительности. Мы не говорим, чтоб Бернс мог сделать что-нибудь более из этой легенды, мы полагаем, напротив, что в поэтическом отношении она вовсе не могла представить богатого материала. Мы вполне сознаем глубокую, разнообразную и гениальную силу, которую он проявил в этом произведении, но держимся того мнения, что его другие произведения отличаются большими «шекспировскими качествами», чем «Тэм О’Шентер», которого мог бы написать не гений, а всякий мало-мальски даровитый поэт.
Лучшей поэмой Бернса мы можем смело назвать его «Веселых нищих». Сюжет заимствован из низких сфер жизни, но, благодаря таланту автора, представляет художественную картину. Поэма эта, по нашему мнению, отличается законченностью, целостностью, как бы вылитой из одного металла, полна жизни, движения и выдержана до малейших подробностей. Каждое действующее лицо – живой портрет; старуха, «Карло-Аполлон», «сын Марса» – все это истые шотландцы, снятые с натуры. Сцена происходит в кабачке «Пузи-Нанси», в этом замке оборванцев. Мрак ночи на время рассеялся, и при резком, полном освещении мы видим страшных лохмотников, собравшихся покутить. Гвалт и смех раздаются среди попойки, потому что и здесь бьется пульс жизни, заявляющий свои права на веселость, а когда на следующее утро опустится занавес над этой картиной, то мы без труда можем продолжить ее в нашем воображении. Наутро они снова выйдут на добычу – кто нищенствовать, кто воровать, а ночью судьба наградит их вином и веселой шуткой. Кроме общего сочувствия к людям, обнаруживающегося и в этой поэме, мы замечаем в ней истинное вдохновение и значительный технический талант. В ней сквозит правда, юмор, кипит жизнь, а бойкая кисть рисует нам картину, не уступающую картинам Теньера, для которого и пьяные мужики имели значение.
Еще большей законченностью, полнотой и истинным вдохновением отличаются «Песни» Бернса. В них, хотя и через небольшое отверстие, постоянно сияет свет, во всей своей высшей красоте и ясности. Причина этого, может быть, заключается в том, что песня такой род поэтического произведения, который не нуждается в многословии, а требует простоты, истинного поэтического чувства и музыки сердца. А между тем и для песни существуют такие же правила, как и для трагедии, правила, которые иногда недостаточно исполняются, иногда же и самое существование их не подозревается. Мы могли бы написать длинную статью о «Песнях Бернса», на которые смотрим как на лучшие произведения, когда-либо созданные английским гением, – потому что со времен королевы Елизаветы ни одна рука еще не произвела ничего достойного по этому отделу литературы. Правда, у нас существует достаточно песен, сочиненных даже «знатными людьми», у нас есть много пустых, бессодержательных, написанных под влиянием вина мадригалов, куча рифмованных речей, обидных звучными словами, а в видах морали подогретых приторной сентиментальною чувственностью. Эти песни поются постоянно, но мы полагаем, что они льются только из горла. Или в лучшем случае из какого-нибудь другого органа, весьма удаленного от сердца, поэтому и самый источник происхождения этих мадригалов и рифмованных речей нужно отыскивать в туманной области фантазии или даже в нервной системе.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.