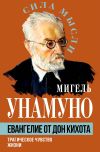Текст книги "Герои, почитание героев и героическое в истории"

Автор книги: Томас Карлейль
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 28 (всего у книги 72 страниц)
Читатель в нашем фигуральном повествовании видел только фигуральный крючок и фигуральную петлю, которые Бёмер и Роган, каждый отдельно, вдали приготовляют друг другу. Теперь же он увидит ловкую модистку (действительную, а не метафорическую модистку), с которой эти два индивидуума войдут в сношения, сцепятся и превратятся в громадных сиамских близнецов, вследствие чего, естественно, узел завяжется – и затем последует развязка.
Жанна де Сен-Реми, из вежливости или по другим причинам названная графиней де Валуа или даже «де Франс», в 1783 году была двадцати семи лет, и ее уже порядочно пощипала судьба. Она хвалилась, что так называемым «незаконным» путем происходила от королевской крови. Генрих II, прежде чем копье на турнире выкололо ему правый глаз и причинило смерть, содержал, как кажется, последовательно или одновременно, четырех не упомянутых в истории женщин, и от третьей из них появился на свет Генрих де Сен-Реми. Как гордый и знатный вельможа, он промотал свое состояние и проводил остальные дни в пожалованном ему имении Фонтетт, близ Бар-сюр-Оба, в Шампани. За этим вельможей в Фонтетте последовало шесть других поколений, и, таким образом, наконец, после двух столетий, появилась эта живая, маленькая Жанна де Сен-Реми, о которой идет речь. Но увы, какое падение! Королевское семейство почти забыло о потомках боковой линии, и последний могущественный вельможа, наследство которого уже было порядочно пощипано его предшественниками, предался пьянству и действительно выпил до дна свою чашу. Промотав постепенно свое состояние, он очутился без самого необходимого, даже без «невыразимых», и умер наконец в Отель Дье в Париже, радуясь, что это не случилось на улице. Таким образом, он хотя и передал маленькой Жанне и ее брату незаконную королевскую кровь, но оставил их без куска хлеба. Мать, вследствие крайности, делает изумительные связи, а Жанна с братом отправляется на большую дорогу просить милостыню11.
Добрая графиня Буленвилье, увидев из окна своей кареты маленькую нищую со светлыми глазками, берет ее к себе, одевает, воспитывает по такой странной системе, что в двадцать лет делает из нее модистку, субретку, придворную попрошайку, светскую даму и королевского отпрыска. Печальная комбинация промыслов! Двор, после бесконечных просьб, награждает ее скудной ежегодной милостыней в тридцать фунтов. Дерзкий граф Буленвилье с намерением, известным ему одному, осмеливается предлагать ей подозрительные подарки12, вследствие чего добрая графиня, так как модное мастерство идет плохо, полагает, что Жанне лучше всего ехать в Бар-сюр-Об и посмотреть, нельзя ли хитростью или угрозой добыть там хоть какую-нибудь частицу из отчужденного имения Фонтетт, которым владеют, может быть, незаконно. Бросив в огонь свои выкройки, положив в карман свой пенсион, Жанна отправляется в путь. В это время ей было двадцать три года.
Воспитанная таким оригинальным способом, между кухней и салоном, с большими претензиями и маленькими средствами, наша маленькая модистка обладает «если не личиком красавицы, то некоторой пикантностью», черными волосами, голубыми глазами и характером, который автор настоящего очерка считает неразъяснимым. Пусть психологи попытаются объяснить его! Жанна де Сен-Реми жила действительно и даже в разное время напечатала три объемистых тома своей автобиографии с неизвестным количеством записок, которые всякий может читать, но не понять13. Странные тома! Они скорее походят на крик ночных птиц, испуганных факелами охотников, чем на толковое изложение бесперого двуногого. Если допустить, что все ее показания ложны, то невольно спросишь: как мог смертный лгать до такой степени?
Психологи жестоко ошибаются, когда стараются найти в каждом человеческом характере совесть. Так как они большей частью созерцательные затворники, признающие нравственность душой жизни, то и судят весь мир этим способом, а между тем, в чем согласны и практические люди, жизнь может идти и без этой прихоти. В чем заключается вся суть жизни? В силе воли.
Но углубись дальше, и ты найдешь более общий характеристический корень: пищеварение. Пока пищеварение продолжается, жизнь, говоря философским языком, не может угаснуть; оно образует достаточно воли, т. е. желаний и намерений, составляющих волю. Тот, кто видит не дальше кладовой или гостиной – последняя служит также отделением кладовой, – не нуждается в мировой теории, в вере, как ее называют, или в правилах долга. Предоставляя миру забавляться этой теорией, он полагает свою главную цель в теории и практике способов и средств. Не в добре или зле заключается его идеал, а в сноровке.
И теперь, устранив препятствие, мы предоставляем психологам взглянуть на это дело с более смелой точки зрения. Пусть посмотрят они на бойкую Жанну де Сен-Реми, как на искру деятельной жизни, не развившуюся в волю, но полную всевозможных желаний и брошенную в ту стихию жизни, которую мы видели. Тщеславие и голод, принцесса крови, отец которой продал свои «невыразимые», воспитанница любвеобильной графини с ветреными надеждами, заурядная субретка, модистка, светская барыня без денег – все эти обстоятельства соединились, чтоб сделать ее положение в мире самым грустным и жалким. Она принадлежит к тому легкомысленному классу, который varium semper et mutabile. Затем она светская дама, хотя и без денег, капризная и кокетливая, с чувствительным сердцем, то грустная и задумчивая, то веселая, прибегающая к противоречивым решениям, смеющаяся и плачущая без всякого повода, хотя эти действия и называются признаками рассудка. Какой лестью, прислужничеством, унижением приходилось ей пробивать дорогу, сколько предстояло ей борьбы из-за денег, так как, кроме них, она не знает никакого производительного промысла. Мысль едва ли в ней существует, а только сноровка и хитрость. Она наделена рысьими глазами, которые могут видеть одни только верхушки, но дальше не в состоянии проникнуть. Каждая отдельная вещь, каждый день представляются ей в новом виде. Так кружится ее пылкая душа среди беспорядочного вихря золоченых лоскутьев, бумажных обрезков и благоприятных обстоятельств. Вероятно, и ты, читатель, за твои грехи встречал подобные прелестные создания, очаровывавшие тебя своими веселыми глазами и причудливыми капризами. Их можно видеть и в высшем кругу, и даже в литературе. Они жужжат и порхают на грациозных крыльях и с изумительным искусством отыскивают себе мед – они неприручимые, как мухи!
С изумительным искусством отыскивают мед, говорим мы, и действительно, это качество составляло принадлежность графини Сен-Реми. Ее инстинкт гениален, чуден, ее аппетит ненасытен. В спекуляциях подобного рода, несмотря на все отсутствие у нее идеи, она перещеголяет целую сотню мыслителей. И такая-то неприручимая муха, мадемуазель Жанна, жужжит теперь в дилижансе, отправляющемся в Бар-сюр-Об, чтоб взглянуть и обнюхать кувшины с медом, расставленные в Фонтетте, и узнать – нет ли в них трещины.
Но увы, в Фонтетте мы только с грустным чувством можем любоваться соломенными крышами, под кровом которых нас выкормили, фермерами, любезно предлагающими нам топленое молоко и другие деревенские яства, – но никому не хочется расстаться с собственностью, за которую, хотя и недорого, но все-таки заплачены деньги. Итак, к кувшинам с медом нет доступа. Между тем в это время некий мсье де Ламотт, рослый жандарм, живет в Бар, куда приехал в отпуск из Люневиля, дарит нас своим вниманием, даже усиливает это внимание, потому что у нас пикантное личико, бойкий язык, ловкие кошачьи манеры, тридцать фунтов пенсиона и надежды. Положим, что мсье де Ламотт теперь только рядовой, но рядовой в корпусе жандармов, а разве отец его не пал, сражаясь во главе своего отряда под Минденом? Отчего девице Сен-Реми, в силу графского титула, не сделать его также графом и тем выдвинуть его по службе? И дело действительно было покончено, прежде чем истек срок отпуска. Неприручимая муха опять зажужжала, выйдя замуж за Ламотта, и если не добыла меда, то ускользнула от пауков. Теперь она в Люневиле кокетничает и капризничает, но положение ее все-таки довольно безутешно.
После четырех долгих лет Ламотт, или, как мы будем теперь называть его, граф Ламотт бросает в сторону свое оружие (к несчастью, один только мушкет) и делается гражданином, т. е. человеком, созданным не для того только, чтоб его убивали. Но увы, холодный мрак окружает теперь жизнь Ламоттов.
Правда, графиня Буленвилье шлет чувствительные письма, но королевские финансы тем не менее сильно расстроены. Без личных настоятельных просьб ни один пенсионер двора, получающий даже самое скудное содержание, не может надеяться на прибавку. Между тем в Люневиле светит солнце, существует жизнь, но только не парижская, а какая-то неполная, бедная. Лавочники делаются настойчивее, самые смелые выдумки не действуют на них, одни только деньги в состоянии успокоить их. Комендант города, маркиз д’Отишан14 соглашается с графиней Буленвилье, что самое лучшее средство – это отправиться в Париж, куда он и сам намерен ехать.
О, изменник маркиз! Его план виден насквозь, он имеет смелость волочиться за королевским отпрыском или по крайней мере намекает, что имеет право это делать. Оскорбленный граф де Ламотт, не теряя времени, как мы уже сказали, подает в отставку и бросает свое огнестрельное оружие. Король теряет рослого солдата, мир приобретает нового плута, а мсье и мадам де Ламотт в это время садятся в дилижанс, отправляющийся в Страсбург.
Но доброй графини Буленвилье уже нет в Страсбурге, она отправилась в Саверн с визитом к кардиналу и князю Людовику де Рогану. Наконец-то, по воле судьбы, наступило время, когда, после долгого странствования по различным путям, из девятисот миллионов обитателей земного шара эти два обитателя, назначенные друг для друга, сойдутся лицом к лицу.
Безумный кардинал, убедившись, что никакие земные средства, даже подкуп трианонского привратника, не помогут ему, решился прибегнуть к сверхъестественным силам, к искусству Калиостро, который отныне будет руководить всеми его идеями и действиями. Для голодающего гения графини Ламотт кардинал и Калиостро должны были иметь значение. Нетрудно вообразить, какое удивление, какой вздох вырвался из ее груди при виде неисчерпаемого богатства (громадные долги в этом случае бывают невидимы), находящегося в руках безграничной глупости, и какая надежда затем осенила ее. Но увы, что значит в глазах именитого кардинала какой-нибудь бедный отпрыск королевской крови, хотя и с пикантным личиком? Пребывание доброй Буленвилье в Саверне может продлиться не более трех дней, и затем, после всевозможных чувствительных сцен и слез, графине де Ламотт и ее мужу придется ехать с ней в Париж, чтоб добиваться новой милости при дворе. Но если небо снова омрачится, то неясный еще теперь призрак в Саверне может послужить предвестником хорошей погоды.
Глава VI Соединятся ли две господствующие идеи?Между тем небо, по обыкновению, снова омрачилось. Королевские финансы, повторяем, находятся в жалком состоянии. Ни д’Ормессон, ни Жоли де Флери, утомившись от бесплодных усилий, не могут увеличить ни на один грош эти несчастные тридцать фунтов. Сам Калонн, имеющий внимательное ухо и ободряющее слово для всех смертных без различия, только с трудом и при помощи королевы успевает возвысить сумму до шестидесяти пяти фунтов. К несчастью, добрая Буленвилье через несколько месяцев умирает. Огорченный вдовец, сидя с закрытыми ставнями в комнате, обтянутой черным сукном, при зажженных лампадах, которые, впрочем, по удалении соболезнующих друзей, тут же гасит, чтоб сберечь масло, имеет снова дерзость делать оскорбительные предложения15. Кроме того, безжалостный человек ограничивает стол Ламоттов и хочет покорить добродетель положительным и отрицательным способом. Они же, чувствуя холод, которым начинает попахивать подобная жизнь, спешат поскорее убраться.
Ламотт-муж, чтоб укрыться от бедности, спускается в «подземные норы шулерства и плутовства» и старается хоть на время пожить, если только сжалится Бог или поможет дьявол. Жена его также собирает свой скарб, посылает неинтересному графу Буленвилье презрительное «прости» и отправляется в Версаль. Здесь поселяется она вблизи двора, чуть не на чердаке, питаясь одной кашей и выжидая будущих событий. Так много случилось и прошло за несколько месяцев этого рокового 1783 года.
Бедная Жанна де Сен-Реми де Ламотт Валуа, экс-модистка и королевский отпрыск! Чей взор, глядя на твое бедное жилище и глиняное блюдо с кашицею, не отуманится слезой! Тебе, владеющей бойкими, живыми глазами, пикантным личиком, неукротимым характером, резким языком, желаниями и капризами и брошенной со всеми этими качествами в этот мир, приходится здесь сидеть. А между тем нужно платить по счетам, добывать свежие шелковые платья и «держать джиг»! Ты должна слоняться из одной передней в другую, быть страшилищем в глазах знатных лиц и женщин, имеющих на них влияние. Вместо того чтобы веселиться, тебе приходится плакать, благодарить, истощать все свое красноречие, может быть, прибегать к кокетству, чтоб улучшить свои скудные средства, и таким образом, в постоянной борьбе с бедностью и холодом, но с горячей, юной кровью плести слабую, неровную нить, которую скоро перережут ножницы Атропосы.
Савернский призрак по-прежнему предвещает хорошую погоду. Но надежды еще увеличиваются, когда кардинал с первыми весенними днями приезжает в Париж, что он имеет обыкновение делать периодически, благодаря влиянию своей господствующей идеи.
В чем же состоит механико-практический гений, как не в слиянии двух сил, пригодных друг для друга и порождающих третью. Еще во времена Тубалкуина ковалось железо, кипела вода, но, за недостатком гения, не было паровой машины. В князе Людовике, в этом громадном, беспокойном и беспорядочном существе, поверь, смелая графиня, живут глубокие и разнообразные силы, а господствующая идея превращает всю эту громадную, бессвязную массу в одну силу, в которой гениальный взор, вероятно, отыщет себе что-нибудь подходящее.
Имея знакомство с придворной челядью, наша смелая графиня не раз слышала о Бёмере, о его ожерелье и угрозах утопиться в Сене. Во время сплетен и болтовни эта история нередко всплывает наружу; о ней толкуют со смехом, как будто в ней нет никакого смысла. Для обыкновенных глаз, разумеется, нет, но для гениальных глаз? В минуту вдохновения в нашей смелой Ламотт возникает вопрос: нет ли во всех этих силах какой-нибудь родственной силы, которая могла бы соединиться с силою Рогана? И эта минута была великая, подобная блеску молнии, рождению Минервы, подобная моменту мироздания! Как бьется пульс, как захватывает дыхание пред ее величием: не божественная, а дьявольская идея величественна для нее. Мысль (как часто мы должны повторять это) управляет миром; огонь и, в меньшей степени, холод, суша и море (что означают все наши корабли или пароходы, как не мысль, воплощенную в дерево), парламенты, возвышение и падение народов – все вещи повинуются мысли. Графиня де Сен-Реми, силою мысли, сделалась безумной женщиной. Посредством гения она обнимает свою небожественную идею и употребляет все свои способности для ее осуществления. Приготовься, читатель, для целой серии изумительных представлений, когда-либо являвшихся на театральных подмостках.
Мы нередко слышим, как, рассказывая о драматическом писателе или сценической иллюзии, говорят: «Как естественно, как обманчиво все было!» Если зритель хоть наполовину мог поверить, что это была действительность, то он выходит из театра вдвойне довольным. Против этого или чего-нибудь подобного я не спорю. Но что сказать о женщине-артистке, которая в продолжение восемнадцати длинных месяцев может показывать кардиналу великолепную фата-моргану, – кардиналу, совершенно бодрствующему и над головою которого пронеслось пятьдесят лет. Она до такой степени увлекла его сценической иллюзией, что он вполне поверил, что все это твердая почва, а на картонных деревьях растут яблоки гесперид. Могла ли г-жа Ламотт после этого написать «Гамлета»? Я положительно говорю – нет. Для создания Гамлета требуется более чем «подражание» всем характерам и предметам на этой земле; здесь требуется прежде и сверх того редкое понимание их тайной связи и гармонии. Обезьяна Эразма, как известно из истории литературы, подражала малейшему движению своего господина, когда он брился, а между тем ее глупый подбородок не сделался от этого глаже.
Перед представлением драмы не следует ходить за кулисы и смотреть на сожженную пробку, толченую смолу, истощенных, голодных мужчин и женщин, из которых составлено героическое произведение. Так и читателю только на время будет позволено заглянуть за кулисы, но что касается целого, то подави в себе научное любопытство, читатель, дай сперва место твоему эстетическому чувству и взгляни, в какой Просперов грот будет введен Роган, чтобы там радоваться не зная чему.
Сперва обрати внимание на то, что мы называем освещением, оркестром, общей театральной обстановкой, настроением и расположением слушателей. Театр – это мир с его непрерывными заботами и безумием; вблизи возвышаются королевские купола Версаля, окруженные таинственностью, а на заднем фоне – тысячелетнее воспоминание. По берегу Сены прогуливается исхудалый, убитый горем королевский ювелир с ожерельем в кармане. Слушателей изображает кардинал в самом удобном расположении духа. Господствующая идея несет его по крутизне, и он в отчаянии готов ухватиться хоть за соломинку. Кроме того, поймите еще то: Калиостро пророчит ему! Шарлатан из шарлатанов уже несколько лет руководит им. Он передает ему «шифрованные предсказания», вопрошает перед иероглифическими ширмами голубей в состоянии невинности о жизненном эликсире и философском камне, раскрывая перед ним воображаемое величие природы и отдаляя его от здравомыслящих людей. Разве не достаточно было того, что Роган сделался вялым, взбалмошным, вечно дымящимся грязным вулканом, – нет, нужно было, чтоб египетская магия завладела им.
А если прибавить к тому графиню Ламотт с ее соблазнительным искусством? Хотя она не красавица, но все-таки обладает «некоторой пикантностью» и т. д.! Одним словом, бедного кардинала усадили на самое удобное место, он в самом удобном расположении духа, а теперь прикоснись к свечам зажженным фитилем и заставь оркестр играть нежную и приятную увертюру!
Глава VII Мария-АнтуанеттаТакая приятная и нежная увертюра началась для кардинала в первых числах января 1784 года, когда графиня таинственно, взяв с него клятву молчать, намекнула ему, что благодаря своему бойкому языку и таланту рассказывать анекдоты она получила доступ к ее величеству королеве. Боги! В твоих словах небесная мелодия, на твоем лице еще сияет тот свет, который озаряет все. Люди, одержимые господствующей идеей, не похожи на других людей. Слушать рассказ, ловко придуманный артисткой, вникать в смысл каждого слова, упиваться им – вот все, что оставалось делать безумному кардиналу. Его бедная, ленивая, так нежно убаюкиваемая душа чувствует, как проникла в нее новая стихия, и свет озарил пустыню его воображения. Интересуется ли он таинственным рассказом? Да, да, надежда овладевает им, и ничто в мире не интересует его теперь, как этот рассказ.
Тайная дружба с королевой не такая вещь, чтоб оставаться в бездействии. Происходят новые свидания во дворце, но только под величайшим секретом, потому что иначе ее величество может возбудить подозрение придворных мужского и женского пола, зорко следящих за ней. 2 февраля, в день «процессии кавалеров голубой ленты», было говорено о многом, но преимущественно о монсеньоре де Рогане. Бедный монсеньор, если б у тебя было три длинных уха, то и тогда бы ты услышал этот разговор.
Но при следующем свидании не замолвить ли ей доброго словечка о тебе? Ты сам должен сказать его, счастливый кардинал, или по крайней мере написать, а наша покровительница-графиня передаст его по принадлежности. 21 марта отправляется умоляющее письмо, это было первое письмо кардинала к королеве, за ним следуют две сотни других. На письмо отвечают словесно через посланную, затем автограф королевы появляется на золоченой бумаге, и все это передается нашей покровительницей-графиней, которая хлопочет изо всех сил и со степенной важностью римского авгура делает свои предсказания. Дело на полном ходу. Дофина, по рассказам графини, хотя некогда и негодовала на монсеньора, но теперь, сделавшись королевой, забыла все. Она добрая, снисходительная, но, к сожалению, окружена лукавыми Полиньяками и другими да иногда страдает безденежьем.
Марию-Антуанетту, как читателю, вероятно, известно, немало упрекали за недостаток этикета. Даже теперь, когда другие обвинения против нее преданы забвению, обвинение в недостатке этикета пережило ее. В замке Гам в эту минуту (1833), может быть, Полиньяки и компания ломают себе руки и причину своего заключения приписывают ей. Но во всяком случае, она пренебрегала этикетом: так, однажды, когда у нее сломался экипаж, она села в наемную карету. В Трианоне она постоянно гуляла в соломенной шляпке и кисейном платье. С тех пор как узел этикета был развязан, французское общество рушилось и наступили изумительные «ужасы Французской революции». На каком волоске, подумаешь, висит дамоклов меч над нашею несчастной землей!..
Высокорожденная! В какую бездну низвергли тебя! Есть ли хоть одно человеческое сердце, которое не почувствовало бы сострадания к тебе, вспомнив о длинных месяцах и годах твоего позора? О твоем детстве в императорском Шенбрунне, где заботились, чтобы грубое дыхание ветра не коснулось твоего лица, где твоя нога покоилась на мягком ковре, а твой взор встречал только роскошь и великолепие? И затем о твоей смерти и страданиях, для которых гильотина и Фукье Тенвиль были благодетельным концом? Взгляни, о человек, рожденный женою, как поседела от горя эта прелестная голова, потух блеск этих глаз, опухли веки и по лицу разлилась мертвенная бледность. Простое, жалкое платье, сшитое собственными руками, прикрывает царицу мира. Роковая телега, на которой ты сидишь, бледная и неподвижная, окруженная проклятиями, остановилась; народ, опьяневший от мщения, снова хочет упиться им при виде тебя. Насколько видит глаз, всюду виднеется море голов; воздух оглашается торжествующими криками. Полумертвая еще раз испытывает последнюю муку; на ее испуганном лице, которое она спешит закрыть руками, еще раз появляется румянец стыда и отчаяния. Неужели нет сердца, которое бы сказало: «Господи, сжалься над нею!» О таком сердце нечего думать. Думай только о распятом страдальце, которому ты молишься и которому пришлось испить еще более горькую чашу мучений, восторжествовать над ними и создать «святилище скорби» для тебя и всех несчастных. Скоро кончится твой тернистый путь. Еще один последний взгляд на Тюильри, где жизнь твоя была так легка и где детям твоим не придется жить. Голова твоя на плахе; секира падает… мир онемел, – этот дико ревущий мир, со всем его безумием, исчез для тебя…
Высокорожденная красавица, в какую бездну низвергли тебя! Покойся в твоем невинно-грациозном уединении, которое еще не осквернили грубые руки, – я не потревожу тебя. Да будет священна для меня завеса, скрывающая королевскую жизнь. Вина твоя во Французской революции заключалась в том, что ты была символом тысячелетнего греха и преступлений, что варфоломеевские ночи, жакерии, драгонады и оленьи парки переполнили чашу человеческого терпения и довели народ до безумия. Тебе не суждено было быть ни женою Кромвеля, ни Наполеона, – они сами по себе невысокого происхождения, но благодаря потрясениям и смутам играли в государстве высокую роль. Как счастливы, достойны были бы вы оба бедными крестьянами! Но злая судьба создала вас королем и королевою, и вы сделались предметом удивления и притчею на все времена.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.