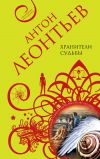Текст книги "Домой возврата нет"

Автор книги: Томас Вулф
Жанр: Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 29 (всего у книги 47 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Откуда же они донеслись? Он все еще слышал свое имя, теперь уже еле-еле, оно слилось со множеством других, непонятных звуков. Но откуда они доносились, с какой стороны? Да и слышал ли он их? Протяжное, однообразное гуденье, точно электрический вентилятор – пожалуй, какой-то мотор на улице? Негромкий удаляющийся гром – пожалуй, поезд на эстакаде? Или это жужжит муха? Или ноет комар? Нет, не может быть, ведь сейчас утро, весна, май на дворе.
Легкий утренний ветерок шевелит занавеси в его приветливой комнате. Старая кровать с пологом на четырех столбиках, веселое и уютное старое стеганое одеяло, старый комод, столик у кровати – на нем груда рукописей, стакан с водой, очки, тут же стоят и тикают часы. Может, это их он слышал? Он поднес часы к уху, прислушался. На каминной полке, лицом к нему – бюст деда, сенатора Уильяма Лисхола Мортона – зоркий и незрячий, суровый, худощавый, воплощение резкости и решимости; а еще в комнате два стула и на стене эстамп: великолепный микеланджеловский Лоренцо Медичи. Лис поглядел на него и улыбнулся.
– Мужчина, – негромко сказал он. – Мужчина так и должен выглядеть!
Молодой Цезарь, с могучими руками и ногами, восседает на троне; великолепная голова в шлеме: он готов к битве, подбородком чуть оперся на кисть благородной формы, он провидит великие события, свое предначертанье; мысль сплетена с деянием, поэзия с действительностью, осторожность с дерзостью, размышленье с решимостью: Мыслитель, Воин, Государственный муж, Правитель – все в одном лице. «Таков и должен быть мужчина», – подумал Лис.
Все еще несколько озадаченный, по-прежнему в пижаме и шляпе, Лис подходит к окну и смотрит на улицу, – одной рукой подбоченился, закинул голову, пренебрежительно раздул чуткие ноздри, легко, естественно, совсем по-мальчишески наклонился, втянул воздух. Его овевает легкий утренний ветерок, колышет тонкие, прозрачные занавеси.
За окном утро, и внизу утро, и в сияющем небе над головой – утро, вокруг и напротив, со всех сторон бьющая наискось утренняя свежесть, золотая утренняя свежесть – и улица. Унылые ржаво-бурые фасады напротив, однообразные фасады улицы Черепашьей бухты.
Светлыми, как море, глазами Лис глядит на утро, на улицу, словно видит их впервые в жизни, и негромко, низким, слегка осипшим приятным голосом, почти шепотом, словно бы постепенно вспоминая и тихо удивляясь, и еще почему-то с покорностью, произносит:
– А… понимаю.
Поворачивается, проходит через всю комнату в ванную и все так же изумленно, серьезно, светлыми, как море, удивленными глазами глядит на себя в зеркале, рассматривает свои черты, замечает круглые клетки, в которых глубоко сидят глаза, видит, как серьезно глядит на него из зеркала Лис-мальчишка, вдруг вспоминает: Лис-мальчишка был лопоух, ухо росло под прямым углом, сорок лет назад его совсем задразнили в гротонской школе, – глубже нахлобучивает шляпу; не торчи торчком, лопоухое ухо!
Так он стоит несколько минут и разглядывает себя и, убедившись наконец, что это он и есть, говорит все так же чуть изумленно, неторопливо, с терпеливым смирением:
– А… понимаю.
И поворачивает душевой кран – с шипеньем бьют водяные струи, ширится облако пара. Лис хочет стать под душ, замечает на себе пижаму, вздыхает и стаскивает ее. Раздетый, в чем мать родила, не считая шляпы, снова лезет под душ, но вспоминает про шляпу и в страшном смущении – волей-неволей надо признаться, до чего же все это нелепо, – сердито щелкает пальцами и негромко, недовольно соглашается:
– А, ладно! Так и быть!
Итак, он снимает шляпу – а она нахлобучена глубоко, сидит плотно, приходится сдергивать ее обеими руками и прямо-таки вывинчиваться из нее, – нехотя вешает ее, изрядно помятую, на крючок на двери, еще минуту не сводит с нее неуверенного взгляда, словно не решаясь с нею расстаться, и, наконец, все с тем же изумленным видом становится под шипящие струи кипятка, под которыми можно свариться вкрутую!
Тут уж никакой изумленности, можете мне поверить, безумные мои господа. Лис выскочил ошпаренный. «А, черт!» – кричит он, и пританцовывает, и щелкает пальцами, и снова громко чертыхается, но пускает воду попрохладней и на сей раз без всяких происшествий принимает душ.
Душ принят, волосы, немедля зачесанные назад, плотно облегают хорошо вылепленную голову, и на нее тотчас же водружается шляпа. Лис чистит зубы, бреется безопасной бритвой, нагишом, но в шляпе проходит через свою комнату и направляется к лестнице, вспоминает, что не одет – «А!» – оглядывается, в изумлении замечает аккуратно разложенную на стуле одежду (женщины постарались еще с вечера): чистые носки, чистое исподнее, чистая сорочка, костюм, туфли. Лис никогда не знает, откуда все это берется, никогда бы ничего не нашел сам, а увидав, всякий раз слегка удивлен. Снова произносит «А!», возвращается, и, как ни странно, вся одежда ему в самый раз.
Все сидит прекрасно. На Лисе всегда все сидит прекрасно. Он никогда не знает, что на нем надето, но надень он хоть мешок из дерюги или саван, завернись он в парус или в кусок холста, – все с первой минуты сидело бы на нем прекрасно, во всем была бы элегантность, безупречный стиль. Все его вещи ему под стать: что ни наденет, всему тотчас передается его изящество, достоинство и непринужденность. Он почти не занимается гимнастикой, да и незачем; он любит пройтись, игры наводят на него скуку, и он ни в какие игры не играет; фигура у него такая же, как была в двадцать один год: рост пять футов десять дюймов, вес сто пятьдесят фунтов, никакого живота, никакого жира, строен, как мальчишка.
Теперь он одет, только без галстука, не глядя, берет галстук и вдруг замечает: очень яркий, в голубой горошек; выпускает галстук из рук и, раздув ноздри, произносит одно-единственное слово, но, чувствуется, столько в него вкладывает, что оно перевешивает многие томы:
– Женщины!
Потом неуверенно перебирает галстуки на вешалке в стенном шкафу, находит скромный серый галстук, повязывает. И вот, совсем готовый, он берет рукопись, пенсне, отворяет дверь и выходит в узкий коридор.
Дверь в комнату жены закрыта, от нее веет сном и еле уловимыми духами. Лис вздернул голову, резко втянул носом воздух, во взгляде и презренье, и сочувствие, жалость, нежность и покорность… медленно, исполненный решимости, он опускает голову:
– Женщины!
И – вниз по винтовой лестнице, голова вновь высоко поднята, одна рука взялась за лацкан пиджака, в другой – рукопись, вот и третий этаж. Опять узкий коридор, он ведет вперед, назад, вбок, еще три закрытые двери, сонные, утренние, – пять дочерей…
Женщины!
Окидывает взглядом дверь Марты, старшей, двадцатилетней…
Женщина!
Следующая – дверь Элинор, восемнадцатилетней, и Эмилии, ей только шестнадцать, но все равно…
Женщины!
И, наконец, с ласковым презреньем, чуть улыбаясь, – у двери двух младших: Руфи четырнадцать, малютке Энн только семь, и все-таки…
Женщины!
Так, принюхиваясь к этому женскому духу, он спускается на второй этаж, входит в гостиную и с презреньем смотрит, что они тут натворили…
Женщины!
Ковры скатаны, лучи утреннего солнца косо падают на голые половицы. Обивка со стульев и диванов содрана, набивка выдрана. Пахнет свежей краской. Стены, вчера еще коричневые, нынче утром голубеют, как яйцо малиновки. Повсюду под ногами – ведра с краской. Даже книги, стоявшие у стен, сняты с высоких прогнувшихся полок. Опять они безумствуют, все перекрашивают и перекраивают, а все оттого, что…
Женщины!
С острым отвращеньем Лис принюхивается к запаху свежей краски, проходит через гостиную, поднимается по ступеням, – они тоже выкрашены в нежно-голубой цвет, – и выходит на террасу. Яркие стулья, качалки, столики, яркие полосатые тенты, а в пепельнице – несколько окурков, и на них предательские следы…
Женщины!
Сады за домами, выходящие к Черепашьей бухте, трогают душу нежной зеленью, птичьим пеньем, плеском невидимых отсюда волн, они – живая тайна колдовства, творимого эльфами в самом сердце гигантского города, а по другую сторону бухты, точно тяжелая исполинская завеса устремляющихся вверх дымов, ряд упирающихся в небеса каменных башен.
Лис вдыхает свежий зеленый аромат утра, в светлых, как море, глазах изумленье, отстраненность, узнаванье. Но вот какой-то далекий отсвет жаркого чувства преображает его лицо – и тут что-то трется о его ногу, тихонько подвывает. Лис опускает голову, заглядывает в печальные, молящие глаза французского пуделя. До чего нелепо обкорнали зверя: пушистая курчавая шерсть на плечах, на шее, на голове, голые ребра и поясница, опять же пушистый шерстяной хвост и длинные голые ноги, полураздетое создание женского пола, совсем без шерсти как раз там, где она нужней всего, и не собака вовсе, просто офранцуженная карикатура на собаку, нелепая пародия на глупость моды, на вычурность, кокетство, безответственность… чью, спрашивается?
Женщины!
Лис брезгливо поворачивается, уходит с террасы, спускается по ступеням, проходит по голым доскам гостиной, петляет меж выпотрошенных стульев и кресел и спускается в нижний этаж.
– Это еще что?
В прихожей ослепительный малиновый ковер, а ведь вчера лежал голубой, стены – молочно-белые, а ведь вчера были зеленые, одна стена просверлена, и к ней прислонено большущее зеркало – его еще не успели укрепить, а вчера тут никакого зеркала не было и в помине.
Лис шагает по узкому коридору, мимо кухни, через гардеробную, здесь тоже его обдает свежей краской – и входит в комнату, которой прежде не пользовались.
– Господи, это еще что?
Комнатка преображена в «уютный кабинетик». Не нужны ему никакие уютные кабинетики, ничего подобного он не потерпит! Стены покрашены, повешены книжные полки, поставлены лампа и кресла, любимые его книги переселены сверху, с привычных мест (Лис застонал) – теперь ничего не найдешь!
Выходя, Лис стукается головой о низкую притолоку, снова проходит узким коридором, и вот, наконец, он в столовой. Садится, во главе длинного стола (при шести женщинах как не быть длинному столу), смотрит на стакан апельсинового сока у себя на тарелке, не пьет, не притрагивается к нему, просто сидит и терпеливо, в покорном унынии ждет.
Входит Порция, полная мулатка лет пятидесяти, в лице ее совсем немного желтизны, она почти белая. Вошла, остановилась, глядит на неподвижно сидящего Лиса и застенчиво хихикает. Лис медленно обернулся, ухватился за лацканы пиджака и смотрит на нее в полнейшем недоумении. Хихикая, она застенчиво опустила веки и пухлыми растопыренными пальцами прикрыла толстые губы. Лис смотрит на нее в упор, словно за пухлой рукой с растопыренными пальцами пытается разглядеть лицо, потом с безнадежностью в глазах говорит медленно, замогильным голосом:
– Фруктовый салат.
А Порция в ответ, с тревогой:
– Что ж вы сок не пьете, мистер Эдвардс? Иль он вам не по вкусу?
– Фруктовый салат, – ровным голосом повторяет Лис.
– Что ж вы все кушаете этот фруктовый салат, мистер Эдвардс? На что вам сдалась эта консерва, мы ж вам апельсинчики выжимаем, свеженькие.
– Фруктовый салат, – скорбно, с безграничной покорностью отзывается Лис.
Порция ворча удаляется, но через минуту фруктовый салат уже перед ним на столе. Лис ест, потом оглядывается, поднимает глаза на Порцию и с той же безнадежной покорностью в голосе негромко, хрипло говорит:
– Это… все?
– Да что вы, сэр, мистер Эдвардс? – откликается Порций. – Кушайте на здоровье, чего пожелаете, только словечко скажите. Мы ж не знаем, чего вы прикажете. Прошлый месяц вы каждое утро приказывали рыбу… желаете опять рыбу?
– Грудку цесарки, – ровным голосом произносит Лис.
– Что это вы, мистер Эдвардс! – ахает Порция. – Как так, на завтрак грудку цесарки?
– Да. – Лис терпелив и настойчив.
– Как можно, мистер Эдвардс! – возражает Порция. – И вовсе вам не надо грудку цесарки на завтрак!
– Нет, надо, – с прежней безнадежностью говорит Лис.
И смотрит на нее в упор, глаза – точно море, подернутое дымкой, в лице, как всегда, гордость, и презренье, и терпеливая, стойкая горечь – весь его облик словно говорит: «Мужчина рождается от женщины, и рождается он для скорби».
– Мистер Эдвардс, – уговаривает Порция, – да где ж это видано, на завтрак – грудку цесарки! На завтрак кушают яичницу с грудинкой, а то поджаренный хлеб с беконом, вон что на завтрак полагается.
Лис по-прежнему смотрит на нее в упор.
– Грудку цесарки, – устало и все так же неумолимо твердит он.
– Т-так в-ведь, мистер Эдвардс, – уже в полном отчаянии заикается Порция. – Нет же у нас грудки цесарки.
– Позавчера вечером была, – говорит Лис.
– Ну да, сэр, ну да! – чуть не со слезами соглашается Порция. – А вся вышла! Мы ее всю съели!.. И потом, вы ж две недели каждый вечер ее кушали, вот миссис Эдвардс и сказала, хватит вам… она говорит, детям надоело, говорит – готовьте что другое!.. А если б вы сказали, мол, желаю на завтрак грудку цесарки, мы б вам приготовили. Так ведь вы сроду не скажете, мистер Эдвардс. – Порция вот-вот заплачет в голос. – Вы сроду не говорите, чего вам охота… вот мы и не знаем. То весь месяц вам каждый день охота на завтрак куриное пюре… А потом пожелали тресковые тефтели, и долго-долго так было, все тефтели да тефтели… А теперь вот грудка цесарки, – Порция чуть ли не рыдает, – а у нас ее нету, мистер Эдвардс. Сроду вы не скажете, чего вам охота. У нас и ветчина есть, и яйца… и бекон есть, и…
– Ну, ладно, – устало говорит Лис, – принесите, что есть… все равно что.
Он отворачивается, исполненный терпеливого презренья, непреходящей безнадежной горечи – и ему подают яйца. Лис с наслаждением их уплетает, потом принимается за поджаренный хлеб – съедает три хрустящих, намазанных маслом ломтика и выпивает две чашки горячего крепкого кофе.
В половине девятого в столовую что-то входит – быстро и бесшумно, как солнечный луч. Это четырнадцатилетняя девочка, существо на редкость миловидное, четвертая дочь Лиса, по имени Руфь. Она – Лис в миниатюре: маленькая, грациозная, как птичка, складненькая, точно какой-то прекрасный зверек. В точности той же лепки и так же посажена небольшая головка, темно-русые гладкие волосы, лицо словно прозрачная слоновая кость, черты его, тонкие и выразительные, те же, что у Лиса, но преображены женственностью, – в этом нежном точеном лице изящество изысканнейшей камеи.
И при этом мучительная, сродни страху, застенчивость. Девочка вошла неслышно, пугливо, затаив дыхание, голова опущена, руки бессильно повисли, глаза в пол. Видно было, что пройти мимо отца, заговорить с ним для нее сущая пытка; она проскользнула бочком, словно надеялась остаться незамеченной. Не поднимая глаз, робким тихим голоском вымолвила:
– Доброе утро, папочка.
И уже готова была укрыться на своем месте за столом, но Лис вскинул глаза, вздрогнул, вскочил, обнял ее и поцеловал. В ответ она быстро поцеловала его, но глаза поднять так и не осмелилась.
Лицо Лиса озарилось бесконечной нежностью.
– Доброе утро, детка, – негромко, глуховатым, чуть хриплым голосом сказал он.
По-прежнему не глядя на него, оробевшая, растерянная девочка попыталась высвободиться, и все же ясно было, как любит она отца. Сердце у нее стучало, как молот, глаза метались, точно у испуганного птенца, ей хотелось провалиться сквозь землю, стремглав выбежать из столовой, обратиться в тень – что угодно, что угодно, лишь бы стать совсем незаметной, чтоб никто ее не видел, не обращал на нее внимания, и главное – не заговаривал с нею! И она трепетала в отцовских объятиях, точно голубка, попавшая в силки, пыталась вырваться, и так остры были ее мученья, что больно было смотреть, страшно каким-то неверным шагом еще усилить смущенье и отчаянную робость этого перепуганного ребенка.
Лис крепче прижал дочь к себе, посмотрел на нее тревожно, озабоченно.
– Детка! – с беспокойством шепнул он и легонько потряс ее за плечи. – Что ты, детка? – спросил он. И уже требовательно, с оттенком привычного презренья: – Ну, что еще?
– Да ничего, папочка! – возразила Руфь, и в тихом смущенном голоске зазвучало отчаяние. – Ничего такого! – Она чуть изогнулась, стараясь вырваться. Лис неохотно разжал руки. Все так же не глядя на отца, девочка поспешно улизнула на свое место и с подавленным смешком заключила: – Ты такой смешно-ой!
Лис опять сел и все глядел на дочь строго, серьезно, с тревожной заботой и с толикой презрения. Она метнула в него испуганный взгляд и низко наклонилась над тарелкой.
– Что-нибудь случилось? – тихо спросил Лис.
– Да ничего не случилось! – с сердитым смешком возразила девочка. – С чего ты взял? Нет, правда, пап, ты такой стра-ан-ный!
– Так что же? – терпеливо, покорно настаивал Лис.
– Да ничего! Я ж тебе говорю – ни-че-го! Я ж тебе первее всего так сказала!
Все дети Лиса говорили «первее всего» вместо «прежде», и «главнее всего» вместо «важно», и «длиннее всего» вместо «долго». Почему, неизвестно. Это, видно, семейное: так говорили не только дети Лиса, но и все их двоюродные братья и сестры с отцовской стороны. Можно подумать, будто многие поколения семьи этой жили обособленно, в изгнании на каком-то затерянном острове, оторванные от всего мира, и от дедов к внукам передавалось некое забытое наречие, на котором говорили их предки триста лет назад. К тому же они слегка растягивали слова, но не томно, как на далеком Юге, а как-то недовольно, устало и ворчливо, словно уже не надеялись, что Лис – или любой другой – поймет простые истины, которые ясны сами по себе и которые надо бы понимать безо всяких объяснений. Итак:
– Да ничего, папочка! Я ж тебе первее всего сказала!
– Так что же все-таки, детка? – настаивал Лис. – Почему ты такая? – И он выразительно повесил голову.
– Да какая такая? – возразила девочка. – Ох, папочка, ну честное слово… – Она судорожно глотнула, выдавила из себя смешок и отвела глаза. – Я прямо не знаю, про что ты.
Порция внесла дымящуюся овсяную кашу и поставила перед ней.
– Доброе утро, Порция, – застенчиво сказала Руфь, опустила голову и принялась торопливо есть.
Лис по-прежнему глядел на нее строго, серьезно, с тревогой. А девочка вдруг подняла глаза и отложила ложку.
– Ну, пап, чего ты?
– Эти негодяи опять сегодня придут? – спросил Лис.
– Ох, папа, какие еще негодяя?.. Ну, честное слово!
Она поерзала на стуле, судорожно глотнула, хотела было засмеяться, схватила ложку, принялась было есть – и опять отложила ложку.
– Негодяи, которых вы… вы, жен-щи-ны… – он с насмешливой почтительностью склонил голову, – привели, чтобы разрушить мой очаг.
– Да ты про кого? – Девочка озиралась, как затравленный зверек: куда бы спрятаться? – Я не понимаю, о ком ты?
– Я о молодчиках, которые отделывают квартиры, – сказал Лис. – О тех… – тут в голосе его зазвучало непередаваемое пренебреженье, – которых вы и ваша мать привели, чтобы погубить этот дом.
– А я-то при чем! – возразила девочка. – Ох, папочка, ты такой… – Она не договорила, поерзала на стуле и со смешком отвернулась.
– Итак… какой? – негромко, хрипло, презрительно спросил Лис.
– Ой, ну я не знаю… такой… такой стра-анный! Ты говоришь так смешно!
– Вы, женщины, – продолжал Лис, – решили вы, когда наконец я обрету в своем доме хоть немного покоя?
– По-ко-о-я?.. Да разве я виновата? Если ты против маляров, почему ж ты не скажешь маме?
– Потому… – Лис подчеркнуто, насмешливо склонил голову, – потому что… со мной… не считаются! Я всего лишь… старый… серый… мул… среди шести женщин… и для меня, разумеется, все сойдет!
– Да чем же мы виноваты? Мы не сделали тебе ничего плохого! Почему ты так говоришь, будто тебя обижа-а-ют?.. Ох, папочка, ну честное слово!
Девочка отчаянно заерзала, хотела было засмеяться, отвернулась и снова наклонилась к самой тарелке.
Лис сидит, откинувшись в кресле, сжимая одной рукой подлокотник – он углублен в себя, отрешен, весь его облик красноречивей всяких слов говорит о глубоком, безнадежном терпении, – и еще с минуту серьезно разглядывает девочку. Потом сует руку в карман, вытаскивает часы, смотрит на них, снова бросает взгляд на Руфь и качает головой – воплощенный строгий упрек и молчаливое обвинение.
Дочь испуганно вскинула голову, положила ложку, тихонько ахнула.
– Ну что? Чего ты качаешь голово-о-ой? Что еще?
– Мама встала?
– Ну, откуда мне зна-ать?
– А твои сестры встали?
– Ну, па-а-па, я же не зна-аю.
– Ты рано легла спать?
– Д-да-а, – недовольно тянет девочка.
– А твои сестры в котором часу легли?
– Ну откуда же мне зна-ать! Ты их са-ам спроси!
Лис опять смотрит на часы, на дочь и снова качает головой.
– Женщины! – тихо говорит он и сует часы в карман.
Руфь наконец отставила кашу, больше ей не хочется. Тихонько слезла со стула и, глядя в сторону, пытается проскользнуть мимо отца и – вон из комнаты. Лис быстро встал, поймал ее и негромко, торопливо и встревоженно спрашивает:
– Куда ты, детка?
– Ну, в шко-о-лу же!
– Нет, детка, сперва надо позавтракать!
– Ну, я пое-е-ла!
– Нет! – чуть слышно, нетерпеливо возражает Лис.
– Ну, я поела, сколько могла-а!
– Ничего ты не ела! – тихонько, пренебрежительно возражает Лис.
– Ну, я больше не хочу! – говорит она, оглядывается по сторонам, точно загнанный зверек, и пытается выскользнуть из его рук. – Ну, пап, пусти, я опозда-аю!
– Что ж, значит, опоздаешь! – тихонько, пренебрежительно говорит великий блюститель времени и порядка. – Сядь и поешь! – подчеркивая каждое слово кивком, непреклонно заявляет он.
– Не могу-у я! У меня доклад.
– Что у тебя?
– Зачетный докла-ад… у мисс Аллен… урок в девять.
– А… понимаю, – медленно произносит Лис. И тихонько, едва слышно прибавляет: – Об… об Уитмене?
– Ну, да-а.
– А… а книжку, которую я тебе дал, прочла? Где военный дневник и заметки?
– Да-а.
– Поразительно! – почти шепотом говорит Лис. – Поразительно, правда? Кажется, будто сам присутствуешь при этом, правда? Он… он так во все это вжился… можно подумать, будто это все он сам… будто все это происходит с ним самим!
– Да-а. – Девочка затравленно озирается, потом, не глядя на отца, выпаливает: – И про другое ты тоже верно сказал.
– Про что другое?
– Про ночь… что в нем столько ночи и тьмы… и про его… про его чувство ночи.
– А… – тихонько, медленно произносит отец, его светлые, как море, глаза подернуты дымкой раздумья. – В докладе ты говоришь и об этом?
– Да-а. Это правда. Ты когда мне сказал, я прочла еще раз, и это правда.
Застенчивая, робкая, испуганная, точно загнанный зверек, она, однако, умеет видеть правду.
– Отлично! – все так же тихо произносит Лис, с безмерным удовлетворением решительно кивает. – Уверен, что доклад хороший!
Матово-бледное, как будто из слоновой кости выточенное личико вспыхивает. Как и отец, девочка любит, когда ее хвалят, но слышать похвалу не в силах. Она ежится, и страшно ей, и надеется она, не надеясь…
– Не зна-аю, – судорожно глотнув воздух, произносит она. – Мисс Аллен мой последний доклад не понравился… про Марка Твена.
– Ну и бог с ней, с мисс Аллен, – пренебрежительно, негромко роняет Лис. – Доклад был отличный. Ты очень верно написала о «Миссисипи».
– Зна-аю! А ей как раз это и не поправилось. Она, кажется, совсем не поняла, что я хотела сказать, заявила – это незрело, неглубоко, и поставила мне «посредственно».
– А-а… – рассеянно протянул Лис, а сам думал с огромным удовлетворением: «Ну что за девчонка! Отличная голова. Она… она все понимает!»
– Видишь ли, детка, – негромко, мягко говорит Лис, возвращаясь к мисс Аллен. – Они не виноваты. Люди вроде нее стараются изо всех сил… но… но, похоже, им просто не дано понять. Видишь ли, мисс Аллеи человек академического склада… скорей всего, я думаю, старая дева. – Он подкрепляет свои слова решительным кивком. – А людям такого склада – где им понять Уитмена, Твена, Китса… Обидно, – бормочет Лис и качает-головой, и во взгляде его тревожное сожаление, – обидно, что впервые нам приходится слышать об этих писателях в школе, от… от таких вот, как мисс Аллен. Видишь ли, детка, – он чуть склонил голову набок, здоровое ухо обращено к девочке, он говорит мягко и необычайно ясно, лицо живое, проницательное, вдумчивое, увлеченное, все так и светится, оно всегда такое, когда интерес и раздумье пробуждают в мозгу этого человека мудрого змия, – видишь ли, детка, школа штука хорошая, поверь мне… но она делает свое дело, а Ките, и Уитмен и Твен – свое, совсем другое… Таким, как они, в школе не место. Школа… школа – она академична, и те, кто учит в школе, чистые теоретики, а такие, как Уитмен… поэты… они совсем не теоретики… они… на самом-то деле они против того, чем занимаются чистые теоретики. Поэты, они… они все открывают для себя заново, сами. Поэты проникают в самую суть, а потом создают свой собственный мир… а теоретикам этого не понять, и потому их суждениям о поэтах невелика цена. – Лис помолчал, покачал головой и говорит негромко, с искренним огорчением: – Грустно! Очень грустно, что впервые мы узнаем о них в школе… но надо постараться… взять от школы все, что только можно, а когда учителя выложат все, что знают, – сейчас в его голосе и понимание, и презренье, и сожаление, – их рассуждения и теории надо забыть.
– Зна-аю! Но понимаешь, пап, когда мисс Аллеи объясняет, как они писали… она чертит на доске схемы и диаграммы, и это у-ужас! Я просто не могу»… это невозможно вынести!.. Пап, ну пусти же! – Она изгибается, стараясь вырваться, на нежном личике мучительное смущение. – Папочка, ну пожалуйста! Мне ж пора! Я опоздаю!
– А как ты поедешь?
– Ну, как всегда, как же еще.
– На такси?
– Да нет же, трамваем.
– А… каким?
– Который в сторону Лексингтон-авеню-у.
– Одна? – негромко, озабоченно спрашивает отец.
– Конечно, одна!
Он сурово на нее смотрит, лицо у него скорбно-озабоченное, он качает головой.
– А чем плохо трамваем? Ох, пап, ты такой… – Руфь изгибается, глядит куда-то в сторону, на лице улыбка мучительного смущенья. – Папочка, ну пожалуйста! Пусти меня! Я опозда-аю!
Она робко отталкивает его, стараясь высвободиться, он целует ее и неохотно отпускает.
– До свиданья, детка, – негромко, хрипловато говорит он, в голосе его и нежность, и тревога, и озабоченность. – Будь осторожна, хорошо?
– Ну конечно же! – Неловкий смешок. – Тут и осторожничать-то нечего. – И вдруг робко, тихонько: – До свиданья, папочка.
И мигом, неслышно исчезает – так гаснет свет.
Лис с тревогой и с нежностью смотрит ей вслед своими светлыми, как море, глазами, пока она не скрылась за дверью. Теперь он вернулся к столу, сел и взялся за газету.
Новости.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?