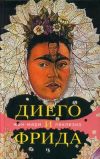Читать книгу "Вот, что вы упускаете или Видеть мир как художник"

Автор книги: Уилл Гомперц
Жанр: Зарубежная прикладная и научно-популярная литература, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Джон Констебл: видеть облака

Облачный этюд (1822), Джон Констебл
Облака и тучи подобны риелторам: у них тоже подмоченная репутация. Тучи часто упоминают, говоря о трудных ситуациях. Тучи надвигаются – значит, дела идут неважно, а уж если они над вами сгустились, вам несдобровать. Если сердишься, то рискуешь стать мрачнее тучи. Не можешь стройно мыслить? Наверняка витаешь в облаках. Потеряв все свои цифровые данные, мы тоже браним облако. Если и есть что-то приятное в облаках и тучах, так это их золотистая кромка, но и она – работа солнца. Солнце – молодец, облака и тучи – досадная помеха.
Нам внушили плохое отношение к облакам и тучам. В ежедневных прогнозах погоды они выступают в роли злодеев. Солнечные дни всегда «прекрасные», пасмурные – «тоскливые». И это прискорбно для тех, кто, как и я, живет в Великобритании. Большую часть года мы проводим в серой хмари, и только в августе выдается короткая передышка (но в эти пару недель солнце палит так, что невозможно выйти на улицу).
Что ж, такова жизнь, думал я. Но однажды, в пасмурный день, ища, где бы укрыться от непогоды, я оказался в оксфордском музее Эшмола и набрел на рисунок английского художника-романтика Джона Констебла (1776‒1837). Это был пейзаж среднего размера (48 × 59 сантиметров) на бумаге, датированный 1822 годом. Никогда прежде я не видел подобных изображений природы. На рисунке не было ни деревьев, ни рек, ни полей, ни холмов. Не было вообще никакой земли. И моря тоже не было. Только небо. Небо над Британией. Пасмурное небо! Небо, затянутое теми самыми бесформенными клочьями, состоящими из воды и кристалликов льда. Небо, на которое люди смотрели миллионы раз, но которое никто прежде не мог постичь столь же глубоко и изобразить столь же точно, как сын зажиточного мельника Джон Констебл.
Облака Констебла не мрачные и не гнетущие: они прекрасны, чувственны и выразительны. Клубящиеся облака вышли счастливыми и беззаботными, как хиппи на музыкальном фестивале. Представьте, что вы очутились за одним столом с человеком, которого всегда считали ужасным занудой, и вдруг обнаружили, что ни с кем так весело не проводили время. Так и меня изумил этот рисунок: странно смотреть на нечто столь знакомое и вместе с тем понимать, что видишь это впервые. С тех пор я смотрю на мир иначе. Благодаря облакам Констебла я изменил свое отношение к пасмурным дням: то, что казалось тоскливым, стало вызывать восхищение. Теперь я смотрю на затянутое облаками небо не с унынием, а с любопытством – чтобы увидеть постоянно меняющуюся выставку «небесных скульптур».
Констебл писал облака всех форм и размеров – от мягких барханов, пронизанных солнцем, до причудливых замесей белого и черного, серого и голубого, даже розового и коричневого. Зачастую эти небесные пейзажи выглядят так, будто их столетием позже написал в своей нью-йоркской студии какой-нибудь абстрактный экспрессионист. Но, в отличие от Виллема де Кунинга или Джексона Поллока, Констебл не писал абстракции и не пытался выразить подавленные эмоции или скрытый смысл. Он писал то, что видел. Как реалист, эмпирик, он был верен природе. Свои взгляды он ясно изложил в лекции, прочитанной в Королевском институте в 1836 году:
Живопись – это наука, и ею следует заниматься для изучения законов природы. Почему бы тогда не рассматривать пейзаж как часть натурфилософии, а картину – как эксперимент?
Констебл хотел пробудить наш разум, заставить нас увидеть то, что всегда было на виду, но примелькалось. Небом пренебрегали не только обыватели, но и художники. По мнению Констебла, они дурачили публику фальшивыми стереотипными вариациями на классические темы, не имеющими никакого отношения к действительности. Говоря о работах своих предшественников и современников, он не стеснялся в выражениях:
И сколь бы ни был возвышен их ум, и как бы ни стремились они к совершенству, воплощенному в работах старых мастеров, самобытность по-прежнему должна проистекать из природы, и, если художник не будет в процессе творчества обращаться к природе, он скоро сформирует ту же манеру и окажется в том же плачевном положении, что и французский художник <…>, который давно перестал смотреть на природу, потому что она его только раздражала. Вот уже два года я гоняюсь за картинами в поисках истины из вторых рук.
Сам Констебл решил покинуть священные стены мастерской и отбросить условности академизма, согласно которым для живописи годились лишь исторические, мифологические и религиозные сюжеты. Он вышел с масляными красками на свежий воздух, чтобы запечатлеть открывающиеся виды. Столь радикальный по тем временам шаг стал возможен благодаря переносному этюднику – ящику, в котором помещались кисти, стеклянные пузырьки с пигментами и растворителями и заранее смешанные краски в свиных мочевых пузырях. С этюдником Констебл мог располагаться и писать на природе, en plein air; изобретение этой техники часто приписывают Моне и его друзьям-импрессионистам, хотя они начали работать в ней на полстолетия позже. Французские революционеры от живописи многим были обязаны Констеблу. Они разделили его приверженность непосредственному и тщательному наблюдению за природой и продолжили его скрупулезный труд по документированию наблюдений – от мельчайших узоров на листьях до преломления света в разных атмосферных условиях.
«Облачный этюд» (Study of Clouds) производит столь сильное впечатление благодаря своей достоверности. Мы сразу понимаем, что на нем изображено: это красота явления, с которым мы сталкиваемся каждый день, но по большей части легкомысленно игнорируем. Констебл, художник выдающегося таланта, показал нам то, что мы упускали, или хуже того – чем пренебрегали.
Констебл считал, что облака воодушевляют и опьяняют куда сильнее, чем чистое голубое небо, но мало кто разделял его мнение. В начале 1820-х годов епископ Солсбери Джон Фишер, друг художника и почитатель его таланта, заказал ему пейзаж с видом своего кафедрального собора. Констебл выполнил заказ и в положенный срок с гордостью представил прекрасное полотно с величественным готическим зданием в обрамлении деревьев. Великолепный шпиль собора, словно по божественному промыслу, впивался в выразительный сумрачный небесный свод. Констебл был зачарован результатом. Но вот епископ оказался не в восторге. Едва взглянув на картину, он отверг ее и попросил Констебла написать другую, на сей раз с чистым, безоблачным небом!
Конечно, это неприятно, но так случается, если вы художник-новатор: людям требуется время, чтобы проникнуться вашей идеей. Взгляды Констебла на живопись отличались от общепринятых. Даже его знаменитый соперник, дерзкий Уильям Тёрнер, не поспевал за Джоном К. из Ист-Бергхолта. Тёрнер шел по стопам своего любимого французского барочного художника Клода Лоррена (которого, впрочем, высоко ценил и Констебл): населял пейзажи мифологическими персонажами и древними руинами, а вместо того, чтобы обращаться к реальности, использовал проверенные композиционные приемы. С этой точки зрения его масштабные полотна относились к историческому жанру, который имел более высокий статус, чем простая пейзажная живопись. Констеблу претила такая иерархия, и об академических живописцах он отзывался так: «Они предпочитают мохнатый зад сатира истинному чувству природы». И в пику Академии увеличивал формат своих картин. Если исторические полотна внушали почтение одним своим размером, почему бы не превратить пейзаж в столь же эпическое зрелище? Вместо того чтобы подчиниться правилам и писать виды сельской жизни размером с чайный поднос, Констебл начал работу над тем, что сам назвал «шестифутовиками» – картинами размером 6 × 6 футов (1,8 × 1,8 метра), настолько большими и реалистичными, что зритель не скользил по ним взглядом, но погружался вглубь.
«Телега для сена» (1821) – самая известная шестифутовая картина Констебла; он написал ее примерно в то же время, что и «Облачный этюд» из музея Эшмола. Ее любят за очарование, неподвластное времени; за то, как правдиво, без прикрас Констебл запечатлел природу Саффолка. Он с истинной виртуозностью выписал листья деревьев и свет, играющий на воде. Зрители отмечают, как эффектно играет красный цвет седельных сумок на лошадях, обращают внимание на собаку на берегу реки. Восхищаются композицией и удивляются тому, что этот вид с тех пор практически не изменился. Но мало кто отдает должное самому совершенному элементу картины – облакам.
Констебл показывает нам, как ослепительно сияют и клубятся кучево-дождевые облака, как невесомо парят перистые, как низко стелются слоистые. Ему удалось передать ощущение текучести облаков, воссоздав эффект драматичного освещения, которое создают рассеянные солнечные лучи. Согласитесь, это гораздо интереснее безоблачного неба, на котором одинокое солнце монотонно светит, перекатываясь из восточной части небосвода в западную. Но вот ветер нагоняет облака – и солнце с воодушевлением исполняет роль главного церемониймейстера всей земной жизни. Есть что-то театральное в неутомимом движении света и тени, скользящих друг за другом по земле, пока облака демонстрируют нам череду меняющихся форм, а солнце выделяет их очертания – медленно, как камера в фильмах Тарковского.
«Телега для сена» – больше чем картина о сельской жизни; по сути, это исследование света.
Пейзажист, который не делает небо существенной частью композиции, пренебрегает одним из важнейших средств. [Небеса] должны составлять активную часть композиции, и я всегда буду следовать этому принципу. Сложно назвать тип пейзажа, в котором небо не было бы «лейтмотивом», «камертоном» и главным «выразителем настроения». Небо – «источник света» в природе и правит всем.
Интерес Констебла к погодным явлениям и к тому, как облака влияют на наше восприятие, выходил далеко за пределы живописных штудий. Ему выпало жить в то время, когда рациональные научные истины пошатнули давние религиозные устои. То была эпоха Просвещения: человеческое знание начало вытеснять божественное провидение, ученые выступали с лекциями по всей стране, наука стала новой религией. В Лондоне было основано Метеорологическое общество, увидели свет первые труды, посвященные классификации облаков. Констебл жадно читал эти книги и делал на полях пометки со своими комментариями и поправками к тексту, когда замечал фактические ошибки.
«Облачный этюд» показывает, насколько серьезно художник относился к изучению вопросов метеорологии. Друзьям он рассказывал, что любил «небесную охоту» – сидеть на улице и зарисовывать постоянно меняющиеся «облачные пейзажи», которые никогда не повторяются. На каждом таком наброске он указывал дату, точное время и погодные условия, при которых тот был выполнен. Главная цель Констебла заключалась в исследованиях, а не в создании произведений искусства. Вероятно, он и не предполагал, что его наброски окажутся в музеях и галереях – ведь это были подготовительные этюды, исходный материал для будущих пейзажных полотен, таких как «Телега для сена».
Большинство своих этюдов с облаками Констебл нарисовал в Хэмпстеде. Его обожаемая жена Мария заболела (то были ранние симптомы туберкулеза, от которого она умрет в 1828 году), и доктора сочли, что ей пойдет на пользу жизнь на возвышенности. В 1819 году Констеблы оставили свое саффолкское гнездышко и переехали в зеленую деревушку к северу от Лондона. Их дом, коттедж «Альбион», стоял на краю вересковой пустоши[3]3
Ныне Хэмпстед-Хит, лесопарковая зона в границах Лондона. – Прим. ред.
[Закрыть], и Джон мог наблюдать чудесные виды, простирающиеся до самого горизонта. Именно здесь он расширил свои представления о свете и записал самую глубокую мысль о человеческом восприятии: «Мы ничего не видим по-настоящему до тех пор, пока не поймем это».
Констебл был сельским жителем и романтиком. Его восхищали эфемерные облака и призрачные радуги. Стоит отметить, что бывали случаи, когда страсть к поэтичным образам заставляла его допускать некоторую художественную вольность. В 1831 году он создал очередной восхитительный «шестифутовик» – на сей раз для старого друга из Солсбери. Констебл вновь изобразил собор со 123-метровым шпилем, который, по словам самого художника, «пронзает небо, подобно игле». «Вид на собор в Солсбери с луга» (1831) – великолепный пейзаж, который Констебл считал одним из лучших своих творений. На картине над собором перекинулась неяркая радуга. Это удачный композиционный прием, однако, что необычно для художника с научным складом ума, Констебл изобразил здесь нечто невозможное с точки зрения метеорологии. Согласно законам физики, для того, чтобы художник увидел радугу, солнце должно быть позади него, но, судя по освещению фасада собора, солнце находится на западе. Вдобавок, по словам тех, кто разбирается в таких вещах лучше меня, радуга расположена слишком низко для этого времени года.
Может быть, художник, которого уже вынуждали переписать вид Солсберийского собора десятью годами ранее, просто взбунтовался? Как бы то ни было, радуга здесь выступает и символом утихшей бури (возможно, вызванной смертью жены), и напоминанием о крепкой дружбе: ведь она упирается в дом давнего соратника художника, епископа Джона Фишера. Затянутое тучами небо производит неизгладимое впечатление: это бурлящая масса эмоций и истовости, громовых раскатов и затухающего рокота. Та самая погода, которую синоптики называют пасмурной и рекомендуют пережидать дома. Констебл отвергает такую ограниченность мышления и демонстрирует невероятную красоту и театральность облачного неба. И нам стоило бы не отворачиваться, а любоваться и восхищаться.
Фрида Кало: видеть сквозь боль

Две Фриды (1939), Фрида Кало
Фрида Кало выжила в ужасной автомобильной аварии, но боль преследовала ее на протяжении всей жизни. Боль научила ее видеть и помогла рассказать о своих чувствах в живописи, где нашлось место грусти и задору, печали и радости.
История Фриды Кало хорошо известна. В детстве она переболела полиомиелитом. Была одной из немногих девочек, принятых в элитную школу, где прежде учились только мальчики. В восемнадцать лет пережила автомобильную аварию и попрощалась с мечтой стать врачом. У нее была монобровь. В юном возрасте вышла замуж за Диего Риверу, знаменитого мексиканского художника и революционера, который был на двадцать лет старше. Он изменял. Она тоже, и одним из ее увлечений был Лев Троцкий. Вступила в Мексиканскую коммунистическую партию. Заигрывала с сюрреализмом. Умерла в сорок семь. На ее похороны во Дворце изящных искусств пришли 500 человек.
Жизнь Фриды Кало была такой же яркой, как ее наряды. О ней снимали кино, писали книги, ей посвятили множество выставок. Но не биография сделала ее знаменитой. В конце концов, яркую жизнь прожили многие из тех, чьи имена давно забыты. Культовой персоной она стала благодаря своему творчеству, которое объединяет многие поколения людей из разных уголков мира. Поклонники из Северной и Южной Америки, Европы и Азии выстраиваются в очереди, чтобы посмотреть на ее картины, наполненные аллегориями и политическими высказываниями. Ее работы находят отклик у каждого, хотя их нельзя назвать технически совершенными или ошеломительно красивыми. Вернее будет сравнить их с поэзией, воплощенной в живописи, где для душевных излияний вместо пера используется кисть.
Фрида Кало обладала необычайным видением, и она об этом знала. Когда ей было девятнадцать, она писала своему возлюбленному Алехандро Гомесу Ариасу об этой сверхъес-тественной способности – видеть то, чего не видят другие: «Теперь я знаю все, мне не нужно читать или записывать. <…> Я знаю, что по ту сторону нет ничего; если бы там что-то было, я бы увидела». Она не хвасталась – скорее сокрушалась. Всего пара месяцев прошла после ужасной аварии, превратившей Фриду из перспективного медика в начинающую художницу. Когда она возвращалась вместе с Алехандро в свой родной городок Койоакан неподалеку от Мехико, их автобус столкнулся с трамваем. Фриду пронзил металлический поручень. Она выжила – с переломанным позвоночником, раздробленным тазом и серьезными травмами внутренних органов. С того момента ее жизнь наполнилась хроническими болями и операциями. «Теперь я живу на планете боли, – писала она в том же письме, – прозрачной как лед, ничего не спрятать».
Если и было что-то хорошее в такой жизненной трагедии, так это то, что теперь у Фриды появилось особое видение, а также много времени для наблюдений и размышлений. На фотографиях, сделанных ее любовниками, и на многочисленных автопортретах, которые она писала на протяжении всей жизни, Фрида смотрит. Бесстрастное лицо, красные губы, темные волосы, едва заметные усики – и критический взгляд. Ум ее работал постоянно, и даже алкоголь не мешал ей следить за миром так же пристально, как тигр следит за ланью. Ее облик непроницаем, поза спокойна; мы не знаем, о чем она задумалась, но точно знаем, что думает она постоянно.
Ее картины рассказывают о глубоко личных переживаниях, но было бы чрезмерным упрощением считать, что они посвящены исключительно физической боли. Такая прямота не в духе Фриды Кало. В основе ее творчества лежали символизм, метафора и сюжет. Страдания из-за перенесенных травм были центральной, но отнюдь не единственной темой – скорее, они открывали путь к разговору на более широкие темы. Ее взгляд не был направлен на боль, но боль помогала ей видеть.
Чтобы понять, как она видела, полезно попытаться представить, как она мыслила. Фрида Кало превращала личное в политическое задолго до 1960-х, когда феминистки подняли этот девиз на свои знамена. Она превратила себя в символ Мексики – страны, которую она горячо любила, и мексиканцев – нации, которая искала свою идентичность, освободившись от колониального правления и оправившись после десятилетия революционных потрясений (1910‒1920). Она всей душой была со своим народом и разделяла идеи мексиканской революции и ее лидеров Эмилиано Сапаты и Панчо Вильи. На автопортретах, изображая себя раненой, но не сломленной, она олицетворяла дух свободной Мексики – пострадавшей, но не сдавшейся. Когда рисовала кровь, текущую по ее шее, проколотой терновым ожерельем, то думала о крови революционеров, пролитой в борьбе за спасение души всего народа. Создавая картину, разделенную на две половины, думала о раздираемой противоречиями стране. Ее слова, картины и наряды воспевали независимость мексиканского народа и его культуру. Вот что было главной темой. А боль стала тем объективом, через который она все это видела.
Постоянный дискомфорт раскрывал в ней особенно тонкую чувствительность к тем ежедневным мукам и радостям, которые испытывала ее родная страна. Нельзя написать боль, не почувствовав боли. Фрида Кало без боли – это The Rolling Stones без Мика Джаггера или «Маргарита» без текилы. Раны и чудеса, которые она изображала на своих картинах, раскрывали ее чувства, ее сердце, которое то билось от счастья, то разрывалось от отчаяния. Она была страстной женщиной и имела множество любовников, но ни один из них не мог сравниться с Диего Риверой, который сделал ее самым счастливым и самым несчастным человеком на земле. Однажды она сказала: «В моей жизни было две катастрофы: одна – когда трамвай разорвал меня в клочья, другая – это Диего».
Ривера уже был известным на весь мир революционером и художником в зените своей карьеры, когда приехал написать фреску в большом зале школы, где училась пятнадцатилетняя Фрида. Он взял с собой не только краски, но и пистолет – на случай, если кто-то из учеников окажется правым радикалом и попытается его убить! Стоило ему переступить порог школы, как Фрида поняла, что они станут любовниками и что она родит от него детей. Последнему не суждено будет сбыться из-за травм, полученных в аварии три года спустя, но Ривера действительно стал ее единственным мужем, а она – третьей из четырех его жен. Когда они поженились, ему было сорок три, а ей – двадцать два. Он был рослым и крепким, она – маленькой и худощавой. Они стали влиятельной мексиканской парой, их чествовали в Нью-Йорке и Париже и почитали на родине. Они принимали у себя ведущих художников, политиков и представителей мировой интеллигенции. Мексику – и до известной степени самих себя – они видели в романтическом духе. Художественно-политическое движение, которое они представляли, называлось Мексиканидад – согласно ему, Мексика должна была стать современным марксистским государством, свободным от внешнего управления и впитавшим древние мезоамериканские культуры ольмеков, майя и ацтеков.
Свои взгляды они продвигали посредством живописи и конкретных действий: в частности, через членство в Мексиканской коммунистической партии и публичное отречение от религии. Диего создавал модернистские фрески, прославлявшие новый мировой порядок – диктатуру пролетариата под руководством просвещенных коммунистических лидеров. Фрида изобразила Сталина в образе героя. Ривера вместе со своим другом Мигелем Коваррубиасом коллекционировал древние мексиканские артефакты, к которым часто делал отсылки в своих фресках. Кало превратила личный стиль в политический активизм и носила традиционные наряды женщин народа теуана – потомков доколумбовой цивилизации сапотеков, существовавшей на перешейке Теуантепек на юге Мексики. Это было одновременно и феминистское, и националистическое высказывание: Кало привлекала внимание к культуре, где женщины выражали свой экономический и социальный статус при помощи ярких платьев, юбок и блуз.
Кало и Ривера соединили древние традиции с авангардом. Мексиканский архитектор-модернист Хуан О’Горман спроектировал для них здание в стиле Ле Корбюзье из двух отдельных мастерских, соединенных мостиком на уровне крыши и окруженных изгородью из кактусов. Здание, построенное старым другом, особенно понравилось Ривере, который только что вернулся из Америки: мастерская с отдельным входом была идеальной рабочей средой для Диего, который любил заводить романы на стороне. Фрида мирилась с дурным нравом мужа и постоянными изменами, но часто и сама не оставалась в долгу. Однако был один роман, с которым она не могла смириться.
В 1934 году, через пять лет после свадьбы, Диего взял в любовницы младшую сестру Фриды Кристину. Фрида была сломлена. «Это двойное горе, – писала она друзьям. – У меня были только Диего и моя семья». Она отправилась к друзьям в Нью-Йорк и поговорила с отцом, Вильгельмом (Гильермо) Кало, – немецким фотографом, который переехал в Мексику в 1890-е годы и женился на мексиканке Матильде, матери Фриды. Фрида обожала отца, который научил ее и видеть, и представать перед взглядами (он часто ее фотографировал). Но в разговоре об изменах от него не было никакого толку. Она писала: «Мой отец замечательный человек, но он день и ночь читает Шопенгауэра и не способен мне помочь». Он разбирался в сложных философских текстах, однако не мог разобраться в личной жизни дочери и, вместо того чтобы дать какой-то совет, молча погружался в книгу.