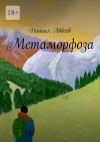Текст книги "Простая душа"

Автор книги: Вадим Бабенко
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Глава 9
Между тем, мужчина у киоска, хоть и обернулся на извинение Крамского, вовсе его не заметил, глянув мимо и сквозь. Другие люди не интересовали его теперь, он был поглощен своей собственной жгучей мыслью. Звали его Александр Александрович Фролов, он жил в доме номер один по улице Солянка. Именно из его квартиры Елизавета Бестужева вышла июльским утром почти неделю назад.
С тех пор Александр не знал покоя. Вновь и вновь прокручивал он в голове каждый миг последней их встречи, отчаянно пытаясь понять причину постигшего его несчастья, и не мог подметить ни одной тревожной детали, ничего необычного, стоящего особняком. Но несчастье было налицо, жизненное пространство стремительно уменьшалось в размерах, и весь мир, казалось, рушился вокруг.
Они не виделись больше ни разу, что не было странно само по себе – встречи и до того случались нечасто, как и положено в городе, никому не дающем вздохнуть свободно. Однако теперь он слышал угрозу в каждом звуке, видел ее следы, ощущал ее запах – и в панике не находил себе места. Между ним и Елизаветой исчезла связь, порвалась какая-то хлипкая нить, это было необратимо и навсегда. Фролов мало спал, почти ничего не ел и не мог думать ни о чем другом. Среди знакомых пронесся слух о поразившей его психической болезни, что было не так уж далеко от истины. Он, сам того не желая, подливал масла в огонь – отделывался междометиями и односложным мычанием, обрывал разговор и швырял телефонную трубку, к которой летел перед тем со всех ног. Даже и на работе в его сторону стали поглядывать странно – работник из него был теперь никудышный, что, конечно же, не могло укрыться от глаз начальства. Он думал отстраненно, что с начальством может вскоре произойти конфликт, а за ним – увольнение, крах карьеры, потеря источника средств, но не испытывал по этому поводу никаких эмоций.
Где бы он ни находился и что бы ни делал, его терзали раздумья о Елизавете Бестужевой и страх потерять ее навсегда. Их роман продолжался более полугода, и он успел поверить, что эта женщина, как ничто иное, является смыслом его однообразной жизни. Теперь смысл ускользал, уходил в песок, оставляя вместо себя пустоту, и вид пустоты был столь пугающ, что разум Александра отказывался в нее верить. Только страшным усилием воли он заставлял себя не выслеживать Елизавету у дверей ее дома и не звонить ей чаще одного раза в день, страдая после каждого такого звонка от чувства, что катаклизм набирает мощь. Порой случались просветления, отчаяние отступало на краткий миг, и Александр глядел на мир более-менее трезвым взглядом, планируя даже поступки, что могли бы положить конец унижению, в которое он сам себя ввергал. Но хватало его ненадолго, очень скоро внутри вновь начинал биться гнетущий нерв. Он метался по квартире, как больное животное, или выбегал прочь и часами бродил по улицам, пока усталость не притупляла внутреннюю боль. Таким и увидел его Николай Крамской, и прошел мимо – не разглядев, почти не заметив и не отличив от прочих.
Александр уже не вспоминал, что когда-то Лиза казалась ему простушкой, не очень опытной в сердечных делах. Он был в то время полон собой, искренне считал, что играет первую скрипку, вел себя снисходительно и чуть небрежно. Она не давала его взгляду проникать далеко вглубь, и это не тревожило его до поры, он додумывал сам то, что не умел увидеть, теша себя иллюзиями, безобидными на вид. Очень скоро, впрочем, он увлекся всерьез – разглядев в Елизавете вековое смирение сквозь коварную линзу воображения, решив, что она пылает истинным чувством, лишь чуть-чуть ускользающим из вида, и задавшись целью, словно из любопытства, разбудить в себе что-то под стать. Иллюзии сразу сделались злее, а любопытству завязали глаза и оставили плутать в потемках, ну а потом, когда он стал понимать в растерянности, что она куда нужнее ему, чем наоборот, было уже поздно. Демоны проснулись и выбрались на волю, пламя разгорелось, жаркий дурман отравлял сознание, властвуя и подчиняя. Время лишь усугубляло ситуацию – воображение было изгнано прочь как не оправдавшее надежд, и далеко не все частности казались теперь приятны взгляду. Он успокаивал себя лишь тем, что Лиза слишком скрытна, а взаимная страсть достаточно глубока – для того, чтобы связать его с нею навсегда. Уже давно он разучился перечить и старался во всем ей потакать, не умея выносить холодности и насмешек – словом, попал в зависимость, в которой сам обреченно себе признавался, не находя уже сил ни стыдиться этого, ни тем более что-то менять.
При этом, в обычной жизни никто бы и не подумал, что он способен плясать под чужую дудку. Фролов умел зарабатывать деньги и «ставить» себя с людьми своего круга, а сейчас, когда былая кастовость сошла на нет, круг этот сделался весьма широк. В него попадал любой, умевший выжить в московских джунглях, отхватывая свой кусок, но не выделяясь из общей массы – и в Александре не было ничего чересчур цепляющего взгляд, хотя он бывал забавен, всегда держа наготове острое словцо, где-то вычитанное и отложенное на всякий случай. Это даже почиталось за ум – особенно барышнями, находившими в нем интерес – и, в действительности, имело под собой систему, о которой не подозревали окружающие.
Система была проста, но тянулась корнями к проблемам высшего толка, среди которых не последнее место занимал и смысл существования вообще. Подобно множеству несчастливцев, Фролов познал очень рано страх физической смерти, неизбежность конца – и с тех пор пытался, опять же подобно прочим, найти для себя, если и не решение, то хотя бы его тень, на которой можно сосредоточить мысль в минуты, когда ужас захлестывает ледяной волной. Рецепты бессмертия, доступные широким массам, не выдерживали критики; религии, сводившие вопрос к набору популистских догм, раздражали простецкой ложью; очень скоро стало ясно, что бороться со страхом предстоит собственными силами и умом. К чести Александра, это открытие не сломило его и не заставило опустить руки, лишь чуть-чуть добавив горечи в отношения с внешним миром, к которому до того он, в общем, не имел претензий.
Борьба длилась годы и закончилась, можно сказать, вничью – по крайней мере, ни одна из сторон не достигла явного перевеса. Быстро разочаровавшись в практиках омоложения тела, Фролов обратился к субстанции духа как единственной возможной альтернативе, в которой только и оставалось искать спасение. Обещая многое поначалу, субстанция огорчала отсутствием ясных форм. Довольно скоро он понял, что на бесплотное нельзя опереться, и, еще поразмыслив, решил для себя, что единственный выход – найти в эфемерном образ материального, зафиксировать его, как твердую сердцевину, от которой потом уже можно делать дальнейшие шаги.
Задача была трудна – даже сочинители религий справлялись с ней не всегда – но любое усилие вознаграждается в конце концов, если проявить упорство и не чураться компромиссов. Так и Александр, поломав как следует голову, выбрал для себя осязаемый признак духа, а точнее его продукт, пригодный для обращения в материальный образ – во всяком случае, для начала. Таковым продуктом он постановил считать любую оригинальную мысль, возникающую непостижимо в хаотической суете нейронов, которая либо пропадает втуне и тогда бесполезна для его целей, либо поддается улавливанию и фиксации, становясь новым атомом в терпеливо создаваемой среде.
Конечно же, идея была не безупречна и вызывала вопросы, способные, при въедливом рассмотрении, погубить всякий энтузиазм. Слишком многое оставалось за скобками, в том числе и следующий шаг, который должен быть сделан, когда «среда» достигнет зрелости. Даже и с шагом нынешним было ясно далеко не все, но медлить не стоило. Никто не знал, сколько кирпичиков должно быть уложено в фундамент, чтобы создать критическую массу, и Фролов, надеясь на лучшее, решил, что настало время действовать, а не размышлять. Он стал листать энциклопедии и справочники, прислушиваться и смотреть по сторонам, отбирая, где только можно, чужие мысли, достойные рассмотрения. Он вычитывал их, подслушивал и чуть ли не воровал, хранил в памяти, зазубривал наизусть, пока не оказывался у себя дома, где наконец заносил их, непременно перьевой ручкой, в специальный гроссбух, насчитывающий уже два десятка тетрадей.
Это успокаивало и обнадеживало само по себе. Ему вообще нравился вид чернильных строк на белой бумаге. Пухлые тетради, сложенные в стопки, давали ощущение наглядно растущего объема, и, глядя на них, он всякий раз убеждался, что не бездействует и не стоит на месте. Насколько же хорош окажется итог, всегда трудно судить заранее – многие мысли казались ему странны или своевольны чересчур. Иные из них повторяли друг друга или даже противоречили одна другой, но Александр относился к этому терпимо и фиксировал их без искажений, считая, что неосторожное вмешательство способно лишь навредить. О самих же тетрадях он заботился со всем тщанием: укрывал их от пыли специальным чехлом, отмечал закладками месяцы и годы, а для каждой уловленной мысли тщательно указывал ее источник – с педантичной основательностью, достойной бухгалтера или чистокровного немца.
Основательность имела, впрочем, вовсе не бюргерские корни – дед Александра, Фрол Фролов, сын, в свою очередь, другого Фрола, был из зажиточных уральских кулаков. Он не ладил с советской властью, несколько раз бывал раскулачен, но вновь поднимался и обзаводился хозяйством – на зависть революционно настроенной голытьбе. В последний раз у него отобрали все в самом начале тридцатых, отправив вместе с женой, беременной отцом Александра, строить завод Уралмаш. Была стужа, был голод и непосильный труд, но они выжили и родили ребенка, а через год Фрол сбежал назад в деревню, где снова выстроил дом и начал богатеть. Больше его не трогали по какому-то недосмотру, он не прятался и не скрывал благополучия, ездил поздней осенью отдыхать в Сочи, а еще – любил читать Достоевского скучными зимними вечерами.
Словом, фамилию Фроловых дед продолжал достойно, но на нем природа решила остановиться и даже несколько повернуть вспять. Дело, быть может, было в неосторожно выбранных именах, но дети Фрола получились куда плоше его самого, и лучшим из них был отец Александра, тоже названный Александром по горячему настоянию матушки. Он рос задумчивым и тихим, потом, повзрослев, уехал из деревни в Свердловск, женившись там на учительнице французского, а Достоевскому предпочитал Чехова, перечитывая одни и те же рассказы по многу раз. Сам же Александр Александрович, кроме аккуратности в размещении закладок, вообще мало что унаследовал от деда, хоть был, как и тот, статен и широк в плечах, пусть и не очень высок ростом. К плечам, однако, прилагались впалые щеки и заостренный подбородок русского интеллигента, выразительные глаза казались посажены слишком близко, а в юности он был слаб здоровьем и вообще склонен к рефлексии, что для Фроловых было неслыханным делом.
Этому способствовало и то, что семья Александра Фролова-старшего, перебравшись по случаю в Москву, проживала на Бауманской, в мрачнейшем месте. Окна безликой девятиэтажки выходили на древние рабочие бараки, загаженные и наполовину сожженные – наверное за то, что призрак свободы, витавший среди них, так и не смог перерасти состояние абстрактной идеи. Там не было ни деревьев, ни травы – лишь гулкая брусчатка и асфальт, вспученный трамвайным рельсом; женщины с опущенными плечами бродили там, глотая на ходу пиво из бутылок; от всего исходил трудный запах плохой наследственности, болезней и ранней смерти. В таком ландшафте депрессии цвели пышным цветом, и Александр Фролов-младший окреп лишь к тридцати годам, уже в собственной квартире на Солянке. Решение завести гроссбух, раздвигающий горизонты, сыграло в этом не последнюю роль, так же как и монументальность его серого дома, веселая церковь по соседству и весь окрас Китай-города, благодушного и шумного, будто сохранившего до сей поры пряный опиумный дух.
Конечно, коллекционирование чужих мыслей происходило не беспорядочно. В нем случались периоды определенной тематики – Александра захватывало на время какое-то явление или просто слово, которым оказывались созвучны записи текущей тетради. Последний его интерес до знакомства с Бестужевой был связан с перипетиями великих войн, так или иначе волнующих душу любого мужчины. Он часто бормотал вслух что-то полюбившееся – к примеру, «на войне все просто, но самое простое в высшей степени трудно» или еще «война состоит из непредусмотренных событий», что в свое время подметил Наполеон. Ну а потом в судьбе случился поворот – непредусмотренное событие, подброшенное отнюдь не войной: Елизавета вторглась в его реальность, быстро вытеснив из головы все остальное. И он теперь, хоть и черкал в своих тетрадях, делал это скорей по привычке, нежели из прежнего деятельного порыва.
Порыв заметно поугас, когда Александр попытался рассказать о нем Бестужевой – в немалой степени для того, чтобы прибавить себе очков, ибо как раз тогда в их отношениях наметилось отсутствие паритета. К несчастью, он выбрал плохой момент – Елизавета была не в духе и подумала было, что Фролов кичится и задирает нос, намекая на ее собственную недоученность, о которой она задумывалась иногда, слыша незнакомые слова. Ей захотелось немедленно отомстить, и она поведала ему в ответ о первой своей любви, Тимофее Царькове, чуть сгустив краски в той части, что касалась плотских утех, и намекнув зачем-то на особенности индивидуальной анатомии. Это чрезвычайно его удручило и надолго выбило из колеи, а Елизавету позабавило и только. К тому же и анатомия не имела для нее значения, а если уж вспоминать Царькова и лучшие любовные минуты, то наибольшее удовольствие она получала, когда тот доводил ее до крайности возбуждения, умело перебирая пальцами позвонки в нижней части спины.
Этим, понятно, она не могла поделиться с Александром, как деталью слишком интимного свойства, и тот так и не оправился от удара, вызванного ее легкомысленным намеком. Тогда же он стал замечать, что его чувства выходят из-под контроля, превосходя по накалу совокупность ее эмоций, из которых на его долю достается, увы, немного. Мало-помалу, он терял интерес к остальному, сутки его и недели распались теперь на периоды ожидания – следующей встречи, следующего звонка, следующего благоприятного знака. Он заставлял себя верить, что их связь становится все прочнее, и Бестужева привязывается к нему сильней и сильней. Что уже совсем скоро она не сможет без него обходиться, а потом отважится наконец по-настоящему его полюбить. Не раз и не два он порывался сделать решительный шаг, отчаянную попытку заполучить ее всю, но свободолюбие Елизаветы охолаживало его пыл. Фролов понимал, что именно первый выстрел имеет куда больше шансов на успех, чем все последующие, даже если им позволено будет случиться. Потому он выжидал, проявляя терпение, достойное античного стоика, хоть в крови у него полыхал жар, и на душе становилось невыносимо при каждом расставании после короткой ночи.
Теперь, когда все летело в пропасть, сил Александра хватало лишь на то, чтобы удержать себя от глупостей необратимого свойства. Больше всего на свете ему хотелось подкараулить Елизавету в любом из посещаемых ею мест и вызвать на откровенный разговор, но это, он понимал прекрасно, скорее всего приведет к окончательному разрыву. Любой неосторожный жест грозил стать роковым – и он держался вдали от ее маршрутов, которые давно знал назубок. Он бродил, как призрак, по пыльным улицам – хватаясь за телефон и тут же пряча его в карман, запрещая себе даже и думать о внеочередном звонке, страшась ненароком еще больше испортить то, что, он чувствовал с тоской, уже едва ли можно было испортить.
Сейчас, правда, маршрут его был осмыслен и имел определенную цель. Александр шел на встречу с Машей Рождественской, о которой условился накануне. Настало время крайних мер – ни его неприязнь к Марго, ни боязнь выставить себя в смешном свете не имели больше значения. Конечно, в телефонном разговоре он старался не выдать обреченности, с которой сжился за последние дни, но Маша поняла сразу, что Фролов цепляется за соломинку, и сама предложила встретиться в тот же вечер, не откладывая надолго. В другой раз она обязательно проговорилась бы Елизавете – из врожденной стервозности и еще из желания рассмотреть драму с разных сторон – но сейчас, будучи обижена на компаньонку за вопиющую скрытность, решила завести свой собственный секрет. Пусть и у нее будут тайны от Бестужевой, явно задравшей нос, да и к тому же Александр был мужчина не из последних, а Маша, хоть и презирала мужчин в целом, все же не могла отрицать, что они объективно существуют и бывают очень даже нужны. Конечно, сейчас от него было мало толку, он до сих пор еще оставался собственностью Елизаветы, что она безошибочно определила по слишком бодрому его тону. Но обстоятельства имеют свойство меняться, и тут, было видно по всему, надвигались большие перемены.
Они встретились у Белорусского вокзала, в кафе, стилизованном под поезд-пульман. Это очень напоминает что-то, – сказала Маша будто в рассеянности. Что же, что же?.. Ах да – она видела совсем недавно железнодорожный билет на столе у Лизы!
Ну вот, – подумал Фролов, мертвея лицом, – вот все сразу и прояснилось. Он старательно поддерживал разговор о ерунде, уставившись в стакан с зеленым чаем. Стакан был старого образца, в массивном серебряном подстаканнике, что также развивало железнодорожную тему в соответствии с замыслом дизайнера.
Александр почти уже не сомневался: она уезжает навсегда. Тут же явилась вдруг мысль о Царькове – как непрошенная, леденящая душу разгадка. Что ж, и анатомия на его стороне, – думал он убито. – Говорят, женщины не могут этого забыть. И шансов нет, никак не поспоришь.
«Многие катастрофы случались точно по расписанию, – произнес он вдруг, прервав Машу на полуслове. – Прости, Марго, что-то я задумался невпопад».
«Ты это сам придумал?» – удивилась Маша. Потом накрыла его руку своей, заставив посмотреть в глаза и спросила мягким голосом: – «Что, все так серьезно?»
«Да», – сказал он только, пожав плечами. Она не стала его утешать, понимая, что помочь тут нечем, но потом предложила все же разузнать поточнее и известить его непременно, потому что неизвестность, знает каждый, есть худшая из пыток.
«Ты пойми, – вновь взяла она его руку, – женщины бывают совершенно бессердечны».
«Да», – откликнулся Фролов все тем же единственным словом, искривив губы ухмылкой проигравшего, и Маша, озадаченная слегка, пообещала сделать все, что сможет. Было ясно, что вокруг компаньонки закручивалась нешуточная интрига – и ей самой уже казалось невыносимым оставаться в неведении.
Глава 10
На свое путешествие в Россию Фрэнк Уайт Джуниор возлагал большие надежды. Конечно, поиск пугачевского клада оставался главнейшей из целей, но были и другие, греющие душу и волнующие кровь. Не все из них годились для обсуждения с Акселом или Нильвой, так что Фрэнк был весьма уклончив, уходя от расспросов и навязываемых ему советов. В то же время, к планированию поездки он отнесся с надлежащей серьезностью.
Первую неделю он решил провести в столице – отдавая должное воспоминаниям, пусть и поблекшим за последние годы. Впрочем, ностальгия была лишь ширмой; чего ему хотелось на самом деле – так это позабыть обо всех целях и познать беспечность в полнейшей мере, бросившись с размаху в водоворот эмоций, на которые Россия должна быть по-прежнему щедра. Фрэнк хотел увлекаться и пьянеть, разочаровываться и впадать в отчаяние, восхищаться, страдать, тосковать и жалеть себя – запасая на годы вперед страстей и душевных драм, которых так недостает в его размеренной американской жизни. Теперь, на шестой день своих московских «каникул», он отмечал с мрачным удовлетворением, что справляется с задачей неплохо. Переживаний было накоплено в достатке – казалось даже, что на еще одну порцию может не хватить места.
Фрэнка Уайта мучило похмелье, а в некоторой степени – и раскаяние. Он чувствовал себя свиньей, и это чувство не было почему-то ни тягостно, ни стыдно. Напротив, оно казалось на удивление созвучно окружающей среде – Фрэнк ощущал всей кожей, как притягательно безобразие вообще, и понимающе усмехался, подперев ладонью небритую щеку в ожидании первой за день «кровавой Мэри». Даже к похмелью он в общем-то притерпелся, испытывая его каждое утро. Как случается почти со всеми, он признал после недолгой борьбы, что русские привычки жили в нем всегда и лишь ждали своего часа, прикрываясь умеренной заокеанской позой. По вечерам он напивался пьян, с удовольствием представляя себя пропащим, сползающим в бездну. Обводя мир помутневшим взглядом, вслушиваясь в какофонию жизни, глядя на собственное отражение в многочисленных ночных зеркалах, он удивлялся, но не корил себя. Часть разума, всегда остающаяся трезвой, подмечала, что весь угар – не более, чем аттракцион, карусель, которую остановят через заданный срок. И можно будет сойти – пусть на ватных, подгибающихся ногах.
Главным номером московской программы был, впрочем, не алкоголь. Еще принимая от Нильвы ксерокопию секретного плана, складывая ее вчетверо и пряча в карман пиджака, Фрэнк почувствовал, что сердце его екнуло от мыслей совсем не кладоискательского толка. В последние же дни перед отлетом он и вовсе перестал скрывать от себя, что предстоящее приключение то и дело обращается грезами о русских женщинах, ждущих за океаном. Этому способствовали и память о школьной подруге, расстаться с которой пришлось столь внезапно, и откровения Аксела Тимурова, любившего похвастаться былыми победами, число которых выходило несметным даже с поправкой на приблизительность счета. Книги тоже внесли свою лепту – не имея привычки читать помногу, Фрэнк успел-таки потребить свою порцию русской литературы, что, понятно, не могло не сказаться на его представлениях о российских девах, равно как и о женской природе в целом.
Быть может поэтому, в упрощенном американском быту, искусственная почва которого не питает чувствительные натуры, он терпел с соотечественницами одну неудачу за другой. Так было в университете, так продолжалось и потом, доходя порой до смешного, но вызывая невеселые мысли. Фрэнк мог припомнить лишь два более-менее удачных опыта – однако и в них партнерши, которых трудно было назвать возлюбленными, в конце концов покинули его сами по прошествии года или около того. Одна предпочла вульгарной мужской любви подружку по колледжу, которую так и не смогла забыть, а другая просто переехала в другой штат, найдя работу, приносящую больше денег. С тех пор его личная жизнь была настолько бедна, что о ней не хотелось вспоминать. Дошло даже до ночных поллюций – он отчаянно их стеснялся, как подросток, еще не расставшийся с прыщами, и подумывал порой с горьковатой иронией, не прикупить ли себе резиновую красотку, с которой может быть удастся поладить.
Понятно, что на подобном фоне мысль о России вызывала мощный гормональный выброс. Ему грезились крупные женщины с русыми волосами, сероглазые дивы гордой славянской стати, изящные брюнетки и их хрупкие плечи, как у любимой когда-то Наташи, или зеленоглазые блондинистые кошки, коготки которых столь игривы и царапают совсем не больно… Он представлял их в урочные и неурочные часы, видел во снах и сокрушенно вздыхал, пробуждаясь, а в самолете, не в силах справиться с нетерпением, осматривался украдкой, как воришка, будто пытаясь по первым кадрам представить все обещанное кино. Даже стюардессы, чистокровные американки, казались ему уже представительницами иной породы, не той, что осталась за линией демаркации, где витает пуританский дух. Одна из них явно была из глубинки, где нравы попроще, чем на побережьях. В ее мясистом лице Фрэнку чудилось что-то из стыдных снов, и он, набравшись храбрости, заговорил с ней, стараясь держаться по-свойски, что не очень хорошо ему удалось. Девушка, впрочем, улыбнулась с охотой, назвала свое имя – Ширли – и даже наверное ждала продолжения, поблескивая подведенными глазами, но он не хотел от нее ничего, исчерпав уже запас смелости, да и не имея, по правде, особого к ней интереса.
Потом, в аэропорту, дожидаясь багажа, он рассматривал пассажирок и их угрюмых спутников, в отеле, забывшись, глазел в упор на смазливую, бойкую ресепшионистку, а едва разобрав вещи, нацепил темные очки и вышел на улицу, уверенно свернув к городскому центру. Москва встретила его жарой и вонью выхлопных газов. По тротуарам текла пестрая толпа, Фрэнк затесался в ее середину, стараясь не вертеть головой и слиться с окружающей средой. Он шагал не спеша, насыщаясь деталями, жадно сличая действительность с ворохом недавних фантазий, казавшихся теперь бесполезными и смешными.
Все было так и не так, улица пахла по-другому, иначе, чем в школьной юности, и женщины оказались не такими, какими он их себе представлял, хоть и замечательными по-своему. Среди них не было красавиц, а попадались, прямо скажем, и откровенные дурнушки. Фрэнк Уайт с удивлением отмечал безвкусицу и фальшь, неумелый макияж и плохую одежду, что бросались в глаза даже ему, не привыкшему судить о подобных вещах, но потом перестал присматриваться к несущественному и принял как факт, что они все равно прекрасны – ибо не имел намерения считать иначе. Они расцвечивали пространство, как яркие пятна на грязно-сером, стремясь как будто развеять уныние неопрятных красок. Ему хотелось расправить плечи и помочь им в этом – или хотя бы ободрить, дать понять зашифрованным жестом, что он все видит и ценит. В их лицах он силился различить беззащитность невинных жертв – это могло бы кое-что объяснить и примирить со многим. Он представлял себя тут же сильным и смелым, и способным на большее, чем мог бы подумать о нем любой – особенно в собственной его стране, где никто не признавал себя жертвой и не искал сочувствия в других. Фрэнк будто даже сделался выше ростом – по крайней мере, так казалось ему самому – и неважно, что там было на самом деле с этими девицами, бредущими навстречу, и какое разочарование ожидает постороннего, если поддаться искушению и узнать их получше.
«У русских женщин хороший аппетит, и еще они все время беременеют, – говорил с чуть наигранной ленцой один из знакомых, вернувшийся из России, и добавлял, понимающе глядя на отчаянно краснеющего Уайта: – Да, в этом сила, это – качество генотипа и потенциальная мощь нации!»
Знакомый был ему неприятен, но слова о потенциальной мощи запали в душу. В них чудился непознанный мир, и Фрэнк подсознательно искал разгадок. При этом, он не собирался предаваться одним лишь мечтам, хорошо помня, что времени у него в обрез, и не стоит тянуть с шагами практического свойства. Ему хотелось познакомиться с совсем простой девушкой – продавщицей или официанткой, секретаршей, фабричной рабочей. За два часа, что он провел на центральных улицах, ему встречались не раз и не два занятнейшие экземпляры, наверняка стоящие того, чтобы восхититься, воспылать, быть может отчаянно полюбить. Фрэнку Уайту нравились высокие женщины, большие тела и тяжелые бедра, взгляд с поволокой и наив дешевых духов. Он видел в этом бездны нерастраченной страсти; не верилось даже, что столько может достаться одному мужчине – плоти, нежной кожи, запахов, вздохов… Он робел и мялся, потом вновь набирался решимости, но так и не заставил себя с кем-то заговорить и в конце концов трусливо бежал, укрывшись в ресторане аляповато-купеческого толка, чтобы взять паузу и перевести дух.
Пауза оказалась кстати: после сытного обеда, за которым Фрэнк не удержался и выпил две рюмки водки, чтобы обмануть джет-лэг, он приступил-таки к действию – и потерпел полное фиаско. В жаркий летний день на него пахнуло холодом заснеженной степи и равнодушием больших пространств. Он был чужд и неумел, язык его заплетался от непривычки к спиртному, от него шарахались и в недоумении глядели вслед. Очень скоро ему стало ясно, что русские женщины умеют отказывать в знакомстве почище американок. В их чертах стали вдруг проглядывать жесткая сила и грубость души, он успел заметить, что и руки у некоторых из них неухоженны и грубы, и похожи на руки прачек, как он их себе представлял, пусть и не видел никогда. Что-то было не так с его картиной мироздания, это беспокоило и удручало. Фрэнк стал даже подозревать, что разгадки, которые он ищет, тоже будут полны подвохов – если ему случится до них добраться.
Обескураженный и уставший, он напился вечером в гостиничном баре и отправился в номер нетвердой походкой одинокого командировочного, прожившего еще один бесполезный день. На пути к лифту ему встретилась стайка ночных фей, разодетых как яркие бабочки, с цепкими глазами молоденьких волчиц. Они окликнули его, сначала по-русски, а потом и на неплохом английском, но он смешался и потрусил прочь. Тут же мелькнула мысль, что уходит еще один прекрасный шанс – девушки были веселы, свежи и вовсе не походили на падших созданий, опустившихся на самое дно. Но Фрэнк напомнил себе о болезнях, кражах и прочих ужасах, поджидающих потребителей платной любви, и уснул в пьяных грезах, ощущая всей душой горькое несовершенство мира.
На следующий день многое повторилось, но уже как будто с другим Фрэнком Уайтом, повзрослевшим и сбросившим розовые очки. Праздник кончился, начались будни; сознание, мучимое похмельем, порождало трезвейшие мысли. Глядя по сторонам, Фрэнк чувствовал себя до обидного равнодушным, бесстрастным. Действительность потускнела, как волшебный фонарь при свете; стали видны частности, выдающие неумелую хитрость. За обедом он пил теперь не водку, а пиво, и долго сидел в пустом зале, глядя в окно, сожалея, что официантка толста и нелюбезна. Ему казалось, что завеса приподнимается понемногу, а в двери видна уже замочная скважина – осталось лишь подобрать нужный ключ. Потом он вновь бродил по городу – свернув на этот раз не к центру, а к бульварам, заплутав в арбатских переулках и вернувшись к Тверской по пыльному и шумному Садовому кольцу.
Знакомства в этот день опять не получилось – хоть прогресс, казалось, был налицо. Его почти уже воспринимали всерьез и, как знать, быть может ему и улыбнулась бы удача, если бы он сам не терял вдруг веру в себя под смешливым взглядом, полным нехитрого кокетства. Фрэнк добрел до отеля, пребывая в задумчивости, рассеянно поднял с пола газету, подсунутую под дверь, и сразу наткнулся на рекламу эскорта, что красовалась на заглавной странице. Сердце его забилось гулко, он упал ничком на кровать, махнул рукой и выругался по-русски, зная уже, как проведет сегодняшний вечер.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?