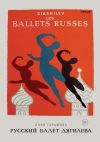Автор книги: Вадим Гаевский
Жанр: Музыка и балет, Искусство
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
ГЕРШЕНЗОН: Теперь второе пояснение, касающееся того, почему я считаю, что сегодня, в 1997 году, Баланчину нет места в Мариинском театре. Год назад, в 1996-м, мы могли отметить круглую дату – десять лет с начала регулярных гастролей Мариинского балета на Западе (до этого зарубежные гастроли Кировского балета были эпизодическими) и десять лет с момента публикации в Dance Magazine обзора Джоан Акочеллы, которая первой диагностировала кризис не только Мариинского, но и советского балета вообще: «С великого русского авангарда урожай снял Запад – Россия осталась ни с чем…»[47]47
Acocella J. The Kirov Ballet in America // Dance Magazine. Vol. 60. № 9 (September 1986). P. 54—61.
[Закрыть] Прошло ровно десять лет с того момента, как Мариинский театр фактически поменял свою природу, превратившись из театра стационарного в театр кочевой, из театра субсидируемого – в театр зарабатывающий, чьи основные доходы связаны с гастрольной коммерческой деятельностью. Это, пожалуй, единственная балетная труппа мира, которая, будучи по своей истории, художественной идеологии и специфике репертуара стационарной (придворный балет не предназначался на вывоз), функционирует и осознает себя сегодня как гастрольное предприятие.
Гастрольный синдром
Если быть точным, кочевая болезнь поразила сознание Кировского балета гораздо раньше. И причина этого – тот социопсихологический феномен, который возник сразу после войны, когда вместе с демобилизованными солдатами и офицерами, трофейными цвингеровскими шедеврами, мейсенским фарфором и блютнеровскими роялями на закрытую территорию СССР просочилась фантастическая информация о реальной бытовой жизни завоеванных (или освобожденных) территорий[48]48
«В походах по Германии и Франции наши молодые люди ознакомились с европейской цивилизациею, которая произвела на них тем сильнейшее впечатление, что они могли сравнивать все виденное ими за границею с тем, что им на всяком шагу представлялось на родине: рабство бесправное большинства русских, жестокое обращение начальников с подчиненными, всякого рода злоупотребления власти, повсюду царствующий произвол, – все это возмущало и приводило в негодование образованных русских и их патриотическое чувство» (Фонвизин М. А. Сочинения и письма: В 2 т. Иркутск: Восточно-Сибирское изд-во, 1982. С. 182).
[Закрыть]. Сравнив то, что они увидели в Европе (ведь в руинах было далеко не все), с тем даже не образом, а способом жизни, который вели они сами, завоеватели почувствовали себя униженными и оскорбленными[49]49
Все детство я слышал эти волшебные сказки, которые рассказывал мой дядя, проехавший в танке по всей Европе. Главными определениями, описывавшими европейскую жизнь, были «богатство» и «чистота», а самым невероятным описанием – сцена ужина в немецком доме, где расквартировались советские офицеры. Ужин был скромным, но на белоснежной крахмальной скатерти, с фарфором, столовым серебром и хрустальными фужерами. После ужина освободители вышли на крыльцо покурить. Хозяйка-немка молча завязала скатерть вместе с серебром, фарфором и хрусталем в огромный узел и выбросила все в мусорный бак.
[Закрыть]. Сверхчеловеческое физическое, психическое и духовное напряжение четырех лет войны разрядилось грандиозной депрессией, принявшей экзотические формы. Развлекались кто как мог. В простонародном этаже – балаган: знаменитые «вечера танцев» в плодившихся как грибы после дождя окружных домах офицеров, куда офицерские жены и любовницы надели трофейные шелковые комбинации, приняв их за вечерние платья. В аристократическом бельэтаже генералов и адмиралов начиналось высокое искусство – опера-балет. Я уверен, что в 1948 году на премьере «Раймонды» зал Кировского театра пафосом и орденоносным блеском впервые за советскую историю сравнился с бриллиантовым блеском Императорского Мариинского театра. Банкеты в «Европейской», примадоннские апартаменты в шикарном доме на углу Невского и Малой Морской (Когда-то эта квартира принадлежала к этому времени репрессированному академику Вавилову), ночные оргии еще в одной балеринской квартире, рядом с Адмиралтейством.
Никогда не забуду парадный фотопортрет в тяжелой раме, который я увидел лет двадцать назад в квартире балерины Вечесловой. Он поразил меня и много чего объяснил про время, когда был сделан. Хозяйка снята в задорно сдвинутой на затылок парадной фуражке высшего морского офицера и парадном же офицерском кителе, небрежно наброшенном на обнаженные мраморные плечи так, чтобы выгодно продемонстрировать прекрасную обнаженную грудь (это было последнее поколение балерин, у которых грудь была). Если бы я не знал, когда сделан этот портрет, я подумал бы, что его прототипом послужила знаменитая сцена из «Ночного портье» с Шарлоттой Ремплинг – новой Саломеей в фуражке и галифе офицера СС, заунывно выводящей голосом Марлен Дитрих: «Wenn Ich Mir was wünschen dürfte». Но скандальный фильм Лилианы Кавани снят много позже, и, честно говоря, я не ожидал подобного рискованного вкуса от ленинградских постблокадных 1940-х. Но это и есть стиль «поздний Сталин» в его неофициальном варианте – голая Вечеслова в адмиральском кителе (вариант официальный – киноактриса Марина Ладынина в норковой горжетке на фоне первой московской высотки на Котельнической набережной). Это тайный портрет поздней сталинской элиты – богемный союз генералитета, чекистов и комедиантов[50]50
Примабалерина Большого театра Ольга Лепешинская, как известно, была замужем за начальником Генерального штаба Алексеем Антоновым.
[Закрыть] – и, между прочим, тайный портрет ленинградской балетной школы в ее «вагановские» времена, и даже в каком-то смысле портрет самой Агриппины Вагановой, эксбалерины Императорских театров, хорошо знавшей, что такое контакт (и контракт) с властью – любой властью. Это лучшая иллюстрация к теме, которую мы с вами обсуждаем вот уже десять лет, – балет и власть. В этом портрете есть все: эротика балета, принадлежащего власти и властью весело управляющего, и эротика власти, так притягивающей балет.
Но это слишком пряный деликатес, он не предназначен для длительного хранения, его надо съесть быстро, иначе протухнет. Генералы и адмиралы съели что смогли, Сталин умер, армию и флот демобилизовали, балет стал потихоньку киснуть (известно, как осточертели Дудинской и Сергееву местные поклонники-балетоманы; им хотелось новых лиц, свежего дыхания, нового пространства), и уже к середине 1950-х ленинградская балетная жизнь напоминала подозрительно разбухшую консервную банку с просроченным содержимым, которая грозила в любой момент взорваться. Она и взорвалась. В 1961 году, когда Гагарин скомандовал всей стране – «Поехали!» Балетные поехали первыми. Кировский балет – в Париж[51]51
«Все в Париже было нам в новинку, все удивляло и возбуждало, мы чувствовали, что нам невероятно повезло. Латинский квартал, студенческие демонстрации, музеи, бульвары, кафе, Эйфелева башня, магазины – все приводило в восторг» (Нижинская Б. Ранние мемуары. М.: Артист. Режиссер. Театр, 1999. Ч. 2. С. 12).
[Закрыть]. Чем закончилась «поездка»[52]52
«Поездка» – одна из главных мировоззренческих категорий балетной труппы Мариинского театра.
[Закрыть], известно. Побег Нуреева – сюжет, отшлифованный бульваром до состояния морской гальки, его нет смысла обсуждать, кроме одного аспекта: двадцатитрехлетний парень гениально распорядился своей жизнью и сумел навязать ее всем – здесь и там. Там – потому что, кроме безобразного образа балетной «дивы», сумел навязать и безобразные редакции балетов Петипа, ставшие сегодня в Европе культовыми и единственно возможными; здесь – потому что Нуреев грубо и ясно означил для ленинградской балетной элиты главную экзистенциальную (она же художественная) дилемму – «ехать или не ехать». И каждый вынужден был решать ее по-своему. Макарова и Барышников – рискнули. Соловьев не рискнул – и застрелился[53]53
Как-то раз по ТВ показали фильм про знаменитого ленинградского танцовщика Юрия Соловьева, покончившего жизнь самоубийством 12 января 1977 года. Рассказывали балерины, его бывшие партнерши. Как это водится в таких случаях, говорили балерины в основном о себе. Единственной, кто говорил о нем, Соловьеве, была Наталья Макарова, ленинградская балетная эмигрантка. Съемки проходили в ее нью-йоркских апартаментах на East Side. За окнами дорого шелестел Центральный парк. Макарова откинулась на спинку рекамье: «Юра, Юра, Юра… Наш летающий Гагарин…» – что-то в этом роде, с чувством, от которого мурашки побежали по коже. И заплакала. Горько, побабьи. «Бедный Юра… Как он хотел уехать… Но не рискнул… А я вот… – тут ее взгляд выразительно и тревожно скользнул по антикварным фактурам апартаментов, выпорхнул на террасу и полюбовался фантастическим видом на Центральный парк. – А я, вот, рискнула…»
[Закрыть].
Но это крупные экзотические рыбы, а есть рыбки мелкие, серые, не склонные к пафосным жестам, – балетный планктон, обыватели из корифеев и кордебалета. Мещане. Эти рисковать не собираются. Как-то один балетный человек с раздражением прошелся по поводу Нуреева, Макаровой, Барышникова, обвинив их во всех бедах Кировского театра в 1960–1970-х годах. На мое удивление он среагировал жестко: «А вы знаете, что творилось в Кировском театре после этих побегов? Ведь здесь остались люди! И к людям пришли гэбисты!» Хорошо представляю себе эти ужасные картины и очень сочувствую[54]54
Несколько лет назад я позвонил ленинградскому балетному критику Валерии Чистяковой, автору замечательной книжки «Ролан Пети» и приятельнице Михаила Барышникова, которую, как говорят, после его побега затаскали по Большим домам. Я хотел пригласить ее в Мариинский театр уже не помню на что: «Молодой человек, я не была в вашем театре двадцать пять лет. И не буду еще столько же».
[Закрыть]. Однако замечу, что балетный планктон, тот самый цыпленок, который тоже хочет жить, усвоив уроки великих мастеров, избрал свою – и вполне гениальную – стратегию поведения. Вот ее формула: быть там, оставаясь здесь. Именно быть – не жить. Эта формула не предполагает радикальной эмиграции с ее неизбежной депрессией, борьбой за выживание и, в частности, с необходимостью кардинальной смены модуса профессионального поведения (Макарова «там» уже не позволяла себе валиться с фуэте, что в Ленинграде было для нее нормальным). Эта формула предполагает пребывание – максимально долгое (гастроли длились по полгода), максимально мягкое (с «суточными», играющими роль гонорара, бесплатными завтраками, обедами и сохранением зарплаты на стационаре), весьма приятное (веселая толкотня в универмагах, художественные экскурсии – своего рода форма бесплатного туризма), – но врéменное. И главное, эта формула не предполагает никакой ответственности за собственную жизнь, на чем, в сущности, и воспитаны все советские люди. Не надо резких жестов, главное – «поехать в поездку». Стремление попасть в «гастрольный список» стало манией, которая на полвека определила поведенческий архетип советских балетных артистов и которая сегодня, в силу радикально изменившихся социополитических обстоятельств, превратилась в чудовищный анахронизм, в психоз[55]55
Конечно, я рискую впасть в мелочность, но как иначе, если не психозом, назвать поведение почтенных дам и господ, которые, имея здесь вполне приличное жалованье, приличные (даже по американским стандартам) квартиры, машины, дачи, имея по два загранпаспорта, отчаянно интригуют при составлении тех самых заветных «гастрольных списков» и дележе перспективных (то есть «выездных») учеников, – все для того, чтобы «поехать в поездку», чтобы длить и длить свое присутствие «там». И когда в балетных коридорах кто-то случайно произносит имя члена Бюро Ленинградского обкома, Героя Соцтруда, Народной артистки СССР Ирины Александровны Колпаковой, тихо исчезнувшей в Америке в начале 1990-х, ее сверстники, одноклассники и бывшие коллеги нервно вздрагивают. «Они бесятся, потому что она живет там каждый день», – съязвил балетный острослов.
Помню, какое нескрываемое раздражение старшего поколения педагогов-репетиторов Мариинского театра вызвало появление в репертуаре балетов Баланчина («у нас собственные ценности») и как внезапно все эти люди умолкли, когда стало известно, что Баланчин «едет» (на гастроли). Следовательно, вместе с «Баланчиным» поедут и они – со своими учениками. В обозе. И не важно, что обучить учеников этому самому «Баланчину» они ну совершенно не в состоянии.
[Закрыть].
И не было бы смысла еще раз ворошить это грязное белье (кража губной помады в универмагах, кипячение сосисок в унитазе, отправка на родину ящиков с унесенными из ресторана яблоками), если бы во имя реализации «формулы мечты» не началось то, что я назвал бы структурной и визуальной деградацией репертуара Мариинского театра. Началось тотальное приспособление базового (классического) репертуара к экономной и мобильной гастрольной жизни, упрощение и облегчение декораций (сравните фотографии премьеры «Спящей красавицы» в 1952 году с тем, что сегодня Мариинский театр выдает за Вирсаладзе), сокращение так называемых длиннот, под определение которых подпали пантомимные сцены и целые фрагменты хореографических ансамблей (куда делись Пролог и фантастическая лесная сцена в «Дон Кихоте»; куда пропала сцена с вязальщицами из первого акта «Спящей красавицы»; где фрагменты кордебалетных танцев и вариации корифеек в Оживленном саду «Корсара»?) – началась деформация поэтики русских классических балетов XIX века. К. М. Сергеев, собственноручно сделавший первые купюры в собственных версиях балетов Петипа, а за ним и все остальные соглашались на любое варварство, лишь бы запихнуть спектакль в контейнер[56]56
При организации зарубежных гастролей мелких институций типа Korol’kov-Bruskin-Tachkin-Ballet в ходу следующий вопрос, обращенный к импресарио: «Вам какое „Лебединое озеро“ – на один или два автобуса?»
[Закрыть], лишь бы уложиться в стандартную длительность представления, установленную суровыми западными профсоюзами, – лишь бы «поехать в поездку».
Последствия этих метаморфоз очевидны: Кировский балет стал театром купированного художественного сознания, фрагментарной памяти, театром фальшивой истории. Но самый печальный итог гастрольного синдрома заключается в том, что Мариинский театр стал художественным иждивенцем. Театр сообразил, что балеты XIX века – это товар, и сразу попал в ловушку: жесткий раздел международного балетного рынка оставил Мариинскому балету унизительно узкий ареал деятельности – так называемый russianballet – три-четыре названия из репертуара Петипа – Иванова – Горского, востребованные домохозяйками всего мира. И театр капитулировал, согласившись с навязанным имиджем и правилами игры. Конечно, волки сыты, но вот целы ли овцы? Ведь в жертву принесена свобода художественного выбора и художественного поведения. Мариинский театр уютно разместился на обочине мирового хореографического процесса, закрепив за собой статус регионального этнографического искусства – что-то вроде индийского классического танца или пекинской оперы…
ГАЕВСКИЙ: Знаете, мне трудно вам возражать и нелегко с вами соглашаться, потому что я сам страдал манией заграницы – и вовсе не затем, чтобы, оказавшись там, зайти в первый же книжный магазин и купить не издаваемого тут Мандельштама, а для того, чтобы попасть в «Галери Лафайет» и привезти что-нибудь для гардероба моей жены.
ГЕРШЕНЗОН: Как сказала бы незабвенная Нина Андреева: и ради этого вы могли бы поступиться принципами?
ГАЕВСКИЙ: Если бы мои принципы кого-либо интересовали и я мог ими торговать, то, может быть, и поступился бы. В СССР кое-кому удавалось прожить незапятнанную жизнь, и объяснялось это только тем, что обстоятельства жизни складывались для них фантастически удачно. Но это невеселые шутки, а если по существу, что, вообще говоря, означало возрождение мещанского сознания в нашей жизни? Оно несло в себе скрытый протест не только против нашей бытовой жизни, но и против нашей официальной идеологии, недаром мещанство еще с 1920-х годов клеймилось на всех уровнях – даже великими Мейерхольдом и Маяковским, так как их жизненный путь какое-то время был связан с официальной идеологией (но подробно говорить об этом здесь не место). А в конце 1950-х годов… Помните, как назывался самый популярный и самый значительный театральный спектакль, шедший тогда в Ленинграде? «Мещане», поставленные Георгием Товстоноговым в БДТ, что тут же вывело БДТ на положение первого театра нашей страны. Сказать, что Товстоногов был мещанином, а этот спектакль – апологией мещанства, конечно, нельзя. Но это было защитой семейных ценностей, человеческих ценностей, тех ценностей, которые в течение многих лет объявлялись мещанскими и которые действительно несли в себе некий мещанский дух. Я имею в виду трагическую коллизию: конфликт между обыденным, бытовым, человеческим – и интеллектуальным и даже духовным. Конфликт, который расколол наше сознание, расколол наше искусство. Лишь только у Пастернака в «Докторе Живаго», написанном в послевоенное время, эта трагическая коллизия была осознана и получила разрешение. Оттого понимание мещанства как абсолютного зла сегодня для нас уже неприемлемо, но и недооценивать мещанство как постоянную угрозу мы тоже не должны.
ГЕРШЕНЗОН: Тем более что я говорю не о бытовом мещанстве, а о специфическом интеллектуальном мещанстве, поразившем нашу художественную среду и наше художественное сознание – и артистов, и зрителей.
ГАЕВСКИЙ: Прежде чем обсуждать эту проблему, я хотел бы узнать, что есть для вас интеллектуальное мещанство? Снобизм? Следование моде, а не создание новой моды? Подражание загранице? Неуважение к самому себе? Комплекс превосходства и комплекс неполноценности одновременно? Полуграмотность и нежелание в ней признаться? Невежество и нежелание с ним бороться? Страх одинокого пути, страх индивидуального мышления? Паническая боязнь неуспеха и такой же панический страх непризнания? Все это, по-видимому, и есть главные характеристики того, что вы называете интеллектуальным мещанством. Но нас должно интересовать, как все это непосредственно проявляется в творчестве, сознании, поведении артистов. Вообще говоря, как ни странно это сказать, то, что вы называете интеллектуальным мещанством, возникает тогда, когда в больших городах появляются большие деньги. В послевоенном Ленинграде была страшная нищета, непреодоленная разруха, чудовищные последствия блокады, но это был единственный в стране просветленный город: в Комарове жила Анна Андреевна Ахматова, Саша Володин писал свои первые и лучшие пьесы, по Невскому гулял бросивший школу Иосиф Бродский. Это был город, в котором мещанский дух знал свое место, не смел проникать повсюду, не создавал атмосферу города: ни у Товстоногова, ни у Акимова, ни в Филармонии при Мравинском, ни в Мариинке при Лопухове я ничего подобного не ощущал. Наоборот, мы рвались в Ленинград, как в какой-то заповедный край, где совершенно не ощущалось того, что уже становилось «московским духом»… А дальше – дальше началась борьба: Товстоногова – с обкомом, Акимова – со своими собственными драматургами. Ученика Лопухова Юры Григоровича – с Сергеевым. Мравинского – с Бахусом. Смысл этой борьбы в самом общем плане объяснить достаточно просто: речь шла о том, сохранить или понизить уровень культуры.
ГЕРШЕНЗОН: Звучит убийственно – сохранить или понизить уровень культуры. Это как умолчать или оповестить население о радиационной угрозе…
ГАЕВСКИЙ: И тут-то в эту борьбу неожиданно вмешался новый участник, до того времени занимавший позицию стороннего наблюдателя, – зритель.
ГЕРШЕНЗОН: Это тот самый случай, который описывается лозунгом «Народ и Партия едины»? Тем более что партия рекрутировалась из этого самого народа…
ГАЕВСКИЙ: Мы всегда смеялись над этим лозунгом, но совершенно напрасно. Важно напомнить, что этот лозунг казался смешным в конце 1980-х, когда началось массовое бегство из партии, но в 1960-х он отражал безусловную реальность, и с этой реальностью наша культура должна была в той или иной степени считаться. Вопрос заключался в том, какова эта степень: идти ли на поводу и признавать над собою власть или сопротивляться – открыто или не очень явно, но совершенно сознательно, а иногда бесстрашно.
И тут надо сделать очередную и весьма существенную оговорку: не надо думать, что наши самые лучшие и самые бескомпромиссные художники работали в вакууме, в одиночестве, окруженные враждебной толпой. Враждебная и агрессивно настроенная толпа, конечно, была, но была и другая категория публики – совсем немалочисленная, – именно она устраивала овации лучшим товстоноговским спектаклям и концертам Мравинского, именно для нее – если иметь в виду специфически балетную публику – предназначались выступления Ирины Александровны Колпаковой. Я имею в виду странный и неоднозначный период в жизни Мариинского театра 1970-х годов, когда из него исчезли не только все заметные балетмейстеры и артисты, но исчез и тот творческий дух, которым театр жил на протяжении достаточно долгого и совсем не легкого времени. Я мог бы назвать этот период буквально «великой депрессией», если бы не одно обстоятельство: лучшие исполнители сосредоточились на сохранении своего главного богатства – классических балетов, а «балерина Григоровича» Ирина Колпакова стала олицетворением высокого ленинградского академизма. Коллизия борьбы за сохранение или понижение уровня культуры, о которой я говорил, разворачивалась прямо у нас на глазах на протяжении четырех актов «Спящей красавицы»…
ГЕРШЕНЗОН: Вы говорите: сосредоточились на сохранении классических балетов. Я сказал бы немного иначе: лучшие исполнители обратились к профессии, точнее, к ремеслу. Художественные новации конца 1950-х иссякли, второй авангард захлебнулся (или оказался фикцией), авангардистов из театра выгнали, дело было проиграно. И те, кто остался жив, кинулись искать спасения – в ремесле. А ремесло в русском балете XX века всегда олицетворяла классика. Она – экзамен по чистописанию, грамматике, по решению шахматных этюдов. Ремесло задавало планку, уровень, niveau. Ремесло, как высокая крепостная ограда, спасало от страхов, ощущения бесперспективности и невозможности не только новой, но и вообще любой жизни в театре. К тому же надо признать, что балетный второй авангард в профессиональном плане был малоинтересен, он не ставил профессиональных ремесленных задач, сравнимых, к примеру, с теми, какие задавал своим танцовщикам Баланчин. Второй авангард не опирался ни на какую écolededanse, как это было у Баланчина, – такой идеи не было. «Танцовщики Григоровича» (или Бельского) могли просто выйти из формы. И, чтобы ее поддерживать, нужны были «Спящая», «Баядерка», «Раймонда». Именно ремесло (профессия) и стало тем психологическим амортизатором, который спасал от «великой депрессии». В конце концов профессионализм оказался наиболее честным способом сосуществования с окружающим миром. Он стал внутренней эмиграцией, тихой заводью, омутом, в который с отчаянием и наслаждением – и надолго – погрузились лучшие кировские танцовщики 1960–1970-х годов, оставшиеся в Ленинграде. Потому пресловутый ленинградский академизм приобрел у его носительниц такой пугающе перфектный дистиллированный вид (чего никогда не было у их предшественниц из класса Вагановой) – это была лаборатория со стерильными колбами и спиртовками, в которых горел бледный холодный огонь, лаборатория, в которую наглухо заколочен вход-выход (примерно то же в конце 1960-х можно было наблюдать еще в одной закрытой системе – у выдающихся артистов Датского королевского балета). Но именно потому до уровня Колпаковой и Комлевой сегодня никто в Мариинском театре так и не поднялся, именно потому они умудрились выходить в «Спящей» и «Раймонде» и в пятьдесят лет. И не позволили себе деградировать на глазах публики.
ГАЕВСКИЙ: Но в это же время – как вызов вообще какому бы то ни было академизму – возникло стремление к новому, по существу андеграундному искусству. Это был действительно андеграунд – и по духу своему, и по своему быту, и по организации жизни: ни репетиционных залов, ни того, что называлось «пропиской». Тогда мы впервые услышали имя Бориса Эйфмана. Он создал буквально альтернативный балет (творчество его великого предшественника Якобсона я не определял бы этим словом – он не был альтернативным хореографом, Якобсон был независимым хореографом, связи с мариинской традицией не рвавшим, о чем свидетельствует его знаменитый «Спартак»). Эйфман на Мариинскую сцену никогда не посягал, об этом не думал и шел совершенно своим путем…
ГЕРШЕНЗОН: Может быть, именно поэтому к нему сбежала из Мариинского театра Алла Осипенко. А потом пережила чудовищную жизненную катастрофу, когда увидела, что Эйфман перестал быть андеграундом[57]57
Позволю себе процитировать фрагмент собственной статьи, написанной для газеты «Русский телеграф» в 1997 году: «…Но я хорошо помню 1978 год и безумный ажиотаж в кругах студентов Свердловского архитектурного института, спровоцированный гастролями ленинградского „левого“ (тогда это называлось „нового“) балета Бориса Эйфмана с бумерангами, пинкфлойдами, тощей крейзи-балериной Аллой Осипенко и загадочным Джоном Марковским (мы были уверены, что это танцовщик из Америки). В списке интеллектуальных приоритетов студентов-архитекторов балет Эйфмана размещался вслед за романом „Мастер и Маргарита“, сюрреализмом, картинками из журнала L’Architecture d’Aujourd’hui и блоком сигарет „Мальборо“. Подступы к свердловскому Дворцу молодежи охраняла милиция, в зале бродили стукачи из комитета комсомола. Через пару лет он снова приехал в Свердловск. На сцене респектабельного концертного зала „Космос“ вместо пинкфлойдов и бумерангов под аккомпанемент Чайковского, в истерике выпучив глаза, метался князь Мышкин. На радикальную смену курса студенты не обратили внимания. В моде было деформированное сознание и девиантное поведение. Эйфман продолжал проходить по категории „интеллектуальной пищи“. Он и сегодня наш одинокий балетный „интеллектуал“, и, как двадцать лет назад, в его меню все те же братья Карамазовы, Чайковский, Шнитке, Спесивцева плюс Баланчин, Лев Толстой, Чехов и Анна Каренина, приперченные балетным садомазохизмом. Но публика его ресторана – это уже не студенты – в зале звонят мобильные телефоны и сильно пахнет духами, а в антракте можно выпить бокал шампанского и закусить черной и красной икрой из знаменитой инсталляции „Жизнь удалась“… Между тем, от этой пищи тошнит, как от „рыбного дня“ в советской диетической столовой № 59, – день сурка, растянувшийся в бесконечность. Формулирую в двадцать пятый раз: изобретенная Борисом Эйфманом балетная „достоевщина“ всегда означала вульгарную литературность, структурный хаос, лексическую нищету и симуляцию страстей; балетная „достоевщина“ есть финальное примирительное рукопожатие советского драмбалета и пришедшего ему на смену советского же танцсимфонизма.
На гранитной пьяцце библиотеки Ленина, на фоне тощих колонн Щуко и Гельфрейха стоит нечто, напоминающее перепеленатую египетскую мумию. Говорят, что это памятник Достоевскому, который вот-вот откроют. Но я уверен, когда покровы спадут, мы увидим не Федора Михайловича, а Бориса Яковлевича. Или – что эффектней – их обоих, сидящих в обнимку.
В качестве постскриптума. Как-то в разговоре с Поэлем Карпом я причислил искусство Бориса Эйфмана к категории продуктов, которыми торгуют в Тель-Авиве мелкие лавочники знаменитой улицы Алленби (то, что называется «дешево и со вкусом»). Посетовав на отсутствие политкорректности, он тем не менее поправил мою географию: это не Тель-Авив – это всегда было Кишиневом. И никуда от этого не деться».
[Закрыть], когда его эстетикой…
ГАЕВСКИЙ: …стала эстетика китча, когда он стал «спасать искусство красотой» и начал говорить от имени Господа Бога…
Фрагмент 5. О безобразномГАЕВСКИЙ: Вернемся к началу нашего разговора. В историческом смысле последние десять лет Мариинского театра (1986—1996) – эпизод, последствия которого могут оказаться печальными и долговременными. Но подобных эпизодов в истории Мариинского театра было довольно много, и так или иначе, но театр с ними справлялся. В 80-х годах XIX века «Спящую красавицу» ждали, потому что в Мариинском театре работал Петипа, потому что там работал Чайковский, потому что во главе театра стоял Всеволожский, который понимал, кто такой Петипа и почему он должен сотрудничать с Чайковским. Ничего подобного сейчас не наблюдается. И что будет дальше – я, честно говоря, не знаю. Но я знаю, что кризисное состояние театра есть кризисное состояние последнего времени, оно не есть кризисное состояние его художественной системы, которая вообще, повторяю, выходит за рамки нашего века и в которой присутствует в загадочном для нас качестве полуторавековая история. Причем не как история, а как реальность, как сегодняшний день.
ГЕРШЕНЗОН: Но балетный театр XIX века не включал понятия истории. Первым понятие истории балета включил Фокин – в «Шопениане». Мариус Петипа создавал, так сказать, актуальное искусство, балет сегодняшнего дня…
ГАЕВСКИЙ: …опираясь на искусство XVIII века, искусство Новерра, – в балетах Петипа есть совершенно очевидные цитаты. Балетный театр XIX века не включал понятия движущейся истории. Тогда было другое представление об историческом времени – оно было более обширным. Но как только Мариинский театр запирал себя в клетку «сегодняшнего дня» и ставил своей задачей создать «балет сегодняшнего дня», это кончалось плохо. Когда Фокин решил построить «новый балет» 1910-х годов, Лопухов – «авангардный балет» 1920-х, Захаров и Лавровский – «драматический балет» 1930–1940-х, Григорович – «современный балет» 1960-х годов, то есть когда они пытались создать балетный театр, ориентированный на конкретную локальную и замкнутую эпоху, разворачивалась драма, и они уходили, потому что этот театр не позволял подчинять себя лозунгу современности. Как только Мариинский театр называл себя театром-музеем и заявлял, что ничего общего с современностью иметь не будет, – это также кончалось плохо. Но только когда возникал баланс между таинственным, интуитивно почувствованным постижением большой исторической дистанции, присущей этому искусству, и потребностью новизны, без которой не может жить талантливый человек, – только тогда возникал великий Мариинский театр, создавались великие интерпретации классики, появлялись великие артисты. Другое дело, что очень многое в классическом наследии сегодня испорчено. В каком виде идет «Лебединое озеро», в каком виде идет «Раймонда»? Их обновленные редакции, сделанные в конце 1940-х – начале 1950-х годов, намного беднее оригиналов. Намного беднее в художественном смысле, хотя, если учесть конкретные обстоятельства, в которых эти редакции возникли, они были необходимы…
ГЕРШЕНЗОН: …как зеркало или проекция времени – иногда уродливое напоминание об уродливом времени, например, оскопленная версия «Корсара», сделанная в 1987 году Гусевым и Виноградовым, – без танцев Медоры, с изуродованным ансамблем «Оживленного сада». Это спектакль, цинично изготовленный на продажу, спектакль, который должен был соответствовать ложно понятым европейским представлениям о том, как должен выглядеть «русский балет». Это спектакль рыночной эпохи, которая в Мариинском балете началась задолго до того, как она началась в нашей стране, и в этом смысле Мариинский театр опередил время. Этот спектакль – проекция времени totalsaleв Мариинском театре, времени, когда этот театр продал для тиражирования все, что у него было: сергеевские редакции «Спящей красавицы», «Лебединого озера» с дизайном Вирсаладзе, уникальную «Баядерку» с ее антикварным антуражем…
ГАЕВСКИЙ: Это десятилетие нанесло тяжелый урон Мариинскому театру отсутствием художественной цели – цель была коммерческой. Связано это было с отсутствием настоящего лидера и присутствием лидера ложного. Но этот замечательный корабль, рассчитанный на кругосветное путешествие во времени и пространстве, не может двигаться без капитана.
ГЕРШЕНЗОН: В течение последних лет я постоянно нахожусь в Мариинском театре. В нем ощущается грандиозная в своей силе инерция движения. Вот завтра все лидеры, все начальники, настоящие и мнимые, просто перестанут ходить на работу, а эта скрипучая машина будет продолжать шевелиться и дергаться, как дергается курица, которой отрубили голову, – уроки будут начинаться в 11 часов, а спектакли (балетные) – ровно в 19 часов…
ГАЕВСКИЙ: Возможно, в этом и заключена великая сила академического театра…
ГЕРШЕНЗОН: Может быть, предназначением Мариинского театра в XX веке и является кристаллизация понятия «академический балет», «академическое искусство» – то есть искусство, передаваемое из рук в руки, искусство, которое преподают. Театральная (не музыкальная) партитура оперного спектакля неизбежно исчезает со временем, ее породившим: сталинские «баратовские» постановки, которым по сорок лет и которые идут до сих пор, лишь подтверждают, что Сталин в нашем сознании еще не умер. Хореографическую партитуру «Баядерки» исполняют сто сорок лет и, возможно, будут танцевать еще столько же… Как возникла идея нашего диалога? Когда-то вы мне сказали: в конце XX века стало понятно, что XIX век выжил, а вот жизнеспособен ли век XX – это большой вопрос.
ГАЕВСКИЙ: Именно потому я говорю, что сейчас мы переживаем не кризис явления в целом. Иначе бы мы в Мариинский театр не ходили, иначе бы не был возможен «Хрустальный дворец» – разве он провалился? Вы считаете, что это неудача?
ГЕРШЕНЗОН: Как сказать… На репетициях была надежда, что мы увидим наконец настоящего Баланчина с его прозрачным аполлоническим стилем. Увы, провинциальный снобизм и упрямое нежелание согласиться с существованием другой танцевальной техники, понять законы другого искусства взяли верх. И пресловутые замедленные темпы (темпы, как известно, в Мариинском театре можно «заказать», исходя из своих технических возможностей и своего интеллектуального уровня) не причина, а следствие этого непонимания. Непонимания того, например, что адажио Льва Иванова и адажио Баланчина – два разных типа адажио и подходить к ним нужно по-разному; непонимание того, что Баланчин слышал музыку Чайковского по-другому, точнее, он слышал в музыке Чайковского другое, нежели то, что слышали Лев Иванов и Мариус Петипа. Дальше логическая цепь выстраивается просто: темпы садятся, паутина ритмопластического рисунка Баланчина рвется, и, чтобы ее как-то склеить, балерины принимаются кривляться на сцене, изображая некую мировую душу под овации малоинформированной и сбитой с толку публики. Все это сопровождается идиотским газетным ажиотажем и раздачей «Золотых слонов». Я знаю, вы склонны называть эти темповые вольности интерпретацией. Но у любой интерпретации есть граница, за которой начинается обыкновенное искажение хореографического текста. В случае Баланчина, у которого ценность времени абсолютна и даже музыкальные паузы пластически реализованы, все обстоит просто и жестко: нет авторского права балерин – есть авторское право хореографа.
ГАЕВСКИЙ: Стопстопстоп. «Овации малоинформированной публики» – это, конечно, я (хотя на премьере мы с вами сидели рядом и аплодировали одинаково энергично). «Идиотский газетный ажиотаж» – и это я, написавший большую восторженную статью о премьере «Симфонии до мажор». «Золотые слоны» – это, по-видимому, тоже я, если имеется в виду «Золотая маска» и награждение Ульяны Лопаткиной и «Симфонии до мажор» в целом. Таким образом, все ясно. Но кто такие эти «балерины», полные провинциального снобизма и ничего не понимающие в адажио Баланчина? Кто именно заменил танец кривлянием? Подобные обвинения надо предъявлять открыто, анонимный стиль в критике недопустим. Тем более что вопрос о темпах и интерпретациях не так прост. Поглядели бы вы (это зафиксировано на видеопленке), как лучшие балерины Баланчина танцуют адажио Петипа и адажио Льва Иванова – абсолютно в баланчинском ключе, нисколько не считаясь с требованиями оригинала. Что это? Тоже провинциальный снобизм? Может быть. А может быть, сформированное на всю жизнь школой ритмическое мышление, изначально заданная ритмическая структура. Другое дело, что нельзя быть у нее в плену. Когда Мариинский театр показал в 1989 году «Тему с вариациями», я сам протестовал в журнале «Театр» против того, как была исполнена и как была загублена медленная часть, как этот гениально поставленный медленный вальс-бостон был по-мариински «пропет» и ритмически не построен. Но здесь, в «Симфонии до мажор», случай особый. Ульяна Лопаткина танцует медленную часть не так, как Аллегра Кент, любимица Баланчина, но и хореографически, и художественно более интересно. Она обнаруживает скрытый слой этого адажио, восходящий и ко Льву Иванову, и к Тальони, к старинному романтическому балету. Аллегра Кент этого не чувствовала, потому что воспитывалась в школе Баланчина. Сам же Баланчин воспитан в школе на Театральной улице, и вот эту улицу я смутно увидел. И не забывайте, что «Симфония до мажор» была поставлена не в Нью-Йорке, а в Париже, и парижская этуаль Лиан Дейде, на мой взгляд самая выдающаяся танцовщица второй половины ХХ века, тоже танцевала медленную часть медленнее, чем это делают в New York City Ballet.
ГЕРШЕНЗОН: Я должен остановиться на том, что вы назвали сформированным на всю жизнь школой ритмическим мышлением. Все наши последние эмигрантки – Поликарпова, Панкова, Лежнина – на чужих сценах прекрасно сумели его трансформировать и работают в предложенных им новых обстоятельствах, соблюдая новые правила игры. Можно вспомнить и более ранние примеры: Нуреев, танцующий «Сильфиду» Бурнонвиля, или Барышников, танцующий «Тему с вариациями» того же Баланчина, – разве их учили так танцевать в школе на улице Росси? Они так танцевали в Кировском театре? (Впрочем, Барышников уже в Ленинграде танцевал так.) Что касается баланчинских балерин, танцующих Петипа, так ведь это же ученицы человека, прибывшего в Америку из Европы, а в Европу – прямым ходом из Петрограда, из того самого Мариинского театра и школы на Театральной улице – не на улице Зодчего Росси. И тут я задаю вопрос: не кажется ли вам, что эти «темпы Баланчина» и есть темпы старой Театральной улицы; не кажется ли вам, что темпы Баланчина гораздо ближе к темпам Карсавиной, Егоровой, Спесивцевой, да и к темпам Семеновой, Улановой, Дудинской (это тоже можно увидеть на старых пленках), чем к темпам Ульяны Лопаткиной? Мы можем услышать, как говорил Набоков (есть записи), мы еще можем услышать, с какими интонациями говорят старые русские эмигранты. Этот прононс и эти интонации – результат ассимиляции? А может, это и есть голос старого Петербурга?
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?