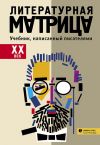Автор книги: Вадим Левенталь
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Александр Секацкий
Гоголь – откровенное и сокровенное
Николай Васильевич Гоголь
(1809–1852)
Биография Гоголя давно стала не только частью литературного мифа, но и своеобразным художественным средством, через которое преломляется восприятие великой гоголевской прозы. Как филологи, маститые гоголеведы, так и хоть сколько-нибудь любознательные читатели находятся в курсе основных моментов жизни Гоголя со всеми вытекающими отсюда в наше время последствиями. История этой странной жизни и еще более странной смерти (что уж говорить о погребении и посмертии) постепенно превратилась в предмет так называемых журналистских расследований – пожалуй, только Пушкин может сравниться в этом отношении с Николаем Васильевичем. Посмертные приключения Гоголя продолжаются и сегодня, и разве может писатель пожелать себе лучшей судьбы?
Я воспроизведу лишь краткую хронологию – как подспорье для понимания творчества, самого таинственного феномена, который вообще есть на свете. Итак.
1809. В местечке Великие Сорочинцы Миргородского уезда Полтавской губернии родился Николай Гоголь. Немного найдется людей, которые столько сделали для своей малой родины, как Николай Васильевич.
1828. Гоголь заканчивает Нежинскую гимназию и отправляется в Санкт-Петербург. Так начинается его сказка странствий, его пожизненная неприкаянность.
1831–1832. Выходят «Вечера на хуторе близ Диканьки». Страна впервые услышала имя своего нового гения и в дальнейшем уже не забывала его.
1835. «Миргород» и «Арабески». Работу над этими книгами Гоголь совмещал с должностью адъюнкт-профессора в Санкт-Петербургском университете. Неизвестно, насколько благодарными были студенты, но им следует сказать спасибо хотя бы за то, что не слишком обременяли профессора…
1836. «Нос» публикуется в пушкинском «Современнике». В этом же году осуществлена первая постановка «Ревизора» в Александринском театре. По реданию, сюжет пьесы подсказан Пушкиным – тут ясно, кому говорить спасибо.
836–1839. Первая поездка за границу – Германия, Австрия, Франция, Италия… есбыточная для Пушкина мечта сбылась для Гоголя как бы сама собой. Похоже, Гоголь и здесь стал одним из первооткрывателей, опробовав писательский образ жизни, востребованный «средним европейским литератором» столетие спустя и торжествующий и по сей день.
1842. Опубликованы «Мертвые души», первый том. Зенит славы, успеха – в том, что касается востребованности. Во всем остальном – поле для бесконечных домыслов, истинной подоплеки которых мы никогда не будем знать наверняка.
1845. Сожжен второй том «Мертвых душ». Непонятная до сих пор болезнь Гоголя – если, конечно, все предшествующее считать здоровьем.
1848. Паломничество в Иерусалим, ко Гробу Господню.
1852. Повторное сожжение второго тома (беловой рукописи) и смерть. Дальше – посмертие. Еще дальше – возможно, бессмертие.
* * *
Размышления о творчестве Гоголя, если так можно назвать эти субъективные заметки, хотелось бы начать с «Мертвых душ» – их уже сравнивали с «Одиссеей», с архетипом, вечно воспроизводимым образцом сказки странствий, а после появления кино выяснилось, что «Мертвые души» содержат в себе особенности road movie – дорожной истории. Однако напрямую называть роман Гоголя приключенческим не принято. Попробуем спросить себя – почему?
Может быть, в нем не хватает той занимательности, которая есть, например, в «Трех мушкетерах» или толкиеновском «Властелине колец»? Нет, занимательности Гоголю не занимать: «Вечера на хуторе…» и по сей день остаются классикой подобного жанра, да и вообще сочинить какую-нибудь эдакую историю, записанную «пасичником Рудым Паньком», было для Гоголя любимым делом, в котором он знал толк. А уж чтение «Мертвых душ», захватывающее с первых же страниц (вот только далеко не с первых страниц удается понять – чем именно), не оставляет сомнений: перед нами чистейшей воды (или высочайшей пробы) приключения, только без циклопов, драконов и троллей.
Дело, видимо, в том, что хранители российской словесности, составители хрестоматий и учебников, избегая называть эту поэму образцом приключенческой литературы, опасались, что подобное определение унизит великий роман: ведь и по сей день принято считать, что в приключенческом жанре есть нечто легковесное, нечто противоречащее самому принципу, в соответствии с которым то или иное произведение включают в хрестоматии. Можно провести аналогию с «Преступлением и наказанием» – тоже ведь в каком-то смысле детектив, однако вовсе не по этой причине книгу читает, открывая ее для себя, каждое очередное поколение. Правомерно ли подобное же умозаключение и для гоголевских «Мертвых душ»? Уместно ли будет сказать, что странствия Одиссея-Чичикова сами по себе были бы нам не слишком интересны, а вот «панорама всей современной Гоголю России», как любили когда-то выражаться советские критики, – вот что действительно важно?.. Ну и разоблачение, высмеивание, сатира, всякое такое прикладное, для чего, как иногда и теперь думают, и нужна современная литература.
Впрочем, в 1940–1950-е годы встречались схожие оценки и гомеровского эпоса: «Гомер беспощадно вскрывает социальные язвы рабовладельческого общества Восточного Средиземноморья…» Делать больше нечего Гомеру, кроме как использовать гекзаметры для обличения в «завуалированной форме» социальной несправедливости античного полиса! Если и нужна ему рассказанная история для чего-то еще, кроме себя самой, так это затем, чтобы удержать внимание слушателей. Но, во-первых, захватываемое и удерживаемое внимание слушателей и читателей относится к самой сути любого повествования, а во-вторых, Гоголю литература нужна для того же самого – для производства чарующей силы, способной пребывать в тексте, не иссякая, сколько бы ее ни вычерпывали праздные читатели и озабоченные педагоги.
«…Бывало, соберутся накануне праздничного дня добрые люди в гости, в пасичникову лачужку, усядутся за стол, – и тогда прошу только слушать» («Вечера…»). Пасичник Рудый Панько, как сейчас принято говорить, работает в традиции Гомера. Он сказитель и, о чем бы ни сказывал, никогда не забудет о первородном чуде литературы, способном если не искупить, то, хотя бы отчасти, извинить первородный грех человечества.
«…Еще был у нас один рассказчик; но тот (нечего бы к ночи и вспоминать о нем) такие выкапывал страшные истории, что волосы ходили по голове. Я нарочно и не помещал их сюда. Еще напугаешь добрых людей так, что пасичника, прости господи, как черта все станут бояться. Пусть лучше, как доживу, если даст Бог, до нового году и выпущу другую книжку, тогда можно будет постращать выходцами с того света и дивами, какие творились в старину в православной стороне нашей. Меж ними, статься может, найдете побасенки самого пасичника, какие рассказывал он своим внукам. Лишь бы слушали да читали, а у меня, пожалуй, – лень только проклятая рыться, – наберется и на десять таких книжек» («Вечера…»).
То, что литература есть прежде всего умело рассказанная история, которую слушают, которой внимают, для Гоголя было чем-то само собой разумеющимся. Иначе и быть не может при нормальном ходе вещей, и лишь в особых, тепличных условиях эта очевидность порой отступает на второй план, а то и вовсе исчезает, уступая место иным, посторонним, в сущности, мотивам. Подобные условия как раз и сложились в России в XIX веке, когда сама империя стала страной победившего и торжествующего литературоцентризма. Литература и ее литераторы, поддавшись соблазну власти (власти над душами), вдруг бросились решать несобственные задачи – поучать, обличать, наставлять на путь истинный. Что говорить про Чернышевского и позднего Льва Толстого, если сам Гоголь в конце жизни не устоял, поддался соблазну прямой дидактики!
Критический реализм Белинского и его последователей представлял собой не только внешнюю установку по отношению к литературе – он был свидетельством и выражением ее силы, ее способности воздействовать на умы. И хотя лишь столетие спустя Евгений Евтушенко сформулировал знаменитый тезис «поэт в России – больше, чем поэт», можно смело сказать, что зарю этого времени застал уже Гоголь. Сейчас нам важно отметить, что культура вообще и литература как ее составная часть далеко не всегда пребывают в тепличных условиях, и, соответственно, далеко не всегда присвоенное писателем право на морализаторство благосклонно встречается покорной аудиторией.
Ситуацию, когда литература оказывается возвращенной к гомеровскому первоначалу, описывает Варлам Шаламов в «Колымских рассказах»: в лагере искусный рассказчик пользовался уважением и, так сказать, некоторыми льготами, но, чтобы завоевать эти льготы, ему приходилось подчиняться жестким условиям – «тискать романы», то есть разворачивать перед слушателями авантюрные, динамичные истории, в которых нет места морализаторству, назидательности или авторскому кокетству. То есть в запредельно жестких условиях автору приходится следовать принципу Шахерезады: искусство в обмен на жизнь. Как ни странно, но в этой ситуации при всей ее трагичности есть и нечто обнадеживающее, указывающее на то, что литература способна выстоять при любых обстоятельствах – до тех пор, пока люди остаются людьми, покуда в них сохраняется неприкосновенный запас неистребимого человеческого. Потом, когда вопрос о жизни и смерти отойдет на второй план, Шахерезада сможет расслабиться, немного пококетничать, зарезервировать целую ночь для описания собственного потока сознания (шанс, которым в полной мере воспользовались, например, Франсуаза Саган и другие эпигоны Пруста) – и все же эта ночь будет позволена лишь как бонус, как вознаграждение за предыдущие ночи, за то, что нам поведали о странствиях Одиссея, Синдбада или Чичикова.
Вот и писатели, к какой бы национальной литературе они ни принадлежали, в принципе могут быть ранжированы по своей близости к первоначалу, к сверхзадаче Шахерезады. Эта близость ничего не говорит о размере таланта, и в рамках обычного хода вещей она, может быть, даже не очень существенна. Она имеет прямое отношение разве что к такому параметру, как выживаемость, причем вовсе не обязательно в условиях ГУЛАГа или Освенцима. Всякое падение литературы с пьедестала, например крах литературоцентризма, который все же случился в России в 90-е годы прошлого века (так что в этом отношении Россия стала нормальной европейской страной), вновь актуализует параметр выживания, сверхзадачу Шахерезады. Стало быть, некоторые сравнения не лишены интереса.
Например, сравнение Гоголя с Достоевским. Возьмем «Мертвые души» и «Преступление и наказание». Перед нами две великие книги, и пытаться ставить им сравнительную оценку по какой-нибудь абсолютной шкале было бы, разумеется, бессмысленно. Но в смысле близости к Первоисточнику ответ есть. Творение Достоевского весьма посредственно как детектив, но в данном случае жанровая принадлежность книги не имеет, в сущности, никакого отношения к причинам, по которым мы числим ее автора в классиках, – вот уж не за умение выстраивать детективную интригу мы любим и ценим Федора Михайловича.
«Мертвые души» (первый том) – безупречный приключенческий роман, и хотя это отнюдь не единственная причина нашего неослабевающего интереса к книге, но жанровая принадлежность в данном случае существенна, она ни при каких обстоятельствах не может быть вынесена за скобки.
* * *
Попробуем поразмышлять, в чем заключается разница между приключениями Хомы Брута и похождениями Чичикова. На первый взгляд речь идет о различии между необычностью и обыденностью, и философ Хома Брут кажется даже стоящим ближе к отважному Фродо из «Властелина колец», чем к абсолютно приземленному Чичикову. Однако при ближайшем рассмотрении можно заметить, что всевозможная чертовщина, обитавшая на хуторе близ Диканьки, тоже была по-своему обыденна: ее повадки были, в общем, неплохо известны не только малороссийским хуторянам и чумакам, но и образованным петербургским читателям. Каждый в принципе знал, какого поступка можно ожидать от ведьмы. Так что по степени своей необычности Ноздрев как минимум ничем не уступает дракону, а Плюшкин – Кощею Бессмертному. Можно, пожалуй, даже сказать, что они имеют одинаковую степень человекообразности. Все «встречные» персонажи Гоголя относятся к классу чужих, а не других, та же помещица Коробочка с точки зрения повседневных психологических реалий мало чем отличается от циклопа Полифема. Герои «Мертвых душ» предназначены (и «приспособлены») для оценки и наблюдения извне, и ни о ком из них Гоголь не мог бы сказать словами Флобера «мадам Бовари – это я».
Здесь явственно видны отличия приключенческого романа от романа традиционно-психологического, например, от «Обыкновенной истории» Гончарова, где предполагается естественное вчитывание-вживание, с помощью которого и проверяется достоверность образов. Подробный заземленный психологизм, похоже, был не слишком интересен Гоголю, наследнику Гомера и Шахерезады: писателя больше волновали иные возможности литературы, в каком-то смысле более обширные, чем те, что предоставляет психологизм или, если угодно, психологический реализм.
Но вернемся пока к стихии приключений – точнее говоря, к бричке Чичикова. Мы как читатели тоже подсаживаемся на нее, она ничуть не хуже звездолета, а уж бескрайние дали скрывают и открывают такое, что можно было увидеть лишь с борта корабля бесстрашных аргонавтов. Благодаря тому что попадающиеся Чичикову существа хоть и являются монстрами, но прекрасно замаскированы в человеческом облике (правда, есть подозрение, что все они носы и другие органы, сбежавшие от своих владельцев), приключенческая ткань поэмы расцвечена всеми цветами радуги. Игра сходств и несходств, узнаваний и обознатушек создает глубину, какой невозможно добиться, если монстры замаскированы плохо, если они сразу предстают в виде одноглазых чудовищ, хвостатых чертей, троллей и василисков.
Авантюрная канва, впечатляющая и сама по себе, расцвечивается дополнительными красками, если задержаться, продлив удовольствие, и все же сыграть в обознатушки (точнее говоря, в перевертыши), – и тут Николай Васильевич предстает как удивительный мастер, не хуже Набокова, считавшего, что разгадывание ребусов, встроенных в текст, составляет очень важный аспект читательского удовольствия, включая немаловажное удовольствие от собственной проницательности. Ключ к игре предложен едва ли не открытым текстом, прежде всего в повести «Нос», где майор Ковалев, набравшись решимости, говорит: «Милостивый государь… <…> Ведь вы мой собственный нос!»
В «Мертвых душах» не все так просто, но, если слегка призадуматься, можно заметить, что персонажи явно не обладают полнотой человекоразмерности («Гоголь изображает типажи», как любили писать советские литературоведы). Вот, например, вздорный и своенравный Ноздрев. Иной читатель, хорошенько присмотревшись, готов воскликнуть: да вы просто мой собственный… э… психоаналитический коррелят носа, скажем так. Или Манилов с Собакевичем – они явно образуют устойчивую пару режимов, характеризующих работу кишечника: в случае Манилова всячески подчеркивается недержание речи, неконтролируемый словесный поток, а вот Собакевич скуп на слова, из него буквально слова не выдавишь. И на всех сундуках у него, как подчеркивает Гоголь, крепкие запоры. Что касается Коробочки, то «ответ по Фрейду» напрашивается сам собой, не будем лишний раз тревожить «Толкование сновидений».
Впрочем, достаточно вспомнить сон Ивана Федоровича Шпоньки, чтобы убедиться: психоаналитическая подоплека была открыта Гоголем задолго до Фрейда и частенько использовалась Николаем Васильевичем для создания атмосферы сгущения, одинаково важной и для сновидения, и для приключенческого романа. Итак, знаменитый сон:
«…То вдруг снилось ему, что жена вовсе не человек, а какая-то шерстяная материя; что он в Могилеве приходит в лавку к купцу. “Какой прикажете материи? – говорит купец. – Вы возьмите жены, это самая модная материя! очень добротная! из нее все теперь шьют себе сюртуки!” Купец меряет и режет жену…» («Вечера…»).
По поводу психоаналитической интерпретации гоголевской прозы и биографии писателя было написано немало диссертаций – как отечественными исследователями, так и зарубежными славистами. Многим из этих текстов можно дать оценку занятно – что-то сходится, что-то не сходится, но материал, безусловно, очень благодарный. Нет сомнений, что немало можно еще на этот счет накопать, однако разгадку психоаналитических ребусов пора уже рассматривать как личное дело умного читателя – дело, о котором совсем не обязательно оповещать филологические журналы и диссертационные комиссии.
Самого Гоголя, как самозабвенного писателя, интересовало отнюдь не путешествие в мир собственных неврозов – его больше интересовало, что же происходит с человеческой душой в тот момент, когда она зачарована повествованием, погружена в символическое так, что забывает о реальном и насущном, как если бы на это краткое время душа возвращается на свою родину, сугубо персональную родину, поддаваясь узнаванию того, что невозможно не узнать. Умение создавать такие резонансы есть важнейшая составляющая писательского дара. В «Мертвых душах» есть несколько таких оазисов путника, то есть читателя, следующего за направляющим лучом авторского воображения.
Мне, например, всегда казалось, что ночное попадание сбившегося с пути Чичикова в дом Коробочки есть апофеоз блаженного, заслуженного отдохновения, ватно-перинная идиллия, равных которой немного найдется в мировой литературе:
«– Ну, вот тебе постель готова, – сказала хозяйка. – Прощай, батюшка, желаю покойной ночи. Да не нужно ли еще чего? Может, ты привык, отец мой, чтобы кто-нибудь почесал на ночь пятки? Покойник мой без этого никак не засыпал.
Но гость отказался и от почесывания пяток. Хозяйка вышла, и он тот же час поспешил раздеться, отдав Фетинье всю снятую с себя сбрую, как верхнюю, так и нижнюю, и Фетинья, пожелав также с своей стороны покойной ночи, утащила эти мокрые доспехи. Оставшись один, он не без удовольствия взглянул на свою постель, которая была почти до потолка. Фетинья, как видно, была мастерица взбивать перины. Когда, подставивши стул, взобрался он на постель, она опустилась под ним почти до самого пола, и перья, вытесненные им из пределов, разлетелись во все углы комнаты. Погасив свечу, он накрылся ситцевым одеялом и, свернувшись под ним кренделем, заснул в ту же минуту».
Не менее идиллическим было и пробуждение, увенчанное диковинными прелестями захолустья и свежей сдобой. Какой читатель останется равнодушным и не поддастся чарующей силе этих страниц, не почувствует блаженства кратковременного рая? Иной из читателей подумает, что рай вообще возможен лишь в кратковременной форме, как блаженный отдых между боями, странствиями, авантюрами. Есть такие моменты, когда возникает уверенность, что рай – это перина, опускающаяся под тобой от потолка до самого пола, – и неспешное, плавное погружение в сон с вопросом-предвкушением: что покажут? Может, что-нибудь в духе Норштейна, про ежика в тумане – о том, как мы будем сидеть на краю земли, свесив ноги, считать звезды и пить чай с малиновым вареньем. Или лучше прямо по Гоголю: сон о старосветских помещиках, про то, как трогательно любят друг друга Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна…
Рай – это сон во сне с мягким двойным пробуждением, очень важно перейти из внутреннего сна во внешний и лишь затем в саму реальность, где для плавности вхождения будет сначала еще какой-нибудь смешной индюк и только потом подступят неотложные дела. Тут же возникает и рецепт идеального авантюрного романа – это книга, где острые концы приключений проложены мягкими перинами. Просто хороший приключенческий роман читается на одном дыхании, великий – такой, как «Мертвые души», – предполагает правильное чередование вдоха и выдоха.
* * *
Еще одним, быть может, наиболее примечательным, усовершенствованием приключенческого романа является главный герой – сам Чичиков. Если встречаемые им существа суть материализованные, воплощенные «характерные черты» (скажем, вздорность, к которой приделаны ноги и бакенбарды, притом так, что «одна бакенбарда заметно короче другой»; раз есть ходячие добродетели, должны быть и ходячие пороки), то сам Чичиков предстает как анти-Одиссей.
Сам Одиссей как герой гомеровского эпоса и его бесчисленные последующие вариации, более или менее удачные (допустим, от графа Монте-Кристо до Гарри Поттера), выписаны с особой яркостью, помогающей читательской идентификации. Читатель авантюрного романа должен сливаться с главным героем, как космонавт со скафандром, как байкер со своим мотоциклом. Чем меньше окажется зазор, тем легче дается погружение в стихию авантюры. От успешности растворения в герое зависит, насколько сладка будет сладость мести, насколько победительна одержанная победа – словом, от плотности прилегания скафандра зависит приключенческая динамика, так называемый suspense, или, скажем лучше, самозабвенность. Разве не ради этой самозабвенности бросаются в приключенческую стихию романа или фильма? – но ведь лучший способ забыть себя состоит в том, чтобы опознать, обрести себя в другом: в Одиссее ли, в Супермене ли – любой яркий и, следовательно, удобный для опознания образ годится, чтобы слиться на время с его придуманной жизнью. Таков основополагающий принцип построения авантюрного романа.
Но Чичиков пуст. В нем, собственно говоря, не с чем отождествляться: господин средней руки, не то чтобы слишком худ, однако и не толст, – в таком же состоянии размытости, неакцентированности, пребывают и прочие его свойства. И что же получается? А получается, что благодаря совершенно необычной для главного героя неопределенности читатель лишается возможности сопереживания на одном дыхании, но взамен приобретает уникальную дистанцию отстраненного созерцания. Автор, Николай Васильевич Гоголь, а вслед за ним и читатели могут использовать Чичикова как батискаф, способный погружаться на разные глубины, чтобы рассматривать с пристрастием диковинных глубоководных рыб. Батискаф не водолазный скафандр, он не предоставляет свободы движений, от которой захватывает дух, зато через иллюминаторы можно очень многое неспешно и со вкусом рассмотреть.
Наверное, именно таким образом и предоставляется возможность увидеть то, что авторы школьных учебников называют панорамой российской жизни. Впрочем, справедливее был бы другой термин – паноптикум или кунсткамера. Ведь Гоголь – несравненный мастер приготовления литературных препаратов in vivo[9]9
In vivo (лат.) – на живом организме. – Прим. ред.
[Закрыть], мастер роскошной, сказочной композиции, по сравнению с которой явно меркнут страницы средневековых бестиариев[10]10
Бестиарий – популярный в Средневековье литературный жанр, сборник сведений (в стихах и прозе) о жизни, обычаях и нравах животных, в том числе мифических, где описания непременно сопровождались аллегорическим истолкованием – религиозной или моральной максимой, которую можно извлечь из повадок либо облика того или иного зверя. – Прим. ред.
[Закрыть].
Можно было бы сказать, что люди интересуют его как жуки на булавках, вот он и поворачивает персонажей (и сюжет, конечно) так, чтобы получше рассмотреть диковинку, покачать головой да и сказать: «Ишь ты!» Как раз в этом духе юный Гоголь и расспрашивает матушку о разных малоросских обыкновениях. Тут важно лишь устранить некоторые недоразумения (устранить все, накопившиеся вокруг Гоголя, невозможно).
Во-первых, проект литературы как кунсткамеры, ярмарки чудес, не только изначальнее присвоенной ей впоследствии мироучительной функции, но и сам по себе ничуть не хуже – как уже отмечалось, он останется и тогда, когда окончательно схлынет наваждение назидательности. Трагедия Гоголя отчасти состояла в том, что прогрессивная критика (прежде всего Белинский) явно или скрыто попрекала великого писателя склонностью к «безделицам», к этнографии, к приключениям и страшилкам – и это вместо того чтобы глаголом жечь сердца людей! Вместо того чтобы чувства добрые лирой пробуждать… Увы, попреки, наложившись на дремавшую в Гоголе страсть проповедника, сделали свое дело. Второй том «Мертвых душ» написан другим Гоголем – писателем, утерявшим доверие к своему великому, уникальному таланту.
Во-вторых, «интерес к людям», свойственный литератору, всегда очень специфичен. Обида прототипов, узнавших себя в том или ином герое, стара как мир – точнее говоря, как сама художественная литература. Следует заметить, что писатель всегда прав в возникающих разборках. Любой автор прозы вправе так ответить на упреки в искажении фактов жизни прототипа: ваши упреки беспочвенны, раз уж литературе вообще позволено существовать. В этом смысле прибегнуть к помощи персонажей как раз и означает совершить «человеколюбивый» жест по отношению к современникам, применить щадящий режим в отношении их прижизненной репутации. И кто, как не Гоголь, преуспел в этом – его, пожалуй, можно упрекнуть в наименьшей степени, если сравнивать с прочими классиками русской литературы.
Что же касается внутренней близости к изображаемым персонажам (пресловутого флоберовского «мадам Бовари – это я»), то писатель вовсе не обязан выказывать приязни к экспонатам своего литературного гербария – для человеколюбия существует совсем другое поприще. Писательская установка в данном случае существенно отличается от актерской, ибо актер вживается в образ, а писатель, скорее, выживает его из себя. Вообще говоря, любование выводимыми героями, изображаемыми персонажами есть момент факультативный для писателя; другое дело – исследовательский интерес и точность схватывающего зрения, способность удержать то, что проницательному зрению открылось, – без такой способности литература непредставима.
* * *
И вновь придется с грустью упомянуть о завесе непонимания, выпавшей на долю Гоголя. То есть читатели, конечно, понимали всё правильно, читая и перечитывая любимого, «зацепившего» их автора, всякий раз с неподдельным интересом внимая подробностям похождений Чичикова и перипетиям ссоры Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем. Но основатель критического реализма в России, неистовый Виссарион, отталкиваясь как раз от петербургских повестей Гоголя, выдвинул требование о повышенном внимании к «маленькому человеку», прообразом, образцом которого навсегда стал Акакий Акакиевич Башмачкин.
Благодаря критической статье Белинского, написанной ярко, хлестко и внятно (и тем не менее трактующей вопрос с точностью до наоборот), возник сначала социальный заказ, а впоследствии и миф о любви классической русской литературы к «маленькому человеку», о неизменной, обязательной симпатии настоящего писателя к подневольным винтикам могучей империи. Надо признать, что миф оказался действенным, и социальный заказ был принят к исполнению. Забота о «маленьком человеке» стала паролем прогрессивности и порукой вольномыслия, даже если ни по каким другим признакам отследить вольномыслия не удавалось.
Все так, все было – вот только непонятно, при чем тут Николай Васильевич Гоголь. На каком основании мы должны считать, что автор симпатизирует чиновнику и шинелемечтателю больше, чем, скажем, лакею Петрушке, псевдоревизору Хлестакову или тому же Плюшкину? Из текста ведь этого вовсе не следует: понятная заинтересованность в судьбе героя, в «шинельном» приключении Башмачкина – собственно, так и пишут повести, так и следует писать прозу. Никакой солидарности с чиновником низшего ранга Николай Васильевич не демонстрирует.
Следует сказать несколько слов о преемственности удивительного инферноскопического[11]11
Термин очень важен для понимания природы гоголевского таланта. Он образован от латинского inferno («потустороннее», «подземное» – термин указывал на различные способы присутствия мертвых среди живых), и если телескоп предназначен для различения удаленных объектов, то инферноскопическое зрение призвано опознавать присутствие инфернального начала, где бы оно ни скрывалось.
[Закрыть] зрения Гоголя. Именно чуткость ко всем формам присутствия нечисти, умение распознавать ее под любым камуфляжем роднит автора «Вечеров на хуторе близ Диканьки» с Гоголем времен «Шинели». Самым проницательным наблюдателем «неладного» николаевского периода российской государственности был, конечно, именно Гоголь. Вроде все идет чин чином, люди ходят в присутствие, но отсутствуют дух и человечность, та живая жизнь, которая пронизывала малороссийские страницы гоголевской прозы. Особенности инферноскопического зрения позволяли Гоголю в рутинных пространствах амортизации порядка выявлять зоны прорыва «дьяволиады», каким бы антуражем они ни маскировались. Коллежский асессор вроде бы не похож на черта с хвостом, но это еще как посмотреть… Ходячие манекены в мундирах скучны и банальны, но кто сказал, что банальность и нечистая сила несовместимы? Гоголь всю жизнь доказывал обратное, и интуиция не подвела писателя. Подкладкой знаменитой «Шинели» оказывается все та же красная свитка, знакомая нам еще по «Вечерам на хуторе…». Или, иными словами, на смену красной свитке приходит серая шинель:
«…По Петербургу пронеслись вдруг слухи, что у Калинкина моста и далеко подальше стал показываться по ночам мертвец в виде чиновника, ищущего какой-то утащенной шинели и под видом стащенной шинели сдирающий со всех плеч, не разбирая чина и звания, всякие шинели…»
Сразу же вспоминаются «Вечера…» и «Миргород», где связь с нечистой силой приводила к таким же последствиям – к неупокоенности души. Впрочем, петербургская туманно-болотная, холодная нечисть, похоже, и при жизни ведет призрачное существование (это насчет симпатий к «маленькому человеку»). Гоголь, первопроходец в исследовании метафизики Петербурга, догадался (вернее, явственно увидел), что Санкт-Петербург – это город призраков. Он и сегодня остается таким – крупнейшим шизополисом мира.
* * *
Еще один парадокс Гоголя состоит в том, что (при всей его фантастической зоркости, умении мгновенно выхватить характерную деталь, жест, гримасу) прозу писателя нельзя назвать психологической. Во всяком случае, в том традиционном смысле, в каком мы говорим о психологизме Гончарова, Толстого или Чехова.
Причина опять же в особой раскадровке мира, предстающего перед нами, зачарованными читателями Гоголя. В этом регистрируемом писателем мире ощущается большой дефицит хорошо упакованных душ – то есть таких, в которых уравновешено множество мотивов, душ людей, чьи поступки являются результатом суммирования и взаимоограничения самых различных побуждений, – а ведь именно таковы души простых смертных, по преимуществу населяющих человеческий мир. Их (наша) психика хорошо вписана в тело, ничто не торчит и не выпирает, а упаковка, как ей и положено, скрывает содержимое. Речь, мимика, а зачастую и сами поступки представляют собой иновидимость, с разоблачением которой и имеет дело психологическая проза, да и «психологизм» как таковой.
Афоризм Талейрана «Язык дан нам для того, чтобы скрывать свои мысли» при внешней парадоксальности очень похож на правду, а для писателя, претендующего на роль исследователя психологических глубин, попросту является аксиомой. Ведь, если вдуматься, психологизм в искусстве целиком основан на несовпадении явленного и скрытого, несовпадении, взывающем к разрешению загадки. В свое время Вячеслав Курицын предложил «кратчайший конспект» всех романов Льва Толстого. Конспект состоял всего из одного предложения: «Анна Пфуй, понимаемая свободу»… Что ж, при всей постмодернистской иронии здесь схвачено нечто узнаваемое. Но возникает вопрос: а возможен ли столь же лаконичный конспект всей психологической прозы вообще?