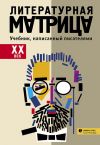Автор книги: Вадим Левенталь
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
В каком-то смысле – да, возможен, и конспект этот будет выглядеть так: «Госпожа N казалась одной, а оказалась совсем другой». То есть, в конечном счете, психологическая проза представляет собой убедительно (или не очень убедительно, в зависимости от таланта автора) выстроенный переход между «казалась» и «оказалась». Писатель составляет некие задачи, похожие на шахматные, предлагая в конце неожиданное или, допустим, изящное решение, читатель заинтересованно следит за отвлекающими маневрами, проверяя попутно свою сообразительность (сверяя поступки персонажей (а главное – их подлинные мотивы) с собственным жизненным опытом), – в итоге все при деле, обе стороны втянуты в достаточно увлекательную игру.
Игра под названием «детектив» похожа, но попроще, там решается кроссворд, в котором только вертикали и горизонтали: парикмахер был таким подозрительным, имел явные причины желать смерти бакалейщика, а садовник, напротив, имел очевидное алиби – и вот, поди ж ты, убил несчастного бакалейщика именно садовник…
Госпожа N, такая привлекательная, приветливая, казалась такой безобидной, и надо же, как все повернулось, кем оказалась или в кого превратилась в конце концов госпожа N…
Приемы подобного рода Гоголь практически не использует, и отнюдь не потому, что не владеет «соответствующей техникой». Еще как владеет, в искусстве описания быстрых, ошеломляющих трансформаций ему нет равных – вспомним превращения ведьмы в панночку, да и всю нескончаемую метаморфозу «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Причина, похоже, в том, что Николаю Васильевичу не интересны правила игры в психологизм. Данная литературная условность ему, скажем так, не близка, поэтому гоголевские персонажи суть то, чем они кажутся. Кажутся нам, а не себе самим.
Вот Хлестаков: он казался ревизором, а оказался хлыщом, проходимцем с нулевой, в сущности, психологией (как и Чичиков, продолжающий «тему» Хлестакова). Но введены в заблуждение были чиновники губернского города N, а отнюдь не читатели – мы-то с самого начала знаем, кто такой Хлестаков, что, впрочем, не мешает нам с неослабевающим интересом следить за его приключениями.
Смесь разнородных, противоречивых мотивов (смесь, которую тело и вообще внешность скрывают) оставляет Гоголя-художника равнодушным. В художественном мире Гоголя та или иная характерная черта выпирает из тела, преобразуя его по своему образу и подобию – надо сказать, такое нередко встречается и в самой жизни.
Вместо разоблачения видимости в духе кратчайшего конспекта или постепенного преображения героя Гоголь предпочитает применять другие литературные средства, правильное использование которых дает не менее ценный художественный (да и исследовательский) опыт. Например, трансформации самого тела, остающиеся скрытыми, размазанными во времени становления, но сплошь и рядом встречающиеся в сновидениях. Скажем, метаморфоза майора Ковалева далеко выходит за пределы игры «был одним, а оказался другим», однако она характерна как раз для той реальности, где ходят в присутствие и всю жизнь мечтают обрести какой-нибудь пустяк. Тогда, если пересечь кромку сна, галлюцинации, бреда, почти наверняка наткнешься на свиное рыло, замаскированное человеческим обликом, а для литературы границы этих состояний вовсе не являются священными. Художник осуществляет визуализацию там, где обычный человек, «простой смертный», ограничивается покачиванием головой и смутным, пугающим подозрением насчет внутренних раздвоенных копыт и других признаков нечистого. Речь идет о психических, а может быть, и о допсихических реалиях, тех, что были связаны и скрыты в имитируемых состояниях вменяемости, в так называемой обыденной жизни, – но если связка по каким-то причинам распадается, призраки способны вырваться наружу и начать самостоятельную жизнь. О том же, только в других терминах, говорит и психиатрия.
И вот уж об этой самостоятельной жизни, чрезвычайно интересовавшей писателя, Гоголь знал поболее робкого современного психиатра, хотя выражал это знание преимущественно на языке народной демонологии (как мы видим, используя в толковании сновидений и фрейдовские приемы). Поэтому, к примеру, Артемий Филиппович Земляника не спешит являть свои скрытые психологические глубины подобно персонажам драматургии Ибсена и Стриндберга – ему просто неоткуда их взять. Перчатка, даже вывернутая наизнанку, не превращается в сапог, и если Артемию Филипповичу и подобает какая-либо трансформация, то уж скорее он мог бы предстать в виде корзинки с земляникой.
Кстати, как известно из воспоминаний, в постановках советских экспериментальных театров 1920-х годов персонаж гоголевской пьесы «Женитьба» экзекутор Яичница как раз и представал в виде гигантской сковороды с бутафорской яичницей, выносимой на сцену, – и это, надо признать, было вполне в духе Гоголя.
Психологическое интересует Гоголя не на уровне устойчивых частиц, упакованных в кристаллическую решетку, в подобающую телесную оболочку, а на уровне свободных ядерных сил и эффектов общего, доличностного психического поля. Как уже отмечалось, охотно использует Гоголь и вариант нулевой психологии, то есть человека без свойств (задолго до задумки Роберта Музиля[12]12
«Человек без свойств» – ставшее фразеологизмом название незавершенного романа австрийского писателя Роберта Музиля (1880–1942), главный герой которого представляет собой подобие бесцветного химического реактива, способного выявить свойства других веществ. – Прим. ред.
[Закрыть]). Чичиков, безусловно, образец в этом отношении. Отсутствующую определенность он компенсирует мгновенной бессознательной мимикрией, волнами спонтанного уподобления. В беседе с Маниловым он без каких-либо усилий перенимает маниловские черты, в общении с Селифаном воспроизводит «брутальность» своего кучера и так далее.
Вообще говоря, принцип взаимной мимикрии образует микроуровень психической реальности, и при известной наблюдательности каждый может заметить невольное уподобление «повадкам» собеседника. Другое дело, что для устойчивой психики это едва различимый фон, но Гоголь особенно внимателен именно к подобным эффектам поля, тут он несравненный исследователь.
Вот и Чичиков, будучи анти-Одиссеем, совершает зеркальные действия, внешне похожие на поступки греческого героя, но внутренне противоположные и в чем-то более радикальные.
– Ты кто? – спрашивает циклоп Полифем.
– Никто, – отвечает ему хитроумный Одиссей.
Он прибегает к первичному психологическому приему, организует иновидимость, основанную как раз на важнейшем различии между «быть» и «казаться».
Чичикову не надо хитрить в этих случаях: он и есть никто – вернее, он всякий раз то, чем (кем) кажется, пустая оболочка, готовая вместить любое содержание. То есть опять же излюбленное пристанище для нечистой силы. В его метаморфозах нетрудно распознать все производные от глагола «блазнить» или «морочить», и даже Вию не на что было бы указать пальцем, главный прозорливец инфернального мира увидел бы лишь мутное зеркало пустоты.
Показательна реакция Городничего на предшественника Чичикова, Хлестакова:
«Тридцать лет живу на службе; ни один купец, ни подрядчик не мог провести; мошенников над мошенниками обманывал, пройдох и плутов таких, что весь свет готовы обворовать, поддевал на уду! Трех губернаторов обманул!..
…Эх ты, толстоносый! Сосульку, тряпку принял за важного человека!»
Неудивительно, что неразличимое для Вия оказалось таким же и для Городничего. В своих заметках по поводу премьеры спектакля Гоголь дает пояснения к фигуре Хлестакова, указывая, между прочим, на причины временного успеха его предприятия, на эффективность всеобщего морока: «Хлестаков лжет вовсе не холодно или фанфаронски-театрально; он лжет с чувством; в глазах его выражается наслаждение, получаемое им от этого (еще бы! Для Хлестакова это и есть анимация, доступная ему жизнь, другой жизни у него просто нет. – А. С.). <…> Черты роли Хлестакова слишком подвижны, более тонки, и потому труднее уловимы. Что такое, если разобрать в самом деле, Хлестаков? Молодой человек, чиновник, и пустой, как называют, но заключающий в себе много качеств, принадлежащих людям, которых свет не называет пустыми. <…> Лучше пусть всякий отыщет частицу себя в этой роли… <…> Всякий хоть на минуту, если не на несколько минут, делался или делается Хлестаковым, но, натурально, в этом не хочет только признаться…»
Хоть на минуту, хоть на несколько минут, говорит Гоголь – и следует еще добавить, что это происходит в особых фоновых состояниях, в режиме недопсихологизма, расконцентрированности, который в норме быстро берется под контроль (как раз через минуту), пресекается личностной определенностью, волей, жестом стряхивания наваждения. То есть перед нами преддверие самой психики, обычно опускаемое исследователями-психологами, знатоками человеческих душ, но чрезвычайно интересующее Гоголя.
Следуя Гоголю, мы очень часто погружаемся в первичную стихию неопределенности, в которой писатель предлагает нам задержаться. Согласно антропологу Борису Поршневу, эта исходная стихия, она же стартовая площадка антропогенеза, представляла собой взрывную волну имитативности, спонтанное, неконтролируемое подражание любой мимике и экспрессии: подражание зверям и птицам и, уж конечно же, друг другу. Приспособительный смысл такой имитации состоял в возможности проникнуть в любое сообщество животных, воспроизведя сигнал я свой. Сегодня большинство антропологов согласны в том, что такова была уникальная экологическая ниша палеоантропов, непосредственных предшественников современных людей. Волны подражания прокатывались через человеческое море, подобно приливу и отливу… Эту стихию вполне можно назвать предпсихикой, ибо она предшествовала атомизированной психике отдельных индивидов. Наследием и смутным воспоминанием об этой архаической формации является оборотничество, отражавшее способность к непрерывным трансформациям. Сегодня повальная, неконтролируемая имитативность рассматривается в качестве патологического симптома при некоторых психических заболеваниях, но одновременно и как подавляемый фоновый режим нормального общения, иногда вырывающийся из-под контроля индивидуальной психики.
При таком понимании процесса первичного очеловечивания по-иному предстает роль маски. Изначально маска вовсе не предназначалась для того, чтобы скрыть истинное лицо, – лицу еще неоткуда было взяться. Задача маски состояла в сохранении хоть чего-то устойчивого, определенного, не требующего бесконечной подстройки. Маска сохраняла, фиксировала «избранную экспрессию», давая желанную передышку как ее носителю, так и тем, кто с ней имел дело. Следовательно, маска была важным опорным элементом для психологической сборки индивида, что отражено как в латинском термине persona (маска), так отчасти и в русском слове «личина». Все остальные многочисленные функции маски так или иначе зависимы от сверхзадачи ее первичного предназначения.
Данная концепция антропогенеза пока не является общепринятой, но художественный метод и образный строй Гоголя ее удивительным образом подтверждают. Мы можем рассматривать прозу писателя как аргумент за.
С одной стороны, мы имеем стремительное оборотничество Хлестакова и Чичикова, позволяющее им внедриться в «стаю хищников». Чистота эксперимента соблюдена, ибо, с другой стороны, застывшие маски Добчинских, Бобчинских и Собакевичей облегчают подражание, провоцируют подыгрывание и уподобление. В этой изначальной, архаической стихии непременно случаются обознатушки – так дает о себе знать веселая, а иногда и не слишком веселая чертовщина, неизменно притягивающая Гоголя. В жизни нам действительно случается «на минуту» побыть Хлестаковым. Не успеваем распробовать, но читатель Гоголя получает такую возможность на все время чтения.
И единственное, что смущает не столько читателей, сколько унылых критиков, – это явная затрудненность попытки извлечь пользу. Им невдомек, что праздник чтения нужен преимущественно для самого себя, для обновления основ собственного бытия. И что же? Разве этого мало для искренней благодарности одному из величайших сказочников и рассказчиков в русской литературе?
* * *
Наконец, необходимо коснуться проблемы языка Гоголя – в самом прямом смысле, ибо недоразумений здесь не меньше, чем в приписывании Николаю Васильевичу «беспощадной социальной критики окружающей действительности». Одна из нелепостей состоит в утверждении, что поскольку молодой Гоголь писал на «малороссийском наречии», то, по крайней мере, «Вечера на хуторе близ Диканьки» должны быть причислены скорее к украинской литературе, чем к русской.
Подобное утверждение лишено оснований. Национальной литературой является все, что современники писателя, его соотечественники, могут читать без словаря, независимо от того, какой речевой колорит при этом воспроизводится. Живой язык не может быть раз и навсегда заданной системой, мы живем в нем быстротечной, меняющейся жизнью – так же как и в собственном теле. И если вдруг однажды мы обнаружим, что речь американцев для нас прозрачна без особых дополнительных усилий, это не будет означать, что мы больше не говорим по-русски (что это будет означать – другой вопрос).
Чудесный русский язык «Вечеров на хуторе…» как раз и представляет собой важнейшее свидетельство литературного дара писателя: любые затрудненности, покачивания головой, нарушения автоматизма понимания, если они работают на образ и способствуют конденсации очарованности, указывают лишь на мастерство владения языком, а стало быть, и литературным ремеслом. Коротко говоря, если мы считаем, что «Малахитовая шкатулка» Павла Бажова и романы Андрея Платонова написаны на русском языке (а на каком же еще?), то и в отношении ранней гоголевской прозы не должно оставаться никаких сомнений.
Литератор, не обладающий языковым чутьем, носит это имя по недоразумению. Писатель имеет дело с живыми порождениями языковой стихии и передает исходные ощущения от соприкосновения с языковой средой; в этом радикальное отличие настоящей прозы от всех казенных способов использования языка с их неминуемой профанацией, производящей на выходе канцелярит, сетеяз или какую-нибудь юридическую тарабарщину. Впрочем, и мертвый язык может быть изобразительным средством, позволяющим уличить, вывести на чистую воду все, что только прикидывается живым. Гоголь с его непредсказуемым любопытством часто практиковал погружение в мертвые слои языка. Пожалуй, во всей мировой литературе только Франц Кафка столь же бесстрашно и ювелирно работал с препаратами мертвого языка – ибо для этого абсолютно необходимо безупречное чувство живого (у Зощенко, на мой взгляд, не получилось с препаратами – произошла интоксикация канцеляритом, которую иной читатель способен преодолеть, а иной и нет).
Что касается определения романа как жанра, то тут языковая полифония не менее значима, чем композиция. «Мертвые души» – это еще и симфония языка, шедевр абсолютного языкового слуха, отсюда и авторское жанровое определение – поэма. Если рассматривать последовательность музыкальных сравнений, то «Вечера…» – это цикл чудесных лирических миниатюр, где общий скрипичный знак (скрип чумацких возов, скрип снега под Рождество) вынесен за скобки, так что читатель может упиваться воссозданной средствами русского языка малороссийской речью (чего не мог бы сделать украинец, не знающий русского, если, конечно, такие существуют). «Миргород» – блестящий сборный концерт, где номера выстроены по контрасту (ну хотя бы «Тарас Бульба» и «Старосветские помещики»). А «Мертвые души» – это именно полифоническое полотно, в котором мощь русского языка явлена воочию, вихрь, где зарождаются отдельные языковые субъекты, ведущие свою партию, где время от времени вступает хор, его поддерживает оркестр авторских интонаций, и в итоге как раз и возникает полномасштабная речевая панорама России.
И тут недальновидно было бы спрашивать, насколько итоговая картина соответствует исторической действительности, ибо безотносительно к историческому измерению ее действенность, а стало быть, и действительность существуют сейчас. Бричка Чичикова оказалась удивительно надежным транспортом, не уступающим ни кораблю аргонавтов, ни ладье Харона.
Татьяна Москвина
Ум – хорошо, а сердце лучше
Александр Николаевич Островский
(1823–1886)
«Наш Боженька» – так звали Островского актеры Малого театра. И до чего же идет ему это ласковое прозвище, особенно если вспомнить портрет кисти Перова, где Александр Николаевич, в халате на беличьем меху, ясными голубыми глазами энергично и твердо смотрит в свою, уготованную ему вечность. Чувствуется недюжинная сила, решительность, всё пронизывающий ум – и никакого подвоха, хмури там, обиды, душевной смуты. Весь открыт, весь явлен в своем гениальном простодушии.
Выскочи в нашей развратной действительности какой-нибудь резвый шут, возжелавший «разоблачить» почтенного классика, выкопать откуда-нибудь «другого Островского» – дескать, писали, Александр Николаевич, одно, а творили иное! – гнусное предприятие сие пойдет прахом. Впрочем, и не смогут черти подойти близко к нашему драматургу – отбросит ударной волной, будут на расстоянии, терзая беззащитные тексты смрадными лапками, бормотать свою околесицу: мол, пьесы устарели, нафталин какой-то, купцы какие-то…
В человеческом лице Островского и в его личной жизни нет ни единой дурной черты. Скажем, было в конце 50-х годов: жил с Агафьей Ивановной, невенчанной женой, и влюбился отчаянно в актрису Любовь Никулину-Косицкую, метался, страдал, видел, как страдала Агафья Ивановна, но никого не предавал, не обманывал – бился в тугом житейском узле да сочинял драмы, где любящая и страдающая женщина воспета им беспримерно, десятки раз. А венчанной женой Островского стала в конце концов Марья Васильева, с которой он и прожил до гробовой доски: желанная Никулина-Косицкая, для которой была «Гроза» написана, его не полюбила – ну, на то они, наши благодетели, и поставлены. (Чтоб из комфорта выдирать душу в космос…)
Самомнение? Да, ответил один раз Боборыкину, сказавшему, что вот, Александр Николаевич, у вас в этой пьесе такая-то роль превосходная, – «у меня всегда все роли превосходные». Оно конечно, нескромно. Да ведь правда чистая! И Боборыкину (писателю четвертой категории) грамотно дано по носу – не лезь со своей хвалой. Льву Толстому Островский бы так не ответил, да Лев Толстой так бы и не сказал.
Толстой Островского уважал сильно. Принес однажды на просмотр пьесу о нигилистах, хотел на сцену пристроить, и непременно чтоб сразу, в этом сезоне. «Что торопишься – боишься, поумнеют?» – усмехнулся Островский…
Про то, что он исписался, Островский читал о себе начиная с 1860-х годов, четверть века еще исправно поставляя театру одну великолепную пьесу за другой. Две в сезон – а иначе не выходило жить сочинительством, содержать имение Щелыково, в котором со своим семейством обитал с мая по октябрь. Для отдыха и приработка переводил – Шекспира, Гольдони, Гоцци, приговаривая, что это для него «вроде вязанья». Конечно, все иноземные персонажи в его энергетическом поле начинали отливать чем-то сильно русским. (Комедия Шекспира, известная нам как «Укрощение строптивой», в переводе Островского называется «Усмирение своенравной».) Ни в какую полемику с развязными рецензентами драматург не вступал. Правда, Добролюбова, сделавшего для Островского все возможное (растолковал для прогрессивной общественности смысл его драм!), Островский письменно поблагодарил. Есть черновик письма. Добролюбов, талантливый критик, был из другой литературной партии, мечтал о счастливых преображениях России по западному образцу и, конечно, постарался «присвоить» столь огромную литературную величину, как Островский. Славянофилы, стоявшие за естественное, от корней, развитие нации, видели в Островском чудесную поэзию корневой русской жизни – западники влегкую обнаружили «самодуров» и «темное царство».
Островский в диспуты не вступал. Считайте как хотите. «Чужому» критику вежливо за труды сказал спасибо. В молодости он был близок славянофильскому кругу идей, но скоро стал отдельной планетой, самостийным источником слов, в которых разнородные и всякого калибра интерпретаторы находили волнующие их смыслы. Так еще при жизни драматурга повелось и так велось и далее – ни один театральный новатор не обходился без его старых добрых текстов. Драматургия Островского пережила свое время, как переживает его всякая отлично сделанная вещь.
У драматурга не сложилось особых отношений с властями – был раз на приеме у Александра III, получил ценный подарок, и все. Уваровскую премию (премию Министерства просвещения) присудили ему за «Грозу» – так кто еще, интересно, мог претендовать в том году на эту премию…
Свет. Один свет. Да не может такого быть!
Да вот было.
Театральный критик А. Кугель, нисколько не склонный к почтительности, написал о нем в 1907 году: «Есть ли еще в русской литературе писатель более добрый, менее эгоистический, нисколько не ломающийся и совершенно чуждый лицемерия, как Островский? Для меня лично – это вопрос…»
И для меня вопрос, только я, пожалуй, могу спустя столетие ответить: нет, такого писателя больше в русской литературе нет. Среди гениев. (Среди талантов первой величины есть – Евгений Шварц и Александр Володин.)
До Островского существовали отдельные пьесы: две – Фонвизина, одна – Грибоедова, две – Пушкина (если цикл «Маленьких трагедий» считать за одну пьесу), две – Гоголя. После Островского – остался огромный репертуар всех жанров на столетия вперед. Сотни ролей для актеров и актрис (заметим, что актрисам до Островского вообще было почти что нечего играть в русском репертуаре!). Свершить такое и не потерять самого простейшего, самого немудреного природного добродушия (ни с одним из собратьев по перу не поссорился за жизнь, а знаком был почти со всеми), симпатии к людям, вкуса к жизни и привычку постоянной заботы о своем деле – кажется невероятным, и вот же, повторяю, вышло, сбылось, удалось. Точно он и не гений. А он гений.
Мне нередко доводилось видеть людей, которые неожиданно вышли за круг привычного знакомства с творчеством А. Н. Островского, а круг этот очерчен довольно крепко весьма коротким списком самых знаменитых его пьес. Этих пьес не больше двенадцати – пятнадцати: именно их чаще всего переиздают, играют на сцене, экранизируют, цитируют и читают.
К этой активно живущей и воздействующей на публику обойме пьес относятся «Свои люди – сочтемся!» («Банкрот»), «Доходное место», «Гроза», «Лес», «Волки и овцы», «Женитьба Бальзаминова», «Бешеные деньги», «На всякого мудреца довольно простоты», «Горячее сердце», «Последняя жертва», «Бесприданница», «Таланты и поклонники», «Правда – хорошо, а счастье лучше», «Без вины виноватые» и (благодаря опере Римского-Корсакова) «Снегурочка». Так вот, те, кто не поленился заглянуть в остальное творческое наследие Островского, получают сильный импульс изумления и просветительского ажиотажа: пьесы, не столь обласканные признанием, оказываются нисколько не хуже увенчанных славой! Среди произведений, на которые легла временная тень забвения, такие шедевры, как трагедия «Грех да беда на кого не живет», оригинальнейшая трагикомедия «Не было ни гроша, да вдруг алтын», поразительные исторические хроники Смутного времени («Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский», «Тушино», «Козьма Захарьич Минин, Сухорук»), удивительнейший «Воевода» («Сон на Волге»), несказанной красоты поздние драмы женской души «Сердце не камень», «Невольницы»… Или глубокая, потрясающая мелодрама «Пучина», в свое время приведшая в восторг Антона Павловича Чехова. «Пьеса – удивительная! – писал он, побывав на спектакле, – а последний акт – это что-то такое, чего бы я и за миллион не написал. Если бы у меня был свой театр, я бы ставил там один этот акт…»
(Островский и Чехов знакомы не были – Чехов начал свое поприще, когда «Боженька» уже заканчивал свое. Заметим, что «Пучина» построена на движении времени, приводящего восторженного юношу от иллюзий юности к безумию и нищете, – нет ли здесь творческой связи с движением времени в пьесах Чехова?) А как хороши маленькие легкие «картинки из жизни московского захолустья» вроде «Старый друг лучше новых двух» или «Тяжелых дней»!
Везде, переливаясь кудесным шитьем радужной русской речи, сверкают узорчатые лица и физиономии самобытных русских людей, Россия Островского, русский мир Островского. В него не влюбляешься, чтоб потом разочароваться и уйти к другим, более обольстительным мирам, – его любишь и в нем живешь. Начитаешься, бывало, всякой дряни – и вздохнешь: а пойти, что ли, к Островскому… И как после помоев клюквенного киселька испил!
Вот открываю «Не было ни гроша, да вдруг алтын». Там на краю Москвы рядом живут три семейства разного имущественного состояния – Епишкины, Мигачевы, Крутицкие. Захаживает к ним квартальный Тигрий Львович Лютов, его дело – следить за порядком, фасадом жизни. «Загороди, братец, – говорит он купцу Епишкину о заборе. – <…> Разве я тебя не жалею? Я тебя ж берегу; деревья у тебя в саду большие, вдруг кому-нибудь место понравится: дай, скажет, удавиться попробую». «Верно изволите говорить, – отвечает Епишкин, – местоположение заманчивое для этого занятия. Такой сад, что ни на что окромя и не годен. Я уж и то каждое утро этих самых фруктов поглядываю». А тут выйдет его жена Фетинья Мироновна, да и поведает миру (то есть соседке): «Я, матушка, никогда не закусываю, этой глупой привычки не имею». – «Вы такая умная, такая умная, что уж я и руки врозь». – «Почему я умна? <…> Потому я женщина ученая. <…>…Я себе все ученье видела от супруга. <…> Ты спроси только, чем я не бита. И кочергой бита, и поленом бита, и об печку бита, только печкой не бита. <…> Женщина я добрая, точно… если б мой не вздорный характер, дурацкий, что готова я до ножей из всякой малости, кажется, давно бы я была святая».
Ну уж этих интонаций ни с какими не спутаешь – Островский. Обратите внимание – бытность, которую он «живопишет», по сути дикая, темная, страшненькая: Епишкин с утра пьяный, торгует краденым, жена его тупая стерва, а в саду, который «ни на что окромя не годен», как висельников принимать, действительно повесится скряга Крутицкий. Но в самой музыке этих мнимокорявых, расписных, ужасно смешных речей таится преображение, спасение этой жизни. Свет обнимает тьму так ласково, так добродушно, что ты въявь видишь ее – а не страшно. Потому что тьма теперь заключена в свет и даже блистает в этой оправе!
В пьесах Островского есть много горького, несправедливого, печального в судьбах самых заветных и любимых героев. «Лгать я не согласен», – напишет он однажды, когда ему станут советовать переделать историческую пьесу на иной лад, более патриотический и ободряющий. Он и не лгал никогда, иначе бы мы не знали русский быт XIX века «по Островскому». Но правда характеров и судеб соединена с необычайной сердечностью и пронизана дивной музыкой. Островский – «лого-композитор», причем на прочной гармонической основе. Сами послушайте:
«Кабы эту чаду где бревном придавило, кажется б в Киев сходила по обещанию» (Матрёна Курослепова – о своем любовнике Наркисе, «Горячее сердце»);
«Уж коли приказывать, так надо построже, а коли просить, так надо поучтивее» (Флор Прибытков – Юлии Тугиной, приехавшей занять у него денег для сожителя, «Последняя жертва»);
«Комедианты? Нет, мы артисты, благородные артисты, а комедианты – вы. Мы коли любим, так уж любим; коли не любим, так ссоримся или деремся; коли помогаем, так уж последним трудовым грошом. А вы? Вы всю жизнь толкуете о благе общества, о любви к человечеству. А что вы сделали? Кого накормили? Кого утешили? Вы тешите только самих себя, самих себя забавляете» (трагик Несчастливцев – своей тетушке-помещице и ее гостям, «Лес»);
«Тяжелые времена, матушка Марфа Игнатьевна, тяжелые. Уж и время-то стало в умаление приходить… Конечно, не мы, где нам заметить в суете-то! А вот умные люди замечают, что у нас и время-то короче становится. Бывало, лето и зима-то тянутся-тянутся, не дождешься, когда кончатся; а нынче и не увидишь, как пролетят. Дни-то и часы все те же как будто остались; а время-то, за наши грехи, все короче и короче делается» (странница Феклуша толкует с Кабанихой, «Гроза»).
Энергия, сила, ритм, ноты юмора и красочной риторики… Собственно – русская разговорная речь в ее совершенстве.
И эдак можно километрами выписывать – ведь, слава богу, отец русского репертуарного театра написал сорок девять (по другим подсчетам – сорок семь) оригинальных пьес (да еще несколько созданы им в соавторстве с другими драматургами). Разница в числах происходит оттого, что исследователи не договорились твердо, считать ли полноценными оригинальными пьесами вторые редакции, которым автор решил подвергнуть уже написанные сочинения – пьесу «Козьма Захарьич Минин, Сухорук» и «Воеводу». Но в любом случае объем свершенного кажется грандиозным Лого-Собором титанических пропорций.
Как это ему удалось?
Изучая жизнь Островского, пожалуй, находишь в ней следы сознательной (и подсознательной?) «программы энергосбережения». Смолоду выбрав свой путь, Островский весь сосредоточился на создании драматических произведений и подчинил этому всю бытность свою. В его наследии нет ни публицистики, ни критики (в молодости написал одну рецензию – на повесть Евгении Тур «Ошибка»), он не вступал в полемику, не отвечал на статьи, не вел дневников (точнее говоря, вел очень недолго, только в юности). Ничего сверх художества. Из нехудожественных сочинений Островского известны только его многочисленные записки об улучшении дел в русском театре. Есть свидетельства, что драматург с испугом и настороженностью отнесся к проповеднической и учительской деятельности Льва Толстого: «Лев, ты романами и повестями велик, утомился – отдохни, а что ты взялся людей мутить…»
Духовный и материальный быт и обиход русских людей – вот поле, которое возделывал Островский, создавая из России реальной Россию авторскую. Единственное вроде бы исключение – феномен «Снегурочки», пьесы, живописующей нам быт и обиход прарусского сказочного народа берендеев, где на правах персонажей действуют боги и полубоги. Но и там создан плотный, пусть и сказочный быт, с обыденной жизнью, правилами и ритуалами, и Весна-красна и Мороз – родители Снегурочки – сердито ругаются в прологе, как то сделали бы любые бывшие муж и жена, по-разному смотрящие на воспитание единственной дочери. Ничего худосочно-абстрактного, риторически-отвлеченного. А ведь этой пьесой Островский дописывал недосложенную языческую мифологию своего народа, и именно ему мы обязаны появлением непременных фигурантов наших зимних праздников – я имею в виду Деда Мороза и Снегурочку (которая отчего-то стала внучкой, а не дочерью Мороза). Однако, проделав столь грандиозную работу, как сложение солярного мифа (основанного на особом отношении русских к теплу и солнцу, которые в русском мире не даются даром, а появляются после долгого ожидания), Островский этого своего значения не осознавал, и в его чудесной пьесе нет и следа специального идейного напряжения.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!