Текст книги "Манифесты русского идеализма"
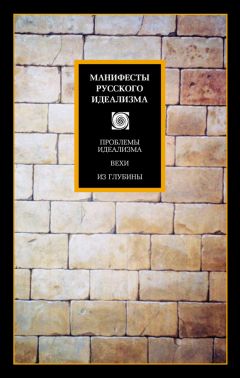
Автор книги: Вадим Сапов
Жанр: Философия, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 29 (всего у книги 92 страниц) [доступный отрывок для чтения: 30 страниц]
Все это теоретическое построение Криза для объяснения гносеологического значения объективной возможности совершенно ошибочно, так как прежде всего в основу его положено неправильное определение понятия причины. С понятием сложной причины не оперирует ни одна наука, а все они исследуют только изолированно взятые причинные соотношения. Поэтому условия и обстоятельства, от которых зависит действительное осуществление объективно возможного, являются элементами вполне самостоятельных причинных соотношений, а не частями одной сложной причины. Но даже независимо от той или другой конструкции причинного объяснения явлений представленное Кризом определение гносеологического значения объективно возможного совершенно неверно. Как бы мы ни называли условия и обстоятельства, от которых зависит осуществление объективно возможного, т. е. признали ли бы мы их самостоятельно действующими причинами или частями одной общей причины, несомненно то, что при воздействии этих условий или обстоятельств объективно возможное необходимо совершается, при отсутствии этого воздействия объективно возможное также необходимо не совершается. Если бы, следовательно, процесс познания, производимый посредством теории вероятности, направлялся на исследование этих условий, то он давал бы в результате определение того, что необходимо совершается (или необходимо не совершается)[253]253
В своем первом труде Вл. И. Борткевич, профессор статистики в Берлинском университете, очень хорошо отметил все те трудности, которые возникают при попытках свести результаты, получаемые при обработке статистических данных, к причинному объяснению явлений. К сожалению, в последующих своих сочинениях он не разрабатывал уже раз намеченных им отклонений этого типа исследований от естественнонаучных и теперь, по-видимому, больше склоняется к точке зрения Криза. См. L. von Bortkewitsch, Kritische Betrachtungen zur theoretischen Statistik, Conrad’s Jahrbücher, 3 Folge, Bd. VIII, X, XI (особенно Bd. X., S. 358-360). Cp. L. von Bortkewitsch, Die erkenntnisstheoretischen Grundlagen der Wаhrscheinlichkeitsrechnung, ib., B. XVII, u. Eine Entgegnung, ib., B. XVIII. Хотя я стою на совершенно другой точке зрения, чем Вл. И. Борткевич, тем не менее научные беседы с ним несомненно способствовали выработке моих собственных взглядов на эти вопросы. Поэтому считаю своим долгом выразить ему здесь свою искреннюю благодарность.
[Закрыть]. Вывод этот вполне согласен с единственно истинным взглядом на исследование причинной связи между явлениями, как на определение того, что совершается необходимо. Классификация же причинных связей на необходимые и возможные совершенная нелепость104*.
Правда, ввиду того что определение «возможный» относится как бы ко всей совокупности явлений, образующих причинно связанное соотношение, и осуществление или неосуществление всей совокупности не находится в зависимости от того, что в этой совокупности известные явления причинно, т. е. необходимо, связаны, – ввиду этого представляется как бы допустимым такое сочетание понятий, как возможная причинная связь. Но мы должны принять во внимание, что эта совокупность в свою очередь причинно обусловлена, и мы можем рассматривать ее только изолированно, но не имеем права брать ее вне причинной связи и предполагать ее лишь возможной. Иными словами, пока мы рассматриваем явления в их причинных соотношениях, мы должны смотреть на них как на необходимые и не имеем права рассматривать их как возможные. Между тем перерыв в непрерывной цепи причинно, т. е. необходимо, связанных явлений допустим только с точки зрения антропоморфического понимания причины и причинной связи, при котором каждая отдельная причина как бы начинает собою ряд, а следовательно, она сама по себе ни необходима, ни возможна, а становится тем или другим, смотря по обстоятельствам. Представление о сложной причине и является одним из типичных случаев антропоморфического понимания причинной связи105*.
Тем не менее Криз был вполне прав, когда он утверждал, что осуществление объективно возможного зависит от некоторых условий, так как это утверждение есть только применение к частному случаю общего положения, что все совершающееся, а в том числе и объективно возможное, причинно обусловлено. Но он был совершенно не прав, когда при анализе и определении объективно возможного вообще принимал во внимание это соображение о причинной зависимости осуществления объективно возможного от некоторых обстоятельств. В теореме, определяющей вероятность осуществления объективно возможных случаев, условия или обстоятельства, от которых зависит это осуществление, не являются неизвестным, которое надо найти, а напротив, совершенно отсутствуют. Даже более, именно благодаря тому, что эти условия или обстоятельства не являются объектом исследования, а остаются вне процесса исследования, само исследование направляется на определение того, что объективно возможно, так как в противном случае исследование давало бы в результате определение того, что совершается необходимо. Поэтому если в теоретическом построении Криза для объяснения и характеристики значения понятия объективно возможного гносеологическая ошибка заключается в неправильном антропоморфическом представлении причинной связи, то формально-логическая ошибка его заключается в том, что он положил в основание своего объяснения и характеристики объективно возможного такие данные, которые не играют никакой роли при исследовании объективно возможного.
Несмотря на все это, Кризу принадлежит бесспорная заслуга открытия важного значения исследования объективной возможности путем исчисления вероятности[254]254
В русской литературе есть превосходная статья по истории и теории рассматриваемого здесь вопроса, принадлежащая А.А. Чупрову, который, в общем примыкая к Кризу, вполне самостоятельно развивает и дополняет намеченную Кризом точку зрения. См. «Энциклопедический словарь» Брокгауза и Ефрона, т. XXI, I, «Нравственная статистика».
[Закрыть]. Он только не мог, как естествоиспытатель, эмансипироваться от естественнонаучного типа мышления и поспешил связать исследование объективно возможного с причинным объяснением явлений. Между тем ценность процесса познания, дающего в результате определение объективно возможного, в том и заключается, что этот путь познания не направляется на установление причинных связей. Вместо определения причинных соотношений между явлениями этим путем исследуются сами случаи единственных явлений. Таким образом, мы имеем здесь вполне оригинальные приемы исследования, приводящие к столь же оригинальным результатам106*.
Но значение применения теории вероятности к обработке статистических материалов и определения этим путем объективно возможного в социальных происшествиях гораздо больше, чем можно предполагать с первого взгляда. Здесь мы впервые имеем вполне точную науку, пользующуюся даже математическими методами, и тем не менее и по характеру обрабатываемых данных, и по получаемым результатам явно и резко уклоняющуюся от типа естественных наук. Поэтому в развитии научной мысли, клонящемся теперь к тому, чтобы тип естественнонаучного мышления был превзойден в своем исключительном и самодержавном господстве и чтобы наряду с ним было признано равное право за всеми остальными типами научного и вненаучного, т. е. метафизического мышления и творчества, – в этом происходящем на наших глазах развитии научной мысли новому типу научного познания, определяющему объективно возможное в социальных и других происшествиях, суждено сыграть видную роль[255]255
В непродолжительном будущем я надеюсь обстоятельнее разработать затронутые здесь вопросы в особом исследовании на немецком языке. При этом я буду иметь возможность более подробно развить и обосновать высказанные здесь мысли общего характера107*.
[Закрыть].
Выше мы сопоставили понятие объективной возможности, при помощи которого оперируют статистические исследования социальных явлений, с фактической возможностью, которая играет такую громадную роль в ежедневной прессе и обыденной жизни. Сходство между этими обоими понятиями возможности заключается, однако, только в том, что оба они применяются к единичным явлениям. Во всем остальном эти понятия возможности совершенно различны. В то время как определение объективной возможности является результатом применения вполне точных научных методов к обработке известным образом добытых и сгруппированных фактических данных, указание на фактическую возможность в ежедневной прессе и обыденной жизни не имеет научного значения и является лишь известного рода констатированием данных обстоятельств. Даже характер единичности далеко не одинаков в том и другом случае, так как понятие объективной возможности применяется к случаям, которые, несмотря на то, что они единичны, рассматриваются, как повторяющиеся, между тем как фактически возможным обозначается обыкновенно только безусловно единичное в своей индивидуальной особенности продолжение или последствие определенного события. Тем не менее единичность тех явлений, к которым применяются эти понятия возможности, настолько характерная черта их, что с формально-логической точки зрения вполне допустимо теоретическое сближение между ними.
Эта наиболее характерная черта рассматриваемых понятий возможности вполне определяет также отношение их к нашей более специальной теме. Ясно, что не эти понятия возможности оказали такие громадные услуги русским социологам при решении разрабатывавшихся ими социологических проблем вообще и социально-этических в частности. Относительно объективной возможности не может быть никакого сомнения, так как это понятие получается в результате обработки статистического материала при помощи теории вероятности. Что же касается фактической возможности, то мы уже раз отвергли предположение, что г. Михайловский, а следовательно, и другие русские социологи оперируют при помощи того понятия возможности, которое играет такую большую роль в ежедневной прессе. Кроме того, это понятие, как ненаучное, не могло быть вполне целесообразным орудием для решения наиболее принципиальных вопросов социологии и этики. Тем не менее, благодаря своей обыденности, это понятие неоднократно вторгалось в теоретические построения русских социологов, и мы даже думаем, что оно сыграло гораздо большую роль, чем заслуживало бы по своим внутренним достоинствам.
Если мы захотим узнать более внутренние и глубокие причины и побуждения, заставившие русских социологов конструировать свое основное понятие возможности, то мы должны будем сконцентрировать все разнообразные вопросы, подвергавшиеся их обсуждению с точки зрения возможности, в двух основных проблемах. Первая из этих проблем теоретического характера, а вторая – практического. Первая и основная задача, которую поставили себе русские социологи, заключалась в решении вопроса об активном воздействии человека или личности на социальный процесс; или, выражая эту задачу в более общей формуле, мы должны будем сказать, что русские социологи стремились прежде всего к теоретическому примирению идеи свободы с необходимостью. Вторая задача заключалась в оправдании этической оценки социальных явлений, которую человек производит гораздо раньше, чем возникает вопрос о праве на нее108*. Обе эти задачи решаются или с трансцендентальной нормативной точки зрения, или метафизически; третьего позитивно-научного и эмпирического решения их не существует. Так как, однако, нормативная точка зрения была не только недостаточно известна г. Михайловскому и следовавшим за ним русским социологам, но и чужда всему духу их теоретических построений, то они и давали решения этих двух социально-этических проблем, основанные на метафизических предпосылках.
Конечно, русские социологи никогда не признались бы в том, что то понятие возможности, при помощи которого так легко и просто решались ими самые трудные социально-этические проблемы, насквозь проникнуто метафизическим духом. Очень вероятно, что они даже сами не сознавали того, насколько метафизична их основная теоретическая конструкция. Благодарную службу им, несомненно, сослужило в этом случае понятие фактической возможности. Вследствие чрезвычайно частого применения его в обыденной жизни оно очень естественно маскировало истинный метафизической смысл другого, конструированного ими понятия возможности и скрывало этот смысл от умственного взора читателя. Эта близость понятия фактической возможности к понятию метафизической возможности только подтверждает тот несомненный факт, что взгляды, взятые непосредственно из жизни, гораздо ближе к метафизической постановке вопросов, чем научные теории[256]256
Интересно, что среди криминалистов при решении того же вопроса о свободе и необходимости для выяснения специальных уголовно-правовых проблем возникло совершенно тождественное направление мышления. Так как поведение человека причинно обусловлено и потому необходимо, то казалось, что для ответственности за известные поступки вообще и уголовной в особенности нет места. Ввиду этого некоторые ученые предложили признать теоретическим основанием ответственности возможность поступить так или иначе. Подобно русским социологам они настаивают на эмпирическом характере этого понятия, не сознавая его метафизических основ.
[Закрыть].
Но выработав свое понятие метафизической возможности, русские социологи не изобрели ничего нового, так как это понятие было известно в метафизике задолго до них. В начале статьи было уже упомянуто, что ровно двести лет тому назад, в конце XVII и в начале XVIII столетия, потребовалось решение той же проблемы о свободе и необходимости и связанных с нею этических вопросов, и тогда понятие метафизической возможности послужило основанием для решения их109*. Если, однако, проблема и ее решение были одни и те же, то повод, из-за которого, и материал, на основании которого приходилось давать решение, были другие. Тогда впервые праздновало свои триумфы причинное объяснение явлений природы, а применение этого объяснения не только к физическим, но и к физиологическим явлениям резко выдвинуло вопрос об отношении души к телу. В зависимости от решения этого вопроса находилось решение целого ряда этических проблем, которые еще настоятельнее требовали его. Нужно было обосновать свободу воли, примирить существование зла и страдания с верой в высшее всеблагое существо и доказать окончательную победу духа и добра над материей и злом. Разрешить эти вопросы, опираясь, между прочим, также на понятие метафизической возможности, пытался в свое время Лейбниц. Надо признать однако, что эта часть метафизических построений Лейбница самая слабая не только в его системе, но и вообще в ряду всех метафизических учений его эпохи. Между тем русские социологи, переступив при решении занимавших их социально-этических проблем границы позитивной науки и обратившись к метафизическим построениям, возобновили именно это самое слабое из метафизических учений. Превосходный анализ и оценку всех слабых сторон этого, созданного Лейбницем, прототипа всякого учения, построенного на понятии метафизической возможности, дал в своей «Истории новой философии» Виндельбанд. Так как нам со своей стороны пришлось бы при оценке значения понятия метафизической возможности и при разоблачении ошибочных заключений, к которым оно приводит, повторять то, что уже сказал Виндельбанд, то мы позволим себе привести его собственные слова.
Все метафизическое учение Лейбница покоится на его теории познания, в основание которой положено деление истин на вечные или необходимые и фактические или случайные. Изложив эту теорию познания, Виндельбанд продолжает: «соответственно своему понятию истины Лейбниц считал всякое содержание необходимых истин необходимо существующим, всякое же содержание случайных истин случайно существующим. Все, что представляется логически (begrifflich) очевидным вследствие невозможности противоположного, является необходимым в метафизическом смысле. Напротив, все, что существует только фактически, должно быть признано случайным, хотя бы существование этого факта и имело достаточное основание в других явлениях. В этом отношении Лейбниц выказывает себя совершенным рационалистом, несмотря на принятие им эмпирических принципов; даже более, именно благодаря этому различные виды человеческого познания превращаются у него по Платоновскому образцу в различные виды метафизической действительности. Таким образом, его критерий, который должен устанавливать различия между необходимым и случайным, является исключительно логическим критерием невозможности противоположного. Высший принцип этой философии чисто рационалистический принцип логической необходимости (Denknothwendigkeit). Явления признаются причинно обусловленными, но, несмотря на это, они рассматриваются как случайные, так как нет логического основания признать противоположное им невозможным. Безусловная же необходимость, присущая только вечным истинам, заключается исключительно в том, что эти истины необходимо должны мыслиться; их необходимость, следовательно, чисто логическая (eine begriffliche). Эта система не знает другой необходимости бытия кроме логической (des Denkens): что должно безусловно необходимо мыслиться, существует тоже безусловно необходимо; что же мыслится только условно, существует тоже только условно. Составляющее сущность рационализма гипостазирование форм мышления никогда еще не выступало с такой обнаженной очевидностью, как у Лейбница, и это прежде всего обнаруживается в его обращении с понятием возможности. Содержание каждого истинного положения, развивает он свою мысль, должно быть возможно: действительность его, однако, покоится или на нем самом, и где это в самом деле так, там противоположное невозможно, а само содержание этого положения безусловно необходимо; или же его действительность имеет своим основанием нечто другое, и тогда возможна его противоположность, а само положение только относительно необходимо. Таким образом, понятия возможности и необходимости получили у Лейбница такое многоразличное и искусственное значение, что в дальнейшем развитии немецкой философии они повели к страшной путанице[257]257
Виндельбанд, несомненно, имеет здесь прежде всего в виду те примеры переносного и крайне отдаленного значения, в котором слово «возможность» употреблялось Кантом. Кант всю свою жизнь преподавал философию Лейбница в переработке Вольфа и других философов, и потому в своих сочинениях, в которых он излагал свою собственную философию, он никогда не мог вполне освободиться от лейбницевской терминологии, но в свою очередь часто так свободно обращался с отдельными терминами, что они совершенно утрачивали свой первоначальный смысл. Так, например, в своих «Prolegomena» он ставит целый ряд вопросов вроде: «Wie ist die Naturwissenschaft möglich?», причем «möglich» всегда обозначает «berechtigt»110*. По-русски эти вопросы следует переводить словами: «Как оправдать естествознание?», «Как оправдать метафизику?» и т. д.
[Закрыть]:
особенно много поводов к бесчисленным затруднениям и причудливым изворотам мысли подало выше отмеченное противопоставление безусловной и условной необходимости. Прежде всего оно воспитало предрассудок, как будто бы высшим и самым ценным критерием для познания действительности является невозможность противоположности; с другой стороны, оно послужило причиной еще более опасного заблуждения, будто всякому явлению действительности должна предшествовать его логическая возможность. Уже сам Лейбниц обозначал необходимые истины первичными возможностями (primae possibilitates) и черпал отсюда мысль, что в основе действительно существующего мира лежит масса возможностей, между которыми был произведен выбор, объяснимый только фактически. Таким образом, истинное отношение между понятиями возможности и действительности было прямо перевернуто. В то время как все, что мы называем возможностями, является лишь мыслями, которые возникают на основе существующей действительности, в этой системе действительность оказывается случайным фактом на фоне (Heitergrund) предшествующих ей возможностей»[258]258
W.Windelband, Die Geschichte der neueren Philosophiе, 2 Aufl., Bd. I, S. 464-466. Vergl. Chr. Sigwart, Logik, 2 Aufl., Bd. I, 238-240 и 271-272. W. Wundt, Logik, 2 Aufl., B. I, S. 501. Курсив везде наш.
[Закрыть].
Но еще большее значение, чем при характеристике мирового порядка, Лейбниц приписывал предшествующим возможностям при оправдании его несовершенств. «Ипостазирование111* мышления, – говорит Виндельбанд, – которое во всем составляет конечный результат учения Лейбница, получает свое наиболее яркое выражение в теории, замыкающей его оптимистические воззрения. Ибо в заключение возникает вопрос: почему всемудрое, всеблагое и всемогущее божество создало мир монад112*, из несовершенства которых необходимо должны были вытекать их греховность и их страдания? Если создание мира было подчинено произволению всеблагого божества, то почему же оно не создало мир, исполненный такого чистого совершенства, которое исключало бы всякий грех и всякое страдание? В том ответе на этот вопрос, который дает Лейбниц, соединяются все нити его мышления, и в этом пункте его теория познания непосредственно сливается с его метафизикой. Конечно, говорит он, существование зла и греха в мире есть случайная истина: мыслим другой мир, даны разнообразнейшие комбинации для развития бесконечного разума божества, и существует, очевидно, бесконечное количество возможных миров. Что бог из этих возможных миров выбрал тот, который действительно существует, чтобы именно его наделить бытием в действительности, должно быть объяснено, если принять во внимание всемудрость, всеблагость и всемогущество бога, только путем предположения, что существующий мир был лучшим из возможных миров. Если этому миру все-таки присущ признак несовершенства, то следует предположить, что всякий другой из возможных миров был бы еще более несовершенен, а следовательно, что без несовершенства вообще невозможен мир. В самом деле, Лейбниц настаивает на этом положении, утверждая, что несовершенство составляет необходимый элемент в понятии мира. Ни один мир не мыслим без конечных существ, из которых он состоит; конечные же существа именно потому несовершенны, что они конечны. Поэтому, если вообще следовало (sollte), чтобы мир был создан, а он необходимо должен (musste) был быть создан, чтобы вся полнота божественной жизнедеятельности нашла себе проявление, – то он должен был состоять из конечных и несовершенных существ. Это несовершенство конечных существ есть метафизическое зло; последнее, в свою очередь, вечная, необходимая, безусловная истина, противоположность которой не может быть мыслима. В противоположности этому зло нравственное и зависящее от него физическое зло являются лишь фактическими истинами, коренящимися лишь в божественном выборе (Wahl). Этот выбор был, однако, обусловлен благостью бога, который из всех возможных несовершенных миров призвал к действительности наименее несовершенный. Совершенство мира поэтому не абсолютно, а только относительно. Существующий мир не есть хороший мир, а только лучший из возможных миров.
Божество по этому учению не обладало при творении мира произвольной свободой, а было связано известной возможностью, которая была дана в его бесконечной мудрости. Бог охотно создал бы вполне хороший мир, но его мудрость позволяла ему создать только лучший из миров, потому что вечный закон требует, чтобы каждый мир состоял из конечных и несовершенных вещей. Божественная воля тоже подчинена фатуму независящих от нее вечных идей, а мы должны отнести на счет присущего им свойства безусловной необходимости то, что бог при всем своем добром желании не мог создать мир абсолютно хорошим, а только лишь настолько хорошим, насколько это было возможно. Логический закон несовершенства конечных существ фатально принудил к тому, чтобы мир, несмотря на божественную благость, оказался полным недостатков. Центральный пункт (Kern) этой метафизики заключается в том, что основу существующей действительности составляет бесконечное царство логических возможностей,самая лучшая из которых была превращена всеблагим богом в действительность. Сформулировав в таком виде конечный результат учения Лейбница, нельзя не признать внутреннего сродства этого учения с великими системами древней философии, если бы сам Лейбниц даже не указал на это вполне определенно. В одном месте он говорит: «Platon a dit dans le Timée, que le monde avait son origine de l’entendement joint á la nécessité, d’autres ont joint dieu et la nature..: c’est la région des vérites éternelles, qu’il faut mettre á la place de la matière»113*. Древняя философия никогда не могла возвыситься над понятием творящего мира бога, творческая деятельность которого была связана найденной им материей, столь же вечно и необходимо существующей, как и он сам: этот хаос космогонии, μή όυ Платона, ύλη Аристотеля, βάΰος114* неоплатоников превратились в рационалистической философии в «region des verités éternelles» как сферы возможностей, которыми обусловливалось творение мира. Над божественной волей витает божественная мудрость; последняя представляет первой различные возможности, и божественная воля выбирает из них самую лучшую. Логическая истина была руководящей нитью теории познания Лейбница; логическая же истина является фатумом его лучшего из возможных миров. Учение Лейбница есть умопостигаемый фатализм115*.
«Основание, почему действительный мир оказался столь несовершенным, заключалось в логической возможности – в ней последнее слово Лейбница: возможность ее девиз (Schiboleth116*). Эта философия превратила законы мышления в мировые законы. Раз это будет понято, то тайна рационализма разоблачена и сфинкс низвергнется в пропасть. Найти это слово было суждено Канту»[259]259
W. Windelband, Die Gesch. der. neuer. Philosophie, 2 Aufl., B. I, S. 495-497. Курсив везде наш.
[Закрыть].
Познакомившись с основными положениями философии Лейбница, мы видим теперь, как русские социологи, не будучи последователями Лейбница, ничего не придумали такого, чего бы он уже не сказал. Они только оставили в стороне те два мира – мир человека и мир вселенной, метафизическую сущность которых хотел постичь Лейбниц, и обратились к третьему – социальному миру. Но, стремясь понять социальный мир, они создали себе систему, которая возобновляла все слабые стороны системы Лейбница. В своих рассуждениях они так же исходили из невозможности исключительно объективного метода, а в своих объяснениях реальных социальных процессов из невозможности бороться с известными течениями в истории. При этом, как мы видели, они вообще предпочитали выражать все необходимое в виде невозможности противоположного, или, как бы следуя Лейбницу и в противоположность современному естествознанию и новейшей логике, они считали невозможность противоположного более высоким критерием, чем необходимость. Соответственно этому они рассматривали все, что оставалось вне сферы невозможностей, как область возможностей, причем возможность, уже благодаря своей дополняющей роли к невозможности, оказывалась основой всего творческого и прогрессивного в социальном процессе. Таким образом, социальный процесс представлялся им по преимуществу в виде совокупности различных возможностей. Социальная среда, народ, крестьянство казались им носителями пассивных возможностей; личность и интеллигенция воплощали в себе активные возможности. В этом распределении всего совершающегося в социальном мире между двумя областями – возможного и невозможного – естественно упразднялся вопрос о свободе и необходимости: вместо принципа свободы выдвигалась идея возможности.
Но именно в вопросе о социальном творчестве и прогрессе мы наталкиваемся на главное принципиальное разногласие между русскими социологами и Лейбницем. В метафизической системе Лейбница в основание мира положены вечные необходимые истины. Только потому, что конечный мир не может состоять из бесконечных вещей, ему присущ элемент страдания, несовершенства и зла. Таким образом в этой системе только происхождение страдания и зла покоится на идее возможности, добро же есть вечная необходимая истина. В противоположность этому у русских социологов именно все прогрессивное, доброе, этическое, идеальное имеет своим источником возможность.
Вспомним, что русские социологи обосновывают идеал и прогресс на идее возможности и117* что высшим критерием нравственной оценки они считают желательность или нежелательность. В своей попытке опереть этику в формальном отношении на понятия возможности и желательности русские социологи не только оригинальны, но являются единственными во всей истории человеческой мысли. Никогда еще человеческий ум не наталкивался на представление о добре, как о чем-то лишь возможном и желательном, потому что для этого релятивизм должен был быть доведен до своей высшей формы развития, до социального релятивизма, при котором все высшие блага человеческой жизни рассматриваются только как результаты общественных отношений.
Русские социологи гордятся тем, что они внесли этический элемент в понимание социальных явлений и заставили признать, что социальный процесс нельзя рассматривать вне одухотворяющих его идей добра и справедливости. Но какая цена тому этическому элементу, высшим критерием которого является возможность?
Понятно, что представители нового течения в социологии должны были прежде всего покончить с рассмотрением социальных явлений с точки зрения возможности или невозможности. Вместо этих точек зрения ими были выдвинуты два принципа – необходимость и долженствование. Эти два принципа не противоречат друг другу, так как долженствование вмещает в себе необходимость и возвышается над нею. Познавая необходимо совершающееся в социальном процессе, человек познает вместе с тем материал, по отношению к которому, и границы, в которых он должен исполнять свой долг.
Мы добиваемся осуществления наших идеалов не потому, что они возможны, а потому, что осуществлять их повелительно требует от нас и от всех окружающих нас сознанный нами долг.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































