Текст книги "Финита ля трагедия"
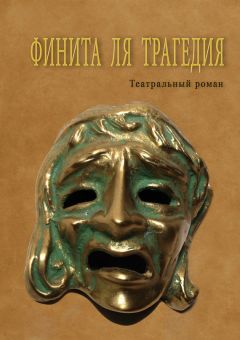
Автор книги: Вадим Зеликовский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Харонский, уже даже не стараясь что-либо понять, беспомощно озирался. Он смирился с происходящим, как с продолжением ночного кошмара… Все, что Мышкин говорил потом, начисто прошло мимо его сознания. Честно говоря, он мучительно старался проснуться. Для чего украдкой довольно сильно ущипнул себя за ляжку. Резкая боль подтвердила реальность происходящего, а заодно и его абсурдность.
«Теперь будет синяк… – обреченно подумал Харонский. – Интересно, о чем он столько времени говорит?» Семен Аркадьевич сделал над собой титаническое усилие и сосредоточился, стараясь уловить в тех словах, что произносил Иван Борисович, хоть какой-то смысл.
– Бред! Бред! И еще раз бред! – раскачиваясь, как ванька-встанька, талдычил Мышкин.
Так что Харонский вновь ни черта не понял.
– В-ваня! – чуть не плача, взмолился он. – Р-ради в-всего св-ятого, д-давай в-встретимся п-позже. Я-я же оп-поздал. М-м-меня Ар-ра д-давно ж-ждет!..
– Да, да! – засуетился Иван Борисович. – Конечно же беги! Я тебя ни в коей мере не смею задерживать! – однако, несмотря на свое заявление, он не только не отпустил Семена Аркадьевича, но и еще крепче притянул его к себе. – Сема, я на тебя надеюсь… – вдруг нежно проворковал он. – Да, да, как на Господа нашего, Иисуса Христа! – и Мышкин, на мгновение ослабив хватку, ткнул пальцем в небо.
И, надо сказать, поступил опрометчиво: Харонский тут же воспользовался этим и, нырнув ему под руку, затрусил к служебному входу.
– В-ваня, – крикнул он на бегу, – мы в-все обсудим и об-бязат-тельно р-разберемся…
Мышкин рванулся было за ним, но тут в конце переулка под руку с шатающимся из стороны в сторону Трофимом Тарзановым появился Лешка Медников. Иван Борисович заметался в колоннах, как муха в паутине. Но на его счастье Тарзанову, все время старавшемуся вырваться из цепких Лешкиных рук, внезапно удалось освободиться.
Он в ту же секунду оказался на проезжей части. Там он предпринял отчаянную попытку станцевать нечто невообразимое, выкрикивая на мотив вальса «Амурские волны» матерные частушки.
Медников, за своими хлопотами загнать не ко времени разбушевавшегося джинна назад в бутылку, так и не заметил мечущегося в колоннах Ивана Борисовича; и тот, благополучно добежав до служебного входа, скрылся в театре.
В Стремянном же переулке веселье продолжалось своим чередом; и лишь отсутствие в данный момент людей и транспорта не повлекло за собой вызова дежурного наряда милиции, которым чаще всего заканчивались все выступления Трофима вне стен театра.
Впрочем, следует отдать ему должное, он и в славных его стенах позволял себе учинять дебоши, но значительно реже: обычно в день открытия и день закрытия сезона. Поскольку именно в эти два знаменательных дня ему все сходило с рук.
В день открытия, когда возмущенная общественность требовала немедленного увольнения Тарзанова, к тому моменту уже спящего богатырским сном, вдруг выяснялось, что на его специфические роли нет замены – и его не увольняли. А в день закрытия, сразу после дебоша, таковое решение хоть и принималось в экстренном порядке, но, ввиду отсутствия кворума на заседании месткома, не утверждалось, а откладывалось до начала будущего сезона.
А далее смотри все сначала…
Драма Тарзанова заключалась в следующем: на выпускном спектакле в Щукинском училище Трофим блестяще сыграл Тень в Шварцевской сказке. Но первая серьезная актерская удача его и сгубила. С тех пор, где бы он ни работал, ему поручали исключительно роли призраков. И как результат – Тарзанов запил, так как справедливо считал, что не пить, будучи, например, Тенью Отца Гамлета, немыслимо.
А после того, как в предъюбилейном спектакле Пржевальского он сыграл Призрак Коммунизма, который в течение всего действия сомнамбулой бродил по карте Европы, запой стал уже практически его перманентным состоянием.
Но добро пил бы он себе втихую, кто ж у нас из актеров, спрашивается, граждане, об ту пору не пил, но ведь, он, подлец, выпив, позволять себе стал всякое. И, заметьте, публично. И не так, как сейчас, скажем, матерные частушки – это еще детские шалости, с кем не случается, можно сказать, исконно-русское состояние души. У кого б за такую малость рука поднялась кинуть в него камень.
Нет, за частушки у Трофима неприятности бывали разве что бытового характера: ну, иной раз морду слегка набьют или же на худой конец в вытрезвитель доставят, откуда на следующий же день выпустят – присмиревшего и помытого.
Однако частушками дело не ограничивалось. После них Трофим впадал в некое, по меткому выражению Пржевальского, «мистико-демократическое состояние» и тихим загробным голосом, каким обычно говорил, играя всемирно известного Призрака, начинал произносить речи, за которые еще лет бы пятнадцать тому назад его сгребли как миленького, рученьки за спину и… пропал бы, голубчик, сгинул безвестно…
Теперь же, благодаря временному либеральному настроению общества, распоясавшийся Тарзанов нес такое, что даже Арсентий, считавшийся в Москве человеком безудержной храбрости, даже он вздрагивал порой, и короткие жесткие волосы на его голове от речей Трофима становились дыбом. Да, да, представьте себе…
А ведь смел, храбр был Арсентий…
Это же у него в спектакле Чацкий посмел обратить вопрос «А судьи кто?» – прямо в зал. И не где-то на периферии, на шефском спектакле для передовиков села, а на премьере, непосредственно в первые ряды, где сидела полном составе комиссия Министерства культуры СССР во главе со всемогущим своим председателем. Особенно славен в театральных кругах этот деятель был тем, что на обсуждении постановки русской сказки в одном из соседних театров, подводя черту, он глубокомысленно изрек: «Ну что же, товарищи, жанр, по-моему, всем ясен – это «лобок»!»
И вот такому-то культурному деятелю, не ведающему различия между направлением в народном творчестве и интимнейшей частью женского тела, Арсентий осмелился, как перчатку, кинуть в лицо вопрос: «А судьи кто?»
Каково, граждане?
И, тем не менее, даже он ежился от томящего предчувствия неизбежной кары за речи, произносимые как-никак актерами вверенного его попечению театра. Ведь один Бог ведает, что Трофим несет в других-то местах?.. За ним разве уследишь…
Одним словом, ужас!
С каждым годом Арсентий все острее чувствовал, как тяжела она – шапка Мономаха. И разве с одним Трофимом хлопот не оберешься, ведь есть же еще и другие. Чего только один Черносвинский стоит. Да и Мышкин Иван Борисович, честно говоря, не подарок – со своими бесконечными лямурами…
А тут еще – повседневные заботы.
Премьера уже объявлена, а у Семы Харонского с декорациями полный завал. Что-то у него в последнее время не клеится. Перестал с людьми общий язык находить. Завпост, уж на что святой человек, а и тот терпение терять начал.
«Я ему говорю, – не далее как вчера жаловался Питирим Никодимович Шпартюк, – где после «Гамлета» лесу-то взять? – завпост в слове «Гамлета» делал ударение на втором слоге. – Весь лимит подчистую выбрали. А Сема-то Аркадьич прямо свихнулся вроде на старости лет, Нет, я же к нему со всем уважением, он, можно сказать, гениальный талант, как-никак вместе восьмой спектакль лепим… Но раньше-то все чинно-благородно было: один тебе задник, две стенки, кубов поразбросаем – и все дела. Остальное – светом работали, а свет – уже Милькиса забота. Опять же, костюмы… Раньше всех поголовно – и мужиков, и баб – в трико черное оденем: хоть ты, скажем, Люлька Черносвинская, хоть сам Иван Борисович… Ну, еще там воротничок или же пелерину с жилеткой – такое еще куда ни шло… А теперь? Полгода пошивочный не разгибаясь строчит – и не успевают люди! А он говорит: берите еще двух человек. Где взять? Тут, того и гляди, те, что есть, разбегутся. Так по-черному они и в ателье вкалывать могли и, между прочим, не за такую сраную зарплату. Людям, – Питирим Никодимович и в этом слове ударение ставил на втором слоге, – на себя поработать времени не остается. Тут же, извиняюсь за выражение, рабочий класс, мать его ети, а не актеры ваши долбанные, извиняюсь еще раз, прости Господи. А ведь и тех когда-никогда на съемки отпускают, подхалтурить, потому что понимают – тоже ведь какие ни наесть люди, а на одну здешнюю зарплату не нашикуешь…»
Что правда, то правда, хоть и не любил Пржевальский кино, а все же, скрепя сердце, давал актерам такие разрешения. Чаще всего Ивану Борисовичу, конечно, но и другим тоже давал. Дело-то такое деликатное, зарплата в театре действительно… эх… попробуй, не дай подхалтурить – загрызут!
Вот и сегодня на репетиции отсутствовала Лизочка Веткина, отпущенная третьего дня в Одессу на съемки какой-то, на взгляд Арсентия, совершенно никчемной и даже вздорной историко-революционной картины. Она в ней воссоздавала образ легендарной француженки, разложившей морально в боевом восемнадцатом году Бог весть каким способом всю французскую эскадру. Впрочем, по всем нашим учебникам выходило, что это исторический факт. Вот они там и экранизировали учебник.
Сейчас Арсентия отсутствие Лизочки не просто раздражало, а приводило в состояние, по внешним своим проявлениям больше всего похожее на приступ белой горячки. Он выкрикивал нечленораздельные слова, ерзал в кресле, жадно пил воду из графина, потом внезапно начинал грубо иронизировать по поводу кино вообще и Одесской киностудии в частности. Но иронизировал как-то уж слишком беспомощно и не остроумно, чего с ним в другое время не случалось.
То, что сейчас происходило на сцене, судя по выражению его лица, доставляло ему просто физические мучения. Черносвинский хрипел сегодня сильнее обычного, мало того – абсолютно не знал роли и нес по подсказке несусветную чушь, заикаясь, как двоечник у доски. Но и остальные были не лучше: путали текст, противно кашляли, говорили насморочными голосами и двигались по сцене с проворством енотов, готовых впасть в спячку.
Одним словом, прямо с утра и у Пржевальского все шло наперекосяк. Видимо, и впрямь, день такой выдался. Что-то такое в воздухе было: скандальное…
Арсентий с отвращением думал, что, пожалуй, способен сейчас собственными руками задушить кого-нибудь. Он старательно гнал от себя кровожадные отелловские настроения, но они с такой настырностью овладевали им, что Пржевальский изо всех сил вцепился руками в подлокотники кресла, закрыл глаза и постарался расслабиться.
Но тут он услышал у себя над ухом слегка задыхающийся шепот: «П-прости, А-ара, я н-немного оп-поздал…»
Пржевальский вздрогнул от неожиданности и, оглянувшись, встретился взглядом с беспокойными, мечущимися глазами Семы Харонского.
И хотя в темном пустом зале свет исходил лишь от крохотной лампочки на столе перед главрежем, и высвечивала она только нижнюю губу да часть подбородка Арсентия, но по тому, как сладострастно дрогнула эта губа, а подбородок воинственно выдвинулся вперед; застывшие на сцене актеры с облегчением поняли, что вожделенный Козел Отпущения наконец найден.
Понял это и сам Козел, для такого понимания вовсе не нужно было быть семи пядей во лбу. Под внезапно недобро повеселевшим взглядом Пржевальского Сема заерзал на месте, безрезультатно пытаясь вжаться поглубже в кресло.
– Семен! – с пафосом произнес Арсентий. – Твое вызывающее поведение уже выше моих сил! Ты что же – уморить меня собрался? Что у вас там за канитель с завпостом? Это же уму непостижимо. Два взрослых, умных мужика договориться не могут по таким пустякам. Ты же знаешь, премьера на носу!
– 3-знаю! – выдавил из себя несчастный Сема и вновь успел подумать: «Сон в руку!»
Но Арсентий его не услышал. Создавалось впечатление, что он оседлал своего любимого Терека и несется навстречу врагу, судорожно выдергивая из чеканных ножен кривую турецкую саблю. Рот его перекосила судорога, и Сема буквально почувствовал, как, опалив висок жарким ветром пустыни, просвистел над его головой звонкий дамасский клинок. И дальнейшая речь Пржевальского на речь похожа не была, так как не содержала никакой информации, а лишь, как показалось всем присутствующим, победный маджахетский визг: «Алла, алла! Джахат! Эа! Али Салават!»
– Он его сейчас убьет! – сквозь зубы прошептала мужу стоящая на сцене Люля Черносвинская.
Игорь краем глаза, так как стоял он к Арсентию и Семе в профиль, мгновенно оценил обстановку и также сквозь зубы ответил: «Морально, но до смерти!»
– Между прочим, это твоя порция, Игорек! – ртом, застывшим в фальшивой улыбочке, сказала Люля.
– Процентов шестьдесят, – согласился Игорь, остальное – ваше, мадам! – покосившись на бушевавшего главрежа, Игорь слегка раскланялся, но тут же застыл как ни в чем не бывало.
Впрочем, Пржевальскому было не до него. В кавалерийском азарте он сек Сему до малосольно-капустного состояния. Из того уже тек обильный пот, пряный, как рассол.
Откуда-то из темноты набежал Мышкин и тут же затравленно шарахнулся назад, успев все же сочувственно закатить глаза и поцокать языком. Его мимолетная поддержка странным образом сказалась на Харонском. Как будто очнувшись ото сна, он внезапно распрямился во весь свой небольшой рост и заорал срывающимся голосом:
«А-а-рсентий С-саматович, а-п-па-прашу на м-меня н-не к-к-кричать!»
– А я попрошу, Семен Аркадьевич, срочно утрясти все вопросы с Питиримом Никодимовичем и после репетиции доложить мне о результатах! Я буду ждать в кабинете директора!.. – Арсентий в полном изнеможении рухнул в кресло. Раздражение, как гной из выдавленного нарыва, вытекло наружу, и он с облегчением почувствовал, как на смену душевыматывающему неудовольствию всем приходит желанный покой. Еще раза два по инерции дернулся мускул на лице, и гулко бухнуло сердце, сбрасывая обороты.
Пржевальский легко вздохнул и обратил свой взор на сцену. Там, по-прежнему застыв в тех позах, в которых их застала кавалерийская атака главрежа, стояли муж и жена Черносвинские, а также Зюня Ротвейлер. Да, да, тот самый, из сегодняшнего сна Семы Харонского, но на сей раз из плоти и крови. Настоящий. Впрочем, при всем том ничуть не лучше, чем во сне. Зюня, чего там скрывать, был изрядная гнида.
– Продолжим! – как ни в чем не бывало предложил Арсентий. – Игорь, давай попробуем с выхода дяди… Но только я тебя умоляю, ради всего святого, возьми себя в руки. Я понимаю, как противно брать в руки такую гадость, а тем более с утра, но я уж тебя очень попрошу, будь добр, ради меня…
Игорь было собрался пропустить как-никак заслуженную колкость Арсентия мимо ушей, однако не тут-то было; хохмач и склочник Зюня возник за его левым плечом и зашептал: «Получил по сусалам, поэт-песенник земли русской? Роль учить надо, а не песенки писать!», – Зюня, прикрывшись ладонью, гнусно захихикал.
Грань, где он переставал шутить и затевал склоку, была настолько тонка, что заметить ее мог только истинный специалист. Есть такая шутка: «Что может быть в театре хуже актера?» И ответ: «Актриса!» Так вот Зюня был даже хуже Заратустры Сергеевны Кнуппер-Горькой, которая славилась своей язвительностью с дореволюционных времен. Ни один скандал в театре не обходился без деятельного Зюниного участия. Причем, самого что ни наесть пакостного. И, тем не менее, – для нетеатрального человека такое может показаться извращением, нонсенсом, своего рода мазохизмом, – Зюню в театре любили.
– Что там за шепоты? – почти благожелательно спросил Арсентий. – Мы начнем наконец репетировать?
– Сию секунду, Арсентий Саматович! – с невинным видом пообещал Зюня и, шаркая плоскими ступнями, отправился в противоположный конец сцены. – «Моя фамилия Поплавский… – скучным голосом подал он первую реплику. – Я являюсь дядей…»
Игорь прижал к глазам огромный клетчатый платок и зарыдал в голос.
«…покойного Берлиоза…» – дожевал клистирным голосом конец реплики Зюня. После чего возникла нелепая пауза. Игорь, прикрываясь платком, пытался разглядеть текст, который неподалеку от него в левой кулисе держала Люля. Но, к несчастью, ему при его близорукости никак не удавалось прочесть ни одного слова. Арсентий терпеливо ждал продолжения сцены. Наконец Люля сообразила, что Игорь ни черта не видит, и поспешно начала ему суфлировать:
«Как же, как же… Я, как только глянул на вас, догадался, что это вы!» – лихорадочно зашептала она.
«Как же, как же! – радостным голосом зачастил за нею Игорь. – Я, как только глянул на вас, догадался, что это вы-с!»
«Горе-то, а? – продолжала шептать Люля. – Ведь что же такое делается? А?»
«Горе-то, а? – возопил Игорь, как бы невзначай делая несколько шагов к кулисе. – Ведь это что такое делается? – он как бы в порыве отчаяния сделал еще несколько неверных шагов и, о счастье, оказался почти вплотную к вожделенному тексту. – А?!» – издал он победный клич, впрочем, на сей раз не отступая от первоисточника.
«Трамваем задавило?» – вынужденно поворачиваясь за ним, ехидным голосом водевильного педераста поинтересовался Зюня.
«Начисто! – отрапортовал Игорь. – Я был свидетелем! Верите – раз! Голова – прочь! Правая нога – хрусть, пополам! Левая – хрусть, пополам!». Отбарабанив последнюю фразу, Игорь заглох, как врезавшийся в дерево автомобиль.
В экземпляре инсценировки, который держала перед ним Люля, этими словами заканчивалась страница. Зюня невозмутимо молчал, ожидая конца реплики. Молчал и Игорь, отчаянно сигналя Люле глазами, переверни, мол, страницу, дура.
Но та, как назло, за мгновение до того отвлеклась, уставившись в западногерманский каталог «Неккерманн», который просматривала у себя за помрежевским столиком Леночка Медникова. Леночка на беду Черносвинского в тот момент дошла до страниц с женским бельем, и Люля застыла, как змея под дудкой заклинателя, и только время от времени непроизвольно облизывала свои пухлые губы.
Игорь беспомощно оглянулся на Зюню, тот с притворным сочувствием покачал головой и тем же приторным голосом осведомился:
– Вы, очевидно, хотели сказать: «Вот до чего эти трамваи доводят!»?
Игорь, чувствуя, что терять ему уже нечего, не менее противным голосом нахально подтвердил:
– Да, именно это я и хотел сказать, дорогой дядя! Удивительно точно вы сформулировали: «Вот до чего эти трамваи доводят!»
После такой обоюдной наглой отсебятины, боясь глянуть прямо, оба стали косить в зал на столик главрежа. Но Пржевальский не подавал никаких признаков неудовольствия; и Зюня, после некоторой заминки, решил продолжить.
«Простите, вы были другом моего покойного Миши?» – поинтересовался он.
А тут и Люля как раз оторвалась от «Неккерманна», так как страницы с женским бельем закончились. Оглянувшись, она тут же поймала Игорев дикий взгляд и поспешно перевернула страницу.
«Нет, не могу больше! – как прорвало Игоря. – Пойду приму триста капель эфирной валерьянки! Вот они трамваи-то!» – и он с чувством исполненного долга отправился за кулисы.
«Я извиняюсь, – поспешно закричал ему вслед Зюня, но все равно не успел. Игоря со сцены как корова языком слизала. И поэтому осиротевший Зюня неведомо кого спросил: – Это вы мне дали телеграмму?»
Не получив ответа, Зюня сделал несколько шагов вслед за Игорем, но со сцены так и не ушел, остановился у кулисы, соображая, что делать дальше. Вдруг он увидел за противоположной кулисой стоящего с обреченным видом Феликса Иванова и начал делать ему отчаянные знаки, приглашая на сцену. Феликс же тупо ждал конечной реплики Игоря и на знаки Зюни не обратил ни малейшего внимания. Ожидание его, впрочем, ничем не закончилось: реплики не последовало, и он так и не сдвинулся с места.
У Иванова еще со студенческих лет завелась кличка Ченч не глядя. Чем он там, закрыв глаза, махнулся, с годами забылось, а кличка осталась. Наряду и с другой, ласковой – Фелочка. Фелочка Ченч не глядя с утра пребывал, по собственному удачному выражению, в недоперепойном состоянии, то есть вчера принял на грудь больше, чем мог, однако меньше, чем хотелось. И сейчас расплачивался за содеянное. Единственное, что он в состоянии был сообразить: если сию минуту не опохмелится, то на сцену не выйдет ни за что – пусть ему Игорь хоть десять раз подряд подаст конечную реплику…
Но недаром говорят, дуракам и пьяницам везет; что-то щелкнуло в голове у Пржевальского, и он, так и не дождавшись конца сцены, объявил перерыв.
Зюня тут же, облегченно вздохнув, зашаркал к Фелочке, который совсем уж было наладился слинять в гримерную, где у него за зеркалом был заныкан шкалик.
– Ребята, есть анекдот! – ухватив Иванова за рукав пиджака, объявил он.
Тут же набежал кворум: слушать Зюню любили. Тот, не отпуская Фелочку, начал:»
– Учительница в школе говорит ученикам: «Дети, завтра у нас в школе будет арабская делегация. Хаимович, Абрамович и Иванов по матери в школу могут не приходить!»
Кворум захохотал, искоса ехидно поглядывая на Фелочку Иванова.
Поскольку тот как никак был как раз тем самым Ивановым по матери, и лучше всех о том знал язва Зюня, который вместе с папой Фелочки Изей Файнциммером когда-то учился в одном театральном училище.
Про папу Ченч не глядя вспоминать не любил, а посему опрометчиво затеял какую-то невнятную дискуссию по национальному вопросу, упирая главным образом на то, что даже в государстве Израиль национальность считают по матери.
Зюне того только и надо было.
– Да уж, – тут же встрял он, – по матери и у нас любят! – и, похлопав наполовину Иванова по плечу, успокоил. – Не дрейфь, Фелочка, все равно бьют не по паспорту, бьют – по морде.
И вот вместо того, чтобы в гримерной поправлять свое здоровье, Ченч не глядя занялся совершенно безнадежным делом – попытался уесть Зюню. Мало того, что в данный момент, в силу недоперепойного синдрома, Фелочкины умственные способности оставляли желать лучшего, ему и в нормальном состоянии далеко было до Зюниного класса. А посему, не прошло и пяти минут, как тот смешал Ченча с таким количеством дерьма, любой половины которого за глаза хватило бы на всю труппу.
Кончилось тем, что Фелочка так и не опохмелился.
– Начинаем! – со своего места объявил Арсентий, и перерыв закончился. – Игорь, ты где? – позвал главреж.
Черносвинский тут же возник на сцене. За время перерыва он старательно вызубрил сцену, в силу чего был абсолютно спокоен.
– Начнем с твоего ухода, – подумав, решил Пржевальский, – что-то там, помнится, было не так…
– Там просто ничего не было так… – пробормотал Зюня себе под нос.
– Вы что-то сказали, Зиновий Моисеевич? – поинтересовался Арсентий.
– Нет, это я повторял роль. Чтобы не забыть, как некоторые… – нагло соврал Зюня.
– Ну-ну… В таком случае, начнем с вашего вопроса о телеграмме, – предложил Арсентий, – вы его, надеюсь, не забыли?
– Ни в коем разе, Арсентий Саматович! – строя главрежу честные голубые глаза, отрапортовал Зюня. – Я его как раз сейчас и повторял про себя…
– Ну, в таком случае, если вас не затруднит, повторите его, пожалуйста, вслух, – попросил Пржевальский.
– Не затруднит! – ответил Зюня. Арсентий на сей раз промолчал. Таким образом, последнее слово осталось за Зюней. Он удовлетворенно вздохнул и, обратив взгляд на Игоря, который тут же принял скорбную позу, дребезжащим голосом спросил: «Я извиняюсь, это вы мне дали телеграмму?»
«Он!» – ответил Игорь и указал на кулису, где, страдая, стоял Фелочка, после чего горестно завопил:
«Нет, не в силах, нет мочи, как вспомню: колесо по ноге… Одно колесо пудов десять весит… Хрусть! Пойду, лягу в постель, забудусь сном…» – после чего, не спеша, с достоинством покинул сцену.
На смену ему появился Ченч не глядя. На него тяжело было смотреть. Он двигался по сцене, как сквозь густое повидло, всем своим несчастным видом выражая протест против предстоящего ему непосильного дела.
«Ну, я дал телеграмму… – Фелочка жевал слова непослушным полным слюны ртом и с превеликим трудом в почти неузнаваемом виде выталкивал их наружу. – Дальше что? – он замолчал, тяжело дыша, и лишь после долгой паузы смог продолжить. – Я, кажется, русским языком спрашиваю – что дальше?» – и соврал, ибо то, что у него вышло, русским языком назвать было никак нельзя. Получилось примерно следующее: «Я ка-эца фус-ким яфыком спа-аши-аю – фто д-а-аше?»
– Что, что, что? – переспросил из зала Пржевальский. – Как вы изволили выразиться? Если вам не трудно, Феликс Израилевич, повторите, пожалуйста!
Но повторить Феликсу Израилевичу Иванову по матери было именно трудно. И хотя он, надо отдать ему должное, сделал еще одну попытку, но с результатом гораздо худшим, чем предыдущий.
– Ага! – понимающе сказал Арсентий, – вам, по-моему, следует пойти прогуляться! – поставил он диагноз.
Пациент, полностью согласный с ним, моля в душе Бога, чтобы благодетель не передумал, мелкой трусцой понесся в гримерную.
– Леночка! – окликнул Пржевальский Медникову. – Организуйте-ка и мне стаканчик… чайку…
Леночка, отложив в сторону «Неккерманн», бросилась выполнять его просьбу.
В репетиции образовалась черная пауза, как дыра в гнилом зубе. Ее тут же заполнила Наталья Игнатьевна Врубель – заведующая литературной частью театра, та самая, которая, по словам известного кинорежиссера, пьесы читает вверх ногами.
И вероятнее всего, не врал кинорежиссер, ибо бывшая актриса, а ныне вахтерша театра, Луиза Марковна Людовик-Валуа, хорошо знавшая всю семью Натальи Игнатьевны, утверждала, что привычка-то у нее, оказывается, наследственная. И отец завлита – Игнатий Аполлинарьевич, народный артист СССР, и дед, Аполлинарий Маркелович, актер Его Величества Императорских театров, – пьесы читали таким же макаром.
Вообще милейшая старушка Луиза Марковна обладала незаурядной памятью, в которой поместилась вся закулисная история русского и советского театра. Не последнее место в ее рассказах занимал Игнатий Аполлинарьевич Врубель. Истории о его похождениях с одинаковым успехом могли бы послужить сюжетами, как для русских былин, так и для французских бульварных романов.
А уж до чего красив и мужественен был Игнатий Аполлинарьевич! Ни в сказке сказать, ни пером описать. И вот Наталья Игнатьевна полностью унаследовала от него всю его мужественную красоту и красивую мужественность. В роли Ильи Муромца она была бы просто неотразима.
Но, к несчастью, у Судьбы таковой роли для нее не нашлось.
И такая несправедливость, естественно, не могла не наложить свой отпечаток на ее характер. Впрочем, характер, как и внешность у Натальи Игнатьевны был наследственный. В папашу. С ним в запале сладу не было; вот и Наталье Игнатьевне ни на язык, ни под горячую руку лучше не попадайся. Кроме дурного характера, славилась она также своим вкусом. Был он у нее безукоризненным и подводил ее разве что только в одном: в мужчинах.
Наталью Игнатьевну, как всякого нормального человека, тянуло к противоположному полу. А так как наследственный запас мужества все не иссякал, то нравились ей исключительно хрупкие, эфемерные юноши с ломающимися изнеженными голосами и плавными движениями всех частей тела. Чаще всего, безответно. Что наполняло ее одинокую жизнь непрекращающимися драмами.
Но истинная трагедия разражалась тогда, когда ее избранник оказывался Автором. Конфликт между любовью и долгом буквально потрясал могучий организм Натальи Игнатьевны, пробуждая внутри процессы, равные по силе тем, что некогда сровняли с землей Содом и Гоморру. В такие минуты даже неукротимый Арсентий обходил ее десятой дорогой.
Сейчас был как раз такой случай: автор, он же предмет вожделения мужественной дамы-завлита, находился тут же, хотя в первый момент за могучим торсом Натальи Игнатьевны его никто не заметил.
– Ара! – Наталья Игнатьевна была с Пржевальским на «ты». – Ара, – протрубила она, – будь добр, удели мне пять минут… Позволь тебе представить молодого автора!..
Арсентий часто-часто заморгал и начал наливаться венозной кровью.
– Наталья, – тихо, но грозно выдохнул он, – давай отложим знакомство…
– Я тебя прошу, Ара! – раскатом майского грома перебила его Наталья Игнатьевна. – Неужели нельзя в кои веки исполнить одну мою просьбу?! – она богатырским движением выдернула из-за своей спины зеленого от тоски юношу и водрузила его пред светлые очи главрежа. Очи метали молнии и готовы были испепелить юного Софокла на месте.
– Дайте свет в зал! – взревел Зевс-громовержец.
Люстра тут же зажглась. И при ее ярком хрустальном свете выяснилось, что в зале, кроме Пржевальского, Натальи Игнатьевны и ее протеже, находится Мышкин и Лешка Медников с Тарзановым, дремлющим у него на плече. Свет потревожил последнего, и Трофим проснулся.
– Какого… – завопил он спросонья, – …хрена. Маша, туши торшер!
И тут же в зале объявилась Леночка Медникова со стаканом чая в серебряном подстаканнике. Брата и Ивана Борисовича она увидела одновременно. Они сидели в одном ряду по разные стороны от прохода, таким образом, застыв между ними, Леночка как бы замкнула некий взрывоопасный треугольник.
Все сразу поняли, что сию минуту разразится новый скандал, вернее, продолжится вчерашний, с которым до сих пор еще не разобрались.
Зюня, чтобы не упустить ни малейшей детали из предстоящего безобразия, вышел к самому краю сцены, Игорь, помахав рукой Люле, в смысле, давай за мной, присоединился к нему. Через тридцать секунд на авансцене столпились все находившиеся за кулисами, включая костюмеров и реквизиторов.
Лешка Медников под одобрительный гул собравшихся начал медленно приподниматься.
– Леша, не надо! – отчаянным шепотом взмолилась Леночка.
Мышкин, не вставая, попробовал попятиться, но ручки кресла, в котором он сидел, пресекли его попытку на корню; и он лишь судорожно поелозил ногами по полу.
– Товарищи! – фистулой воззвал он к собравшимся. – Попрошу быть свидетелями!
– Будем, будем! – нетерпеливо пообещал Зюня. – Давайте начинайте!
Лешка с выражением лица, не оставлявшим никаких сомнений в его намерениях, сделал решительный шаг к Ивану Борисовичу. Тот, находясь на грани обморока, отчаянно рванулся и вывалился наконец из тесных объятий кресла.
– Арсентий Саматович! – воззвал он к высшей инстанции. – Ну хоть вы на него повлияйте! Пресеките своей властью! Мы же, в конце концов, взрослые люди… интеллигентные, некоторым образом…
Это был вопль затерявшегося в пустыне.
Пржевальский, которому романы Мышкина давно осточертели, с не меньшим интересом, чем другие, ожидал развития событий, а посему на вопль Ивана Борисовича не откликнулся. Рядом с ним плечом к плечу застыли Наталья Игнатьевна и ее трепетная пассия. Пассия вовсю приобщалась к тайнам закулисной жизни и была тихо счастлива. Как выразился бы грубый Тарзанов – поймала кайф выше полового.
Мышкин затравленно оглядывался. Лешка неумолимо приближался. Леночка плакала. Коллеги предвкушали. Спасения не было.
Но вдруг, как истинный призрак, восстал со своего места забытый всеми Тарзанов и, выскочив, пошатываясь в проход, радостно закричал:
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































