Текст книги "Финита ля трагедия"
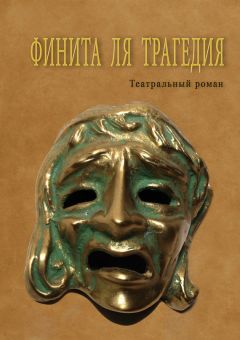
Автор книги: Вадим Зеликовский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
– Леночка, деточка, спасительница синеглазая, заставь век Бога молить! – с каковыми словами отнял у тезки царицы, из-за которой, по свидетельству Гомера, заварилась троянская каша, стакан с главрежским чаем. Осушив его залпом, он понюхал край рукава своего свитера и с облегчением крякнул. – Ваше здоровье! – сообщил он всем.
Выходка Трофима круто изменила настроение окружающих. Все хохотали. О Мышкине на какое-то мгновение забыли, и он, воспользовавшись всеобщим весельем, под шумок вскарабкался на сцену и исчез за кулисами.
Вновь возникла пауза, и Наталья Игнатьевна совсем уж собралась возобновить атаку на Пржевальского, как из гримерной вернулся Фелочка – опохмелившийся и полный сил. Ничего вокруг себя не замечая, он направился прямиком к Зюне и, взяв его за лацканы пиджака, основательно тряхнул. Чистым, звонким голосом он наконец задал вопрос, который всего несколько минут тому назад никак не мог из себя выдавить.
«Я, кажется, русским языком спрашиваю – дальше что?!» – Фелочка, задавая свой вопрос, сделал особенный акцент на слове «русским».
– Ты что, с ума съехал? – возмущенно заверещал Зюня. – Пусти, придурок!
Но Ченч не глядя не обратил на его протест ни малейшего внимания, мстя за «Иванова по матери», он с наслаждением тряс бедного Зюню, требуя: «Паспорт!»
Не на шутку перетрусивший Зюня слабо сопротивлялся, осторожно толкая Фелочку в грудь.
– Паспорт! – не отставал тот.
И бледный, как снег, Зюня, панически боявшийся эксцессов, связанных с физическим воздействием, сдался. Скрипя зубами, он достал из кармана свой собственный паспорт и начал совать его в лицо Фелочке.
– На, на, алкоголик! Порви его, порви! – визжал он. – Забери только от меня свои грязные лапы!..
Фелочка, оттолкнув Зюню в сторону, стал внимательно разглядывать его «серпастый и молоткастый».
– Да, – сказал он, – бьют действительно не по паспорту. По такой мерзкой роже грех не ударить!
Зюня, во избежание рукоприкладства, поспешил отойти на безопасное расстояние. А Ченч продолжил сцену, более уже не отступая от оригинала: «Каким отделением выдан документ? Четыреста двенадцатым, ну да, конечно! Мне это отделение известно! Там кому попало выдают паспорта! А я б, например, не выдал такому, как вы! Нипочем не выдал бы. Глянул бы только раз в лицо и моментально отказал бы!»
Зюня, ожидавший, что Арсентий вот-вот остановит зарвавшегося Фелочку, и так и не дождавшись, решил как-то довести сцену до конца, то есть, как положено по роли, сделать испуганное лицо. Но, проанализировав свое состояние, понял, что лицо у него как раз в нужной кондиции. Фелочка же продолжал бушевать. Шваркнув об пол Зюнин паспорт и пройдясь по нему ногами, с самым решительным видом направился к его хозяину.
Зюня, не надеясь более ни на чье вмешательство, принялся спасаться собственноручно: то есть проворно лег толстым животом на край сцены и начал сползать в зал. Но в спешке зацепился ногой за бордюр и, как огромная лягушка, жирно шлепнулся в проходе возле первого ряда кресел.
«Ваше присутствие на похоронах отменяется, – ликующе орал между тем Ченч, нависая со сцены над поверженным Зюней, – потрудитесь уехать к месту жительства. Азазелло!» – позвал он.
Злой, как черт, Лешка Медников встрепенулся.
«Азазелло, проводи!», – указывая на распластанного Зюню, приказал Ченч не глядя.
Лешка в несколько скачков покрыл расстояние до несчастного Зюни и железной хваткой уцепил его за воротник сорочки и пояс брюк.
«Поплавский, – зло процедил он, – надеюсь, уже все понятно?»
Зюня, повисший на Лешкиных руках, как бесформенный кусок теста, который пекарь перед отправкой в печь собирается еще как следует помесить, понимал только одно – попал он из огня да в полымя: сейчас разъяренный Медников выдаст ему сполна все причитающееся от его щедрот на долю Ивана Борисовича. И поэтому, когда Лешка, поставив его на четвереньки, пинками погнал по проходу, он не предпринял даже слабой попытки к сопротивлению.
«Возвращайся немедленно в Киев, – орал Медников, – сиди там тише воды, ниже травы и ни о каких квартирах в Москве не мечтай, ясно?»
Зюня мечтал только об одном, чтобы происходящий с ним наяву кошмар поскорее закончился, а там уж он как-нибудь с Божьей помощью рассчитается со всеми его участниками.
– Стоп! – раздалась спасительная команда Пржевальского.
Лешка, выбив напоследок на обширном Зюнином заду барабанную дробь, наконец оставил его покое. Зюня, быстро-быстро перебирая ногами и руками, отполз как можно подальше в сторону и уже было начал подниматься на ноги, но его остановил голос Арсентия.
– Очень хорошо придумали! – похвалил тот. – Так и будем эту сцену играть. Давайте повторим еще разок, чтобы как следует все закрепить.
Зюня, уже почти вставший во весь рост, подкошенный репликой главрежа, прозвучавшей как приговор, вновь рухнул на колени и обхватил руками голову.
– Господи! – шепотом взмолился он. – За что мне от тебя такие муки?!
– Начнем с появления дяди! – распорядился Арсентий, – Зиновий Моисеевич, попрошу вернуться на сцену.
Зюня тяжело поднялся на ноги и, горестно мотая головой, как пес, которого облили помоями, поплелся на сцену, как на Голгофу. Ни на кого не глядя, он зашел за кулисы и только там дал волю своему раздражению.
– Театр долбанный! – забубнил он сквозь зубы. – Шалман дерьмовый! Кодло хулиганское! Понабрали каторжников! – со злости и бессилья Зюня пнул подвернувшийся по дороге куб, но тут же, взвыв от боли, запрыгал на одной ноге.
Появившаяся в дверях служебного входа Луиза Марковна с интересом уставилась на него.
– Что это с вами, Зиновий Моисеевич? – спросила она.
– Это я репетирую! – нелюбезно ответил Зюня.
Опытная Луиза Марковна его ответу не поверила, но расспрашивать дальше не сочла нужным. Вместо того она с кокетством бывшей инженю пожаловалась:
– Вот никак не могу найти Ивана Борисовича. Его тут э… посетитель разыскивает…
Только тут Зюня заметил рядом с нею Акакия Акакиевича.
– А, это вы… Здравствуйте, пожалуйста! – небрежно приветствовал он Башмачкина.
– Здравствуйте, здравствуйте, мое почтение… Как поживаете, Зиновий Моисеевич? – поспешно закивал Башмачкин и, как бы извиняясь, добавил: – Вот ищу товарища Мышкина, видите ли… Срочно, так сказать… по неотложному делу… Вот и осмелился вторгнуться, некоторым образом… как бы поточнее выразиться… в святая святых… в храм, э… Мельпомены…
– Да уж, святая святых… – желчно выдавил из себя Зюня. – Клоака бардачная! Храм… к Евгении Марковне его! – и внезапно заорал: – Ваня! Мышкин! Тебя твой квартирный хозяин ищет! На предмет взыскания квартплаты!
Из-за пожарной бочки, где он отсиживался, осторожно выглянул Иван Борисович и, затравленно оглядываясь, зашикал на Зюню:
– Ты чего трубишь, как слон перед случкой?
Зюня пожал плечами.
– Ни одно доброе дело не остается безнаказанным… – обиженно начал он, но не закончил, пожал плечами и ушел на сцену.
Акакий Акакиевич нерешительно приблизился к Мышкину и, встав на цыпочки, что-то взволнованно зашептал ему на ухо. Мышкин внимательно выслушал его, вздохнул взахлеб и, не говоря ни слова, направился прямо к столику помрежа, где, уткнувшись в «Неккерманн», сидела бледная заплаканная Леночка.
– Жизнь, говорят, полосатая, – безо всякого вступления начал Иван Борисович, – как зебра. Полоса дерьма, полоса повидла. Так вот, у меня такое ощущение, что я поплыл вдоль первой полосы…
– Что еще случилось? – сырым от слез голосом спросила Леночка.
– Он вернулся! – на выдохе произнес Иван Борисович. Леночка вздрогнула.
– Кто?
– Племянник… – загробным шепотом сообщил Мышкин.
Глава 6. Сеанс спиритизма
Если тебе дана бумага в линейку – пиши поперек.
Эрнест Хемингуэй
Если тебе дано нечто странное, неожиданное, но вместе с тем страстно желаемое, – не старайся осознать его. Ибо даже любовь, понятая до конца, – умирает…
И тогда в три часа ночи человек выходит на улицу, в одной руке у него стопка маленьких листков бумаги, в другой – баночка с жидко заваренным мучным клейстером. И заспанные граждане в ожидании первого троллейбуса равнодушно прочтут, что «пропала собака, помогите найти друга за приличное вознаграждение, темно-рыжей масти, по телефону 372-86-12, пинчер», или же того лучше «Меняю две разные на одну, все равно какую, лишь бы вместе, поселков не предлагать».
Не нужно посылать эти объявления в журнал «Крокодил», в раздел «Нарочно не придумаешь», потому что если человек написал: «Меняю миропонимание на мироощущение», – значит, ему плохо. Не от хорошей же жизни пишут такое поперек на тщательно разлинованной бумаге. Нет, поверьте, не от хорошей…
Если к вам, допустим, раз десять в месяц приходит тень собственного отца, понуждая на всякие необдуманные, антиобщественные поступки, то о какой уж тут хорошей жизни может идти речь?
Или, например, когда в самом начале спектакля прямо в переполненный неведомо какой публикой зал бросают изначально провокационную реплику, дескать, «…неладно в Датском королевстве…», да еще таким тоном, что даже совсем дураку ясно – имеется в виду совсем не Дания… В Дании-то как раз в этом смысле давно все в порядке…
А вот у нас, мол…
И дальше, между прочим, все в том же роде. А ты при всем том один из главных участников происходящей публично инсинуации. Господи, произносишь черти что и сам отлично понимаешь, что за такие речи рано или поздно придется ответить – за каждое слово, – и, что самое отвратительное, остановиться не можешь!..
Бежать хочется, граждане… Только вот, куда бежать-то?
А ведь еще какая пугающая чушь в голову по ночам лезет. Ох, даже вслух не произнесешь, не то что на бумаге изложишь. А ведь могут и заставить. Все до мельчайших подробностей: где, с кем и почему раньше молчал? А потом сверят с показаниями других… А те уж напишут… за милую душу накатают… будьте благонадежны…
Ох, сомнения…
А что если не ждать, а самому?.. А?.. Только вот куда? И кому?.. Ну, допустим, куда – известно…
Туда!
Тут уж, как говорится, только захоти… Эх, знать бы, как такое в первый раз делается…
А что тут знать?
Главное, вовремя, раньше других то есть…
А почему ты так уверен, что додумался до всего раньше всех? А может, другие уже давным-давно все уже куда надо отписали?.. Хотя бы взять эту свинью Черносвинского, который спит и видит…
И тут уже мысли одна гадостнее другой начинали лезть в запуганную голову Ивана Борисовича. Мышкин забыл, когда он спокойно засыпал. Да, не для красного словца было сказано им о полосе дерьма, плыл он вдоль нее уже довольно долго. Начало сего дерьмового заплыва, размышляя трезво, скорее всего, можно отнести ко времени ухода от него Лизочки. И хотя он на первых порах не придал ему должного значения, но именно с него и обрушилась на Ивана Борисовича лавина мелких и, на первый взгляд, незначительных происшествий, которые и явились причиной сегодняшних страхов и бессонницы.
Скоропалительная женитьба на чтице Алене Восьмипалатинской, с успехом читавшей от Москонцерта стихи молодых, входящих в моду поэтов, на какое-то время отдалила катастрофу. Беда была в том, что отнюдь не рассосался нарыв, а наоборот, медленно и незаметно вызревал.
Роль Гамлета ускорила процесс вызревания.
Постоянно, как на сцене, так и в жизни, задавая себе вопрос: «Быть или не быть?», – он, подобно своему герою, Принцу Датскому, ответа на него не находил.
Казалось, чего еще ему нужно: он знаменит, знаменит и театр, в котором он играет, его регулярно узнают на улице, в кино сниматься приглашают нарасхват, женщины всюду смотрят нескромно, самыми что ни на есть обещающими глазами… И нет только одного – покоя.
Он сам не мог дать себе отчет, как так случилось, что его, такого сдержанного и осторожного, короче, нормального, законопослушного гражданина злодейка Судьба занесла в столь крамольное заведение, каковым являлся «Театр на Стремянке»? Да еще вдобавок в тот самый период, когда декабристские выходки вновь, в который уже раз в нашей державе стали небезопасны?
Как хотите, господа хорошие, а только хождение по лезвию бритвы, может, кому-то и доставляет удовольствие, но только не ему, Ивану Борисовичу Мышкину.
Сколько раз он уж было совсем собрался высказать Пржевальскому и иже с ним, – вы, мол, как хотите, а я – пас! Играйте в свои игры без меня!
Но так дело до такого открытого объяснения пока что не дошло. Не собрался с духом Иван Борисович. Как в свое время, два года назад, так и не собрался набить морду Семе Харонскому. А ведь как руки чесались. До аллергии.
А все его патологическая трусость. Это кому-то сознаться, согласитесь, просто же парадокс: безрассудно, храбро, при большом скоплении народа нести прямо со сцены крамольные речи, и именно в силу собственной отчаянной нерешительности. Обхохочешься.
Но Ивану Борисовичу было не до смеха.
А посему метался он, как затравленный волк за красными флажками сложившихся обстоятельств.
Опять же от страха, на сей раз от страха прослыть пуританином, он в отсутствие жены, уехавшей на гастроли по области, спутался с Леночкой Медниковой, которая, Иван Борисович ни слова не соврал Харонскому, действительно пришла к нему сама. А тут жена вернулась, надо сказать, в самый пикантный момент и… в результате Мышкин очутился в квартире уехавшего племянника – квартирантом.
Благо хоть квартира подвернулась хорошая. Но Иван Борисович нутром чувствовал, что что-то с нею не так. То есть и солнечная сторона, и удобства, и жилплощадь достаточная, и вид на реку, и хозяин отнюдь не обременителен, а только и тут Мышкину покоя не было. Точил его червь, грыз проклятый. И как показало дальнейшее, не даром.
Опять же, вход в театр.
Проблема?
Проблема!
Парадный ход закрыт, а сейчас и через служебный не всегда попадешь. Луиза Марковна, глухая тетеря, взяла себе манеру, спасаясь от сквозняков, запирать его напрочь. И хоть из пушек пали – не достучишься. Ей уже неоднократно указывали на недопустимость подобного эгоистического подхода к общественной двери, но с нее все как с гуся вода.
Что ж, значит – лезь, как все, по пожарной лестнице…
Чья это была идея с лестницей?!
Кто теперь вспомнит. Впоследствии кому ее только ни приписывали: и Пржевальскому, и Семе Харонскому, а потом, когда уж совсем невтерпеж стало, то и Тарзанову Трофиму. Он, мол, голубчик, с косых глаз ляпнул. Как бы там ни было, но идея эта поначалу привела всех в восторг. Казалось, что их театру только такого входа и не хватает.
И соорудили. Из мрамора. Хихикали: хотят попасть в театр – пусть лезут. У нас ведь чем труднее, тем заманчивее. Ведь с детства привыкли – на каждом шагу преодолевать трудности. Такой подход к жизни у нас уже в крови. На геном уровне.
И что самое глупое, полезли. С восторгом. Расчет оказался правильным. Нашим соотечественникам только шепни, мол, где-то родную власть поругивают да покусывают – не то что по пожарной лестнице, по стенам полезут. Как клопы. Такую породу людей вывели.
Но основной массе что? Рядовой зритель в «Театр на Стремянке» в лучшем случае раз-два в году попадает, можно и слазить. Другое дело – актеры. Им-то за какие грехи такое наказание? По пожарной лестнице, пусть хоть и мраморной, но ведь каждый же день туда-сюда, туда-сюда…
А Ивану Борисовичу и тут хуже всех: ему после пожарной еще и по веревочной на люстру переться…
И вот в одну бессонную ночь все неприятности навалились разом, но особенно почему-то раздражала именно пожарная лестница. Просто до печенок достала. Он уже стал обдумывать вопрос о вынесении лестничной проблемы на местком, когда его внезапно от решительных мыслей отвлек стук в стену, возле которой стояла их кровать. Лежащая рядом Леночка завозилась во сне, пробормотала что-то нечленораздельное и уснула еще крепче. Мышкин же застыл, как натянутая струна, весь обратившись в слух.
И стук повторился.
А потом сразу же бухнул колокол. И пошло, и поехало – разлилось малиновым перезвоном. Ивана Борисовича, как из ушата окатило, весь он покрылся холодной испариной; и сердце у него заколотилось в такт перезвону. Он окостенел на постели от какого-то мистического испуга, проистекающего обычно у людей творческих, впечатлительных, от непонятных явлений, с которыми сталкивает их жизнь.
Но испуг Мышкина в страх не перерос, потому что он почти сразу понял, что звон идет из родного театра, и даже понял, из какого его места. Оставался вопрос: кто в такой час раззвонился? Но это был уже вопрос второстепенный. Главное заключалось в другом: в озарении, ярко вспыхнувшем в тот момент в уставшем от страха мозгу Мышкина.
Назавтра же с ночным звоном все разъяснилось окончательно.
Он был полностью делом рук все того же Трофима Тарзанова, который в последнее время все чаще стал засыпать где попало, и его, случалось, попросту забывали в театре. На этот раз он пристроился спать в глухом углу за сценой, под колоколами, висящими там в полном комплекте и боевой готовности, поскольку ни один спектакль Пржевальского не обходился без их набатного, а также малинового звона.
Пробудившись среди ночи, во тьме египетской, Трофим восстал ото сна и тут же запутался в паутине колокольных веревок. Перепугавшись спросонья до дрожи, он стал судорожно дергаться во все стороны и устроил благовест.
Так вот, суть озарения Мышкина как раз и лежала в том самом глухом колокольном углу. Он, как выяснилось, вплотную соприкасался со стеной комнаты, которую они снимали с Леночкой у Акакия Акакиевича.
Призвав в эксперты многоопытного Питирима, Мышкин уже на следующий день получил квалифицированную консультацию. По словам Шпартюка, проблема технически была легко решаема. Пржевальский к делу создания нового входа отнесся индифферентно. Его-то Луиза Марковна чувствовала каким-то верхним чутьем, которое у актеров за долгие годы работы в театре вырабатывается на главного режиссера. А посему шастать по пожарной лестнице ему не приходилось. Но в принципе он не возражал.
Дункель же Антон Карлович, являясь как никак директором театра, естественно, заставил себя основательно попросить и даже для вышестоящих организаций потребовал составить петицию на свое имя, каковую актеры сварганили, не сходя с места. Акакия Акакиевича в предвкушающей радостной суете как-то никому не пришло в голову спрашивать разрешения – и его у Башмачкина так и не спросили. Короче, его мнения впопыхах так никогда и не узнали.
В тот же день Питирим Никодимович со своими подручными в ударном порядке произвели необходимые работы. Вход вышел на славу. Горячий поклонник таланта Ивана Борисовича товарищ Шпартюк не поскупился. Из закромов, ведомых ему одному, извлек он дубовую дверь с коваными фигурными шпингалетами, и она встала во вновь образованном проеме как влитая. Как будто так и стояла тут со времен Ивана Грозного.
И началось.
К служебному входу на радость Луизе Марковне стали прибегать все реже. Зато в квартире слинявшего племянника дверь не закрывалась. Впрочем, Башмачкин не возражал. К актерам он относился с трепетным уважением, как к неким высшим существам, служителям волнующе-таинственного божества.
Сам же он на первых порах заветной дверью пользовался крайне редко. Но впоследствии природное любопытство взяло верх над робостью. И Акакий Акакиевич сначала в узкую щелочку, а потом уж, стоя в углу под колоколами, пересмотрел весь репертуар «Театра на Стремянке» бесчисленное количество раз. И, надо сказать, так вошел во вкус, что все чаще стал заглядывать и на репетиции, где свел робкую дружбу с Луизой Марковной, – и был окончательно приобщен.
Правда, поначалу его терпели лишь как неизбежный довесок к удобной квартире, но потом привыкли и, хотя снисходительно и фамильярно, но все чаще и чаще, стали прибегать к его помощи. Выяснилось, что присутствие на репетициях Башмачкина крайне удобно. Находясь все время под рукой, он в любой момент мог сбегать прикупить хлеба или сигарет, а когда возникала стихийная потребность распить бутылочку-другую, то и за какой-нибудь нехитрой закусью.
Фелочка Ченч не глядя свою заветную четвертинку и вовсе стал хранить исключительно в племянниковом финском холодильнике. Хоть и дальше стало бегать, чем до гримуборной, зато спокойнее – целее будет. А Башмачкин ему даже из своего скудного скарба выудил особую стопочку: из старинного серебра, с замысловатой вязью по тускло-серой поверхности, а изнутри вызолоченной. Она обладала таинственной способностью придавать водке, даже самой дешевой, привкус смородиновых почек и долго сохранять необходимую прохладу.
Фелочка утверждал также, что пятьюдесятью граммами, принятыми из рюмочки Акакия Акакиевича, снимается любое, самое мерзкое похмелье.
Как видите, антикварная дверь внесла в жизнь Башмачкина столько ярких перемен, что и не перечислишь. Благодаря ей, он, можно сказать, обрел смысл существования. Она, в буквальном смысле слова, стала для него дверью в другую жизнь. Но закон сохранения веществ в природе действует безотказно: ежели чего-то где-то прибудет, стало быть, того же чего-то в другом месте уже не окажется. То есть, говоря по-простому, задарма и петух не прокукарекает.
А уж смысл существования, тем более за просто так, не достается. И тут, естественно, были издержки: не квартира стала у Акакия Акакиевича – заезжий двор. Племяннику бы такое и в кошмарном сне не приснилось.
Только где он эти сны видит, племянник?
А то, что недели три назад во время злополучной репетиции нашептал Башмачкин на ухо Ивану Борисовичу, не подтвердилось. Когда Мышкин, а вслед за ним и другие заинтригованные ринулись в заветный угол и через дубовую дверь просочились в квартиру, племянника там и в помине не было. Даже и не пахло им. Привиделся он, очевидно, Акакию Акакиевичу.
От глупого суеверия привиделся. Ибо в свое счастье Башмачкин так и не поверил. Знал он, всем опытом своей несчастной жизни знал, что придется, ох, придется платить или, вернее, расплачиваться за каждую счастливо прожитую минуточку.
Вот ему племянник и примерещился…
Стоит он, дескать, как есть во всем заграничном и головой укоризненно качает. Мол, вот он я, вернулся и чемодан с яркими этикетками, полный подарков, тебе привез. В три обхвата, между прочим, чемоданище на колесиках. А ты вон как за моею собственностью кровной, хотя полностью Советскому государству и не выплаченной, приглядываешь…
Так вот, все оказалось фата-морганой, включая чемодан. Ибо его, естественно, бросились искать в первую очередь. И ни черта не нашли. Обидно было чуть не до слез. Актеры вообще люди впечатлительные, а тут надо же, кроме всего прочего, репетицию сорвали из-за вздорных домыслов впавшего в мистицизм старпера.
И, представьте себе, сам Арсентий не устоял: любопытство взяло верх над железным характером. Что же говорить о других: мастера из пошивочного цеха, например? Или, скажем, тот же Дункель Антон Карлович, директор, со своей командой – они что, не люди?
Да, сильно еще в нас, граждане, это исконное низкопоклонство перед Западом. И, казалось бы, твердят нам газеты, лекции по клубам читают, на открытых партсобраниях часами талдычат и, наконец, по центральному телевидению, в самом, так сказать, массовом порядке доказывают, что наши товары ничуть иностранным не уступают, а наоборот, кое в чем и превосходят – так нет же, какой у нас все-таки народ недоверчивый.
А все почему?
Видно, недостаточно еще разъясняем. Недостаточно наглядных примеров у нас перед глазами. Мало у нас в магазинах этого зарубежного дефицита для сравнения. Да и своего, отечественного, не густо. Вот выбросить бы и того и другого в достаточном количестве и не в одной только Москве, а чтобы всем поголовно на шестой части суши хватило. И тогда пусть каждый самостоятельно сравнивает.
А что? Почему бы, в самом деле, не произвести такой эксперимент в порядке наглядной агитации?
Ведь сколько ежегодно денег бухаем на пропаганду нашего образа жизни, так на такую же демонстрацию советского приоритета во всех областях товарного производства никаких затрат не жалко. Вот бы мы им тогда доказали. Как ихним злопыхателям, так и отечественным. Носы бы, можно сказать, утерли. Но что самое важное, сами бы наконец убедились. Вот бы праздник был всенародный.
А в квартире Акакия Акакиевича ничего подобного не вышло. Ввиду необнаружения чемодана. Не с чем было сравнивать. И вот, чувствуя себя обворованными, актеры и прочие работники «Театра на Стремянке» вслед за Дункелем и Пржевальским покинули надувательскую квартиру и поплелись назад в театр. К прерванной репетиции. Но продолжать ее никаких душевных сил уже не было, все на рывок за иноземными сувенирами ушли.
Так и разошлись по домам, друг другу в глаза не глядя. Даже обещанного разбирательства между Семой Харонским и Шпартюком не состоялось.
Но вот в чем суть дела, Акакий Акакиевич племянника видеть продолжал. И регулярно продолжал. Стоило только Башмачкину остаться одному, а он, как Тень Отца Гамлета, тут как тут. С чемоданом. Исправно являлся, как на работу. Явится и исчезнет, явится и исчезнет.
Одно слово, самозванец…
Только теперь уж Акакий Акакиевич, наученный горьким опытом, его явления не афишировал. Терпел в одиночку. Крепился и даже Луизе Марковне, хотя она ежедневно забегала на часок-другой попить чайку у него на кухне, не признавался.
А тут незаметно зима подкатилась, и год грянул високосный. И пятницы тринадцатого числа стали выпадать все чаще и чаще. Регулярно, можно сказать. И в одну из них по неведомым теперь причинам вновь отменили спектакль. И случилось таковое несчастливое совпадение, собственно, как раз в ночь под Новый год, только по старому стилю, естественно.
Встретить его было решено в узком кругу, а заодно уж, последнее сообщалось по секрету на ушко, устроить сеанс спиритизма. Со слов Люли Черносвинской, в праздничную ночь духи особенно охотно посещают «пока еще живущих по эту сторону Добра и Зла». Прошу прощения за высокопарное выражение, но я только процитировал ее.
Вечериночка склеилась экспромтом. Во время утренней репетиции, когда дошел слух об отмене спектакля. Идею дал, как обычно, Фелочка. Меланхолически глядя в пространство, он произнес витиевато-сакраментальную фразу, смысл которой сводился к тому, что по поводу отмены не мешало бы… Впрочем, не было, на Фелочкин взгляд, события в жизни, по поводу которого мешало бы… Так что никого его предложение не удивило. Мало того, никто и не подумал возразить.
И покатилось.
Само собой, чтоб далеко не ходить, собраться решили у Мышкина, в квартире Башмачкина, естественно. Сразу же после репетиции избранные перекочевали туда через дубовую дверь за сценой. Оттуда гонцы разбрелись по магазинам за выпивкой и закуской. Потом на кухне дамы соорудили салат оливье, селедочку порезали, открыли консервы, колбаску и ветчинку красиво разложили по тарелочкам и зеленью художественно украсили. Кроме того, были и маслины греческие крупные, и капустка квашеная как положено, с яблочками и клюквой, помидорчики в рассоле, грибки трех сортов с лучком зелененьким. Само собой, сыр, брынза, сок томатный, водочка успела в холодильнике остыть и запотеть, коньяк перелили в хрустальные графинчики, шампанское до поры выставили на балкон – одним словом, хоть и на скорую руку, а стол накрыли на славу.
Часикам к шести все уже были в сборе и решили приступить.
В первоначальном варианте, если перечислять, как принято в театральных программках в алфавитном порядке, состав был таков: ну, во-первых, Наталья Игнатьевна Врубель со своим молодым протеже. Если вглядеться, то можно было определить, что это уже другой молодой человек, впрочем, как брат-близнец похожий на предыдущего – и тоже Автор. Он скромно отрекомендовался Варфоломеевым. Об имени и отчестве речь так и не зашла, потому что тут же вмешался Зюня, тихо, но, внятно заметив, что если Наташа будет понастырнее, то юноше сегодня предстоит Варфоломеевская ночь. Так его, благодаря Зюниному каламбуру, по фамилии и запомнили.
Далее по списку шел Дункель Антон Карлович – директор театра. Чаще всего за глаза его называли «папка Карло». Так его для удобства в дальнейшем будем именовать и мы. Папка Карло, как всегда, был со своей командой. В нее входили: старший администратор Давид Григорьевич и его жена Лариса Наумовна, «борзовичка», что в переводе на русский значило – начальница «Бюро по организации зрителей». Их тоже, впрочем, порой и в глаза называли по-своему. Папка Карло, например, Давида Григорьевича ласково звал «Дэвочка», но произносил мягко и у него выходило «Де-евочка», и вслед за ним и все остальные в театре стали величать его «Девочкой». А Ларису Наумовну, с легкой руки Зюни Ротвейлера, иначе, чем «Лариса себе Наумовна», вообще никто в Москве не называл.
Такова была эта административная троица: папка Карло, Девочка и Лариса себе Наумовна.
«Эх, тройка! Птица-тройка!»…
Коренник – папка Карло – очень гордился тем, что когда-то первым из своего класса вступил в комсомол. В тринадцать лет. Тогда по росту принимали. А он был, как тепличный огурец: длинный, зеленый и весь в прыщах. Путь сего комсомольского вундеркинда от председателя совета дружины до директора «Театра на Стремянке» тернист и частично сокрыт во мраке, но, что не подлежало сомнению, пролег он через ЦК комсомола, где юный еще папка Карло хватанул чего-то не по рангу. За что был дезавуирован, однако через какое-то время прощен.
В ряды вожаков комсомола его, правда, не вернули, зато бросили на усиление аппарата Министерства культуры. С повышением, заметьте. А оттуда уже он угодил в директора «Театра на Стремянке». Театр в то время был самый что ни наесть захудалый, а, стало быть, и в Министерстве папка Карло чего-то больше, чем положено захапал. В театре же, несмотря на горькие уроки молодости, он эту свою доходную привычку не бросил. Цапал что ни попадя. Одним словом, проходимец. А по совместительству – секретарь партийной организации театра.
Ну и пристяжные от него не отставали…
Со всеми тремя у Мышкина были какие-то таинственные дела, так что не пригласить их не было никакой возможности.
Иванов, Фелочка Ченч не глядя, пришел с очередной девушкой, которую отрекомендовал – «барышня Валя». «Барышнями» он называл любую особь женского пола вне зависимости от возраста и служебного положения. Однажды он так назвал даже тогдашнего министра культуры. И прозвище «барышня Фурцева» еще долго пользовалось успехом у столичных остряков.
Фелочка обычно вел себя с женщинами, как свинья: жил за их счет и регулярно напивался до поросячьего визга. С юности он обладал удивительной способностью находить себе сожительниц, которые нянчились с ним, как с малым дитем. И с годами, превратившись из зачуханного подсвинка во вполне сформировавшегося хряка, не утратил своей «милой» способности. За женскими спинами, как за Кремлевской стеной, он преспокойно свинячил в свое удовольствие.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































