Текст книги "Немецкая философия. Философия времени в автопортретах. Том 2. Под редакцией и с предисловием Раймунда Шмидта"
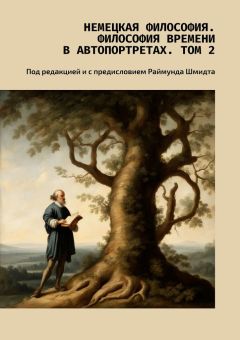
Автор книги: Валерий Антонов
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Конечно, для этих исследований, особенно для изучения рукописей, мне пришлось совершить несколько длительных путешествий, которые в то же время принесли мне благоприятное знакомство с выдающимися учеными в Италии, Франции и Бельгии, такими как Эрле в Риме, Клодий Пиат и Пикаве в Париже, Мерсье и де Вульф в Лувене.
Здесь можно лишь вкратце коснуться деталей. Публикация латинского перевода «Источника жизни» еврейского философа Авенсброла (ибн Гебироля), который до этого времени издавался только в очень сокращенном чтении на иврите, должна была представить спорный источник неоплатонического движения. В ее переводчике, испанце Доминикусе Гундиссалинусе, появился первый представитель нового аристотелевско-арабского движения XII века, который все еще работал в полностью компилятивной манере, о котором я дал обобщающую характеристику и для которого серия работ, начатая мной, определила его место в истории. Я вернулся к нему позже, в связи с публикацией работы Альфараби о происхождении наук (1916), которую он перевел и которая характерна для переходного периода. Его работа об Алане Лилльском и публикация рукописного трактата против амальрикейцев, ентиномистской секты, возвысившей неоплатонизм до явного пантеизма и сочетавшей его с иоахимитскими бреднями о временах мира, продвигали в платонических кругах. Правильная позиция учения Николая Автрекурского, совершенно неправильно понятая Наигёаи, данная в контексте связных критических общих докладов, выявила в этом номиналисте XIV века «средневекового Юма» (1897).
Публикация «Impossibilia» Сигера Брабантского впервые сделала известным полное сочинение этого главного представителя латинского аверроизма в Парижском университете – он известен как представитель доктрины двойной истины, в то время как его оппонент Фома Аквинский, как и Альберт Магнус, стремился «христианизировать» Аристотеля и таким образом установить философско-теологический синтез, – которое Фр. Мандонне вскоре опубликовал полное издание, сопровождаемое великолепным историческим очерком. Я не буду вдаваться в различные споры, которые впоследствии последовали за вопросом Сигера; через множество неприятных моментов они, тем не менее, все больше проясняли истинные факты центрального вопроса философского движения в период расцвета средневековой схоластики. Еще во Вроцлаве я завершил первую литературно-историческую часть книги о силезском философе и естествоиспытателе Витело.
Благодаря поддержке дальновидного издателя, интересующегося наукой, я смог основать «Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters. Texte und Untersuchungen» («Вклад в историю средневековой философии. Тексты и исследования»), который объединил многие силы в совместной работе над 22 солидными томами и двухтомниками на сегодняшний день. По моей просьбе Г. Фрайх. фон Хертлинг, чье имя выражало программу со времен его «Albertus Magnus», также выступил в качестве соредактора, начиная со второго тома, но, к его сожалению, не смог принять дальнейшего участия в самой работе, кроме предложения нескольких трактатов его учеников, из-за других многочисленных требований.
III.
После семнадцати лет счастливой деятельности на берегах Одера – я устоял перед соблазном поехать в Вену – осенью 1900 года я последовал призыву в Бонн, на место моего бывшего критика Нойхойзера. Там я снова встретил Бенно Эрдмана, чьим стимулирующим философским обменом идеями я уже наслаждался в течение нескольких лет в Бреслау. Однако, как ни привлекала меня интеллектуальная атмосфера рейнского университета, я покинул Бонн всего через пять семестров, когда получил срочный вызов от факультета и правительства Страсбурга, где в связи с переездом Виндельбанда в Гейдельберг освободилась кафедра, которую я счел своим патриотическим долгом занять. Я никогда не забуду десять лет, проведенных в немецком Эльзасе, которому я посвятил всю свою душу и которому до сих пор с болью предано все мое сердце, после того как на Пасху 1912 года я поменял Страсбург на Мюнхен, чтобы занять там место преподавателя философии Георга фон Гертлинга, как когда-то в Бреслау, который тем временем был назначен с кафедры на должность главы баварского государственного министерства по доверию своего регента.
Но позвольте мне вернуться к внутреннему развитию. В Страсбурге я только завершил «Витело», начатое мною в Бреслау. Я отредактировал неоплатонический трактат о теории интеллекта, который Рубчинский приписывал силезскому Вителло, или, скорее, Витело, из-за сходства его метафизических взглядов, вместе с соответствующими философски значимыми главами «Перспективы». Литературные вопросы уже были рассмотрены в печатной части – с тех пор, конечно, я признал то, что считал возможным с самого начала, что этот трактат старше «Перспективы» Витело, даже если оба принадлежат к одной группе – и краткая ориентация в истории идей должна была завершить работу. Только во время заключения план изменился. Короткий набросок последней главы вырос в толстую книгу, которая была закончена только в 1908 году, но которая, таким образом, представляет собой как бы недостроенный лес, из которого, кстати, кое-кому уже удалось нарубить дров. В нее вошли целые монографии по истории идей. Прежде всего, мне было интересно пролить свет на особенность платонического и неоплатонического движения, значение и распространение которого до этого момента было так мало признано даже в рамках высокой схоластики. Так, анализ мотивов доказательств существования Бога показал характерные различия между старым, концептуально-рационалистическим, и новым, аристотелевским типом, основанным на платонизирующих направлениях мысли, и тем самым позволил найти как место для концепции этого трактата, так и точки зрения для объективной критики такого концептуального реализма внутри самой схоластики. Я также проследил последствия платоновско-августиновской доктрины знания в противовес аристотелевской в соответствии с ее особенностями в рамках высокой схоластики. В частности, я стремился показать, как в контексте этих антиаристотелевских, платонизирующих течений в схоластику проникает воззрение, уходящее корнями в глубочайшую древность, – я назвал его «метафизикой света», – которая, не в чисто фигуральном смысле, видела в свете, происходящем от божественного первозданного света, медиум знания, принцип жизни и одновременно космообразующий фактор. Эта метафизика света в трактате об интеллекте сочеталась с математико-физическим мышлением в «Перспективе» Витело – из которой в то же время прослеживалось ассоциативное объяснение психических образований, восходящее к арабскому Альхазену.
Полученные таким образом знания вскоре распространились по всему миру. Подобный платонизм, сочетавшийся с естественными науками, возник и у других мыслителей, ставших более известными в то время, таких как Дитрих фон Фрейберг и Берхтольд фон Моосбург. Более того, все эти поначалу столь обескураживающие явления были частью целостного платонического или неоплатонического движения, которое в основном базировалось в южной и западной Германии – поэтому я назвал его платонистской «юго-западной немецкой школой», чтобы провести современную параллель. У Альберта Магнуса, наряду с традиционным августинским теологическим направлением, взятым на вооружение Хью Страсбургским, и аристотелевским, продолженным Фомой Аквинским, оно составляло одну из сторон его всеобъемлющей природы, которая оттуда, как и у Дитриха Фрейбергского, перешла к ученику Альберта Ульриху Страсбургскому и, в большей степени, стала решающей для Мейстера Экхарта. Образ мышления Данте также неоднократно оказывался связанным с этим направлением в философских вопросах, несмотря на все его отношения с Фомой Аквинским, особенно в теологических вопросах. В страсбургской речи 1912 года о доле Эльзаса в интеллектуальных движениях Средневековья и мюнхенской речи о платонизме в Средние века (1916), а также в различных других местах я попытался сформулировать эти взгляды более четко. В псевдогерметической «Книге 24 мастеров» (1913) я сделал доступным новый, по общему признанию, более декоративный документ такой платонистской мысли с ее загадочными определениями Бога в неопифагорейской окраске.
Таким образом, при всем моем уважении и признании схоластического синтеза, кульминацией которого стал Фома, я стремился, особенно благодаря его четкой сбалансированности, выявить живое богатство и полное напряжение жизни повсюду, Я также попытался включить натурфилософию Роджера Бэкона, хорошо знавшего язык и природу, и в особенности его учение о материи и форме, индивидуальности и универсальности, в соответствующий контекст (1916).
В ходе многолетнего изучения труда Альфреда Англикуса «De motu cordis» объединилось множество различных интересов. С одной стороны, это было интересное сочетание научных и философских интересов, в котором, однако, к платонизму и неоплатонизму добавилось очень сильное аристотелианство. Это, однако, было связано с другим вопросом, который сам по себе был чисто литературно-историческим, но который, в силу особого, сильно восприимчивого характера средневекового философствования, имел в то же время немаловажное значение для истории философии и к которому меня уже привело исследование о Сигер-ион-Брабанте. Это был вопрос о рецепции настоящих философских трудов Аристотеля, который был известен более древнему латинскому средневековью в основном только как логик. Доказав истинную дату написания более раннего и слишком позднего сочинения Альфреда и определив переводы, которыми он пользовался, отчасти с помощью новых рукописей, можно было получить немалые новые сведения. В кругах «Beiträge» Грабманн затем заново занялся этим вопросом о переводах Аристотеля, всесторонне изучив рукописи.
Недавняя публикация о Петре из Гибернии, земляке Михаила Скота, и его диспуте перед королем Манфредом также относится к аристотелевскому кругу. На основании обнаруженной рукописи мне удалось составить представление о первом философском учителе Фомы Аквинского, который познакомил его с аристотелизмом еще до Альберта Великого и дал ему здесь первое отношение, и таким образом, как мне кажется, это не только вклад в эпоху Гогенштауфенов, но прежде всего тот, который проливает свет на карьеру самого великого из схоластов.
Осталось упомянуть еще два обобщающих описания. То, что казалось мне наиболее значительными аспектами средневековой философии в целом с точки зрения истории идей, как богословов, так и богословски ориентированных философов, и то, что и в наши дни требовало и заслуживало обсуждения, я кратко изложил в разделе о средневековой европейской философии, который появился в общей истории философии в книге Хиннеберга «Kultur der Gegenwart» (1909). Мое стремление там вовсе не заключалось в том, чтобы представить все явления с максимально возможной полнотой и единообразием. Моей целью было охарактеризовать времена, движения и действительно представительных людей и представить как можно точнее, без всякого переосмысления или неверного толкования, те идеи, которым есть что сказать сейчас, как и в свое время. – Аналогичным образом и в соответствии с аналогичными точками зрения, также сознательно избегая благодарной и удобной формы удобного для изучения компендиума, я затем добавил ко второму изданию (1913) в качестве подготовки обзор патристической философии, то есть философских аспектов Отцов, а не всей патристики, включая ее богословское содержание.
Я более подробно остановился на своей работе по средневековой философии, поскольку считаю, что именно здесь я смог дать наибольший стимул для исследований. Разумеется, мой интерес и моя работа с самого начала и во все большей степени были сосредоточены на более поздней философии. Оставив обобщающее изложение материала в аудитории, я в литературном плане рассматривал немалое число отдельных явлений, в которых, однако, очень хорошо осознавал связь с собственным внутренним ходом развития, особенно в тех статьях, которые были выражением фактического рассмотрения определенных теорий, в то время как другие были направлены на доказательство исторических связей или формирование ярких индивидуальных образов. Фактические дебаты – а их можно вести, не выступая постоянно от своего имени, – были, понятно, важны для меня прежде всего в отношении Канта, который тоже неоднократно потрясал меня, как никто другой, и чей критицизм, с одной стороны, и этический идеализм, с другой, я стремился почтить как положительно, так и отрицательно в эссе, посвященном столетию со дня его смерти. Точно так же с Комтом и Спенсером, где речь шла о самоутверждении теистической метафизики против позитивизма, агностицизма и эволюционизма, и с Бергсоном, чья философия жизни* и опыта в контексте романтических настроений, знакомых мне с ранних лет, сильно захватила меня, но, несмотря на все, что она принесла, чтобы преодолеть лысый позитивизм, все еще выглядела как логически несостоятельный иррационализм. Не меньше в серии статей о философии государства – как с древним Платоном, так и с более поздними Спинозой, Руссо и Фихте. Работы о Джордано Бруно и Декарте, а также несколько эссе о Локке, в которых я попытался внести вклад в прояснение некоторых понятий путем выяснения их предыстории, восходящей к Средним векам, были обязаны своим происхождением чисто историческому интересу. Юношеский интерес к гуманизму сочетался с работой по Средним векам в трактате о средневековом и ренессансном платонизме. В других работах меня интересовало прежде всего создание яркой картины личности, ее характера и развития. Так было с поэтом-философом Сюлли Прюдоммом и мюнхенскими писателями Прантлем, Кюльпе и фон Хертлингом.
IV.
Хотя в своих работах я выступал прежде всего как историк философии, как я уже отмечал, философия никогда не была поглощена историей. В конечном счете, история также поставила себя на службу самой философии, не конкретной системе, а философской истине как таковой. Вот почему я так и не смог заняться редактированием исторических сборников, о которых часто мечтал. Для меня философия была прежде всего историей проблем, и ее важнейшая задача состояла в том, чтобы позволить развитию самих фактических проблем возникнуть из исторических событий. Таким образом, мои собственные философские взгляды, пусть и не в виде законченной системы, возникают, как они складывались у меня в ходе постоянного критического повышения квалификации, не только в немногих полностью или преимущественно систематических работах, появившихся у меня до сих пор, например, в книге о восприятии и мышлении (1913) и в более раннем очерке о метафизике, но и в некоторых исторических работах, прежде всего в дискуссиях с современными философами, с Кантом и позитивизмом, со Спенсером и Бергсоном, а также в подробной рецензии на «Логику» Эрдмана, после которой я, по общему признанию, вышел за рамки некоторых взглядов, которых придерживался в то время. Недавно я очень кратко изложил свою позицию по основным проблемам в трактате о борьбе между мировоззрением и взглядами на жизнь, который, разумеется, был максимально усечен из-за ограниченности места.
Некоторые из основных моментов, на которых я акцентировал внимание, кратко затронуты здесь, но не в форме фактического, аргументированного отчета, а в форме характеристики. В основном, однако, я касаюсь только характера моего отношения к фактическим проблемам, то есть эпистемологического и методологического, а не самого фактического содержания, поскольку я разработал его в систематической форме в устной речи, но не в публикациях, на которые я должен в основном ссылаться здесь. Таким образом, я предлагаю здесь лишь несколько фрагментов, хотя они и характерны в некоторых отношениях.
1. Мое поколение начало свое философское развитие в то время, когда философии приходилось бороться со всех сторон за свое право на существование. В своей метафизически ориентированной форме она стремилась закрепить за собой своеобразное поле научного исследования в учении о знании, независимо от того, что она представляла себе эту задачу в более психологическом ключе, в смысле анализа генезиса человеческого познания, независимо от того, что она подчеркивала, по крайней мере в тенденции, структуру содержания знания и его обусловленность содержанием. Только это оставалось научной философией, а философия в том смысле, в каком ее культивировали Платон и Аристотель, Средние века, Декарт и Лейбниц, за исключением узких кругов, продолжала существовать только в исторических наблюдениях, а в остальном считалась ненаучной спекуляцией, возникающей из потребностей ума и воображения. Лотце, конечно, был одним из немногих великих, кто не отрекся от философии в старом смысле. То, как он переосмыслил значение платоновских идей с точки зрения сферы достоверности, несмотря на их историческую неточность, дало значительный импульс, который распространился во всех направлениях.
Я всегда утверждал, что от такой всеобщей задачи философии, к которой стремились великие метафизически ориентированные системы, нельзя отказываться, что это не упрямство, которое просто отвлекает от чего-то более важного, а необходимое требование разума. Конечно, с одной стороны, у философии есть и особая техническая задача. Как психология и как наука наук – как логическая методология и как эпистемология, устанавливающая и ограничивающая достоверность, – она, подобно своим собственным дальнейшим, особенно метафизическим исследованиям, должна была централизованно обосновать, закрепить и критически сдержать работу отдельных наук. Но помимо этой функции, которая все еще остается на поверхности интеллектуального шара наук и поэтому сама в определенном смысле остается специализированной научной функцией, существует трансцендентальная функция, которая стремится с поверхности в глубину и тем самым делает философию фундаментальной дисциплиной в новом смысле. Это вопрос о глубинном смысле и значении мира и контекста существования, в котором мы находимся, и его конечных основаниях, а также о смысле и цели жизни для человека и сообществ, о ценностях и их глубинном обосновании. Эти последние вопросы не касаются исключительно ценностей, чтобы не оставлять проблемы бытия полностью в ведении естественных наук. Вопрос о предельном контексте бытия, в котором мы находимся, уже ставит своеобразную проблему предельного смысла в сфере самого бытия, даже помимо ценности этого контекста в себе и для нас, которая не постигается науками об отдельных сферах бытия, естественными науками, даже в их коллективной совокупности, и поэтому остается в ведении философии как метафизики. Именно поэтому термин «Weltanschauung» (мировоззрение), введенный в эпоху романтизма – Йозеф Гёррес использовал его в 1807 году в «Немецкой народной книге», в противоположность специализированному взгляду отдельного субъекта, – лучше всего описывает этот взгляд на конечную задачу философии, несмотря на все колебания, которые с ним связаны. Разумеется, мы должны дополнить его «взглядом на жизнь», чтобы с самого начала подчеркнуть практическое наряду с теоретическим и этическое наряду с метафизическим.
Однако такой взгляд на мир и жизнь является философским лишь постольку, поскольку он выработан рационально. Этические императивы, религиозный опыт, эмоциональные интуиции воображения – такие же объекты и основания для философского исследования, как и эмпирические факты физической и психологической природы, но не инструмент философской эпопеи. С другой стороны, философия – это не конструирование всей реальности из понятий, изначально лежащих в разуме, и не конструирование мира из условий сознания, постигающего себя в собственном «я». Рациональность философствования может заключаться только в том, что предпосылки того, что постигается в непосредственном внешнем или внутреннем опыте, ищутся в непротиворечивом причинном мышлении, из которого непосредственно переживаемое обретает единый смысл и понимание, соответствующие причинному требованию. Однако, в отличие от иррационализма и скептицизма, такой взгляд будет включать в себя и последнюю предпосылку, которая может быть обоснована лишь косвенно и уже не может быть выведена позитивно, – что реальное рационально в своих конечных причинах и, с другой стороны, что мышление реально в своей цели и своих принципах порядка. Это означает, что для рациональной – не рационалистически конструирующей – философии иррациональное не более исключено из мира, чем это необходимо для того, чтобы сделать мышление конгруэнтным образом реальности.
Но это уже подводит нас к теории познания.
2. Не всякое мышление есть познание, а только то, которое определяется в своем содержании фактами, с которыми мысль не тождественна, но к которым она относится как содержание, имманентное сознанию. Иными словами: только истинное мышление, т.е. поскольку истина полна только в суждении, только истинное суждение есть познание; истинное же суждение есть такое, в котором содержание суждения соответствует фактам. Таким образом, для меня понятие факта в его отличии от содержания суждения является ключевым моментом эпистемологии. Я уже подчеркивал это много лет назад, хотя и в другой форме выражения и в чисто логическом контексте, в споре с теорией гипотетического суждения Эрдмана. Именно факты стандартизируют суждение и тем самым определяют познание, а не пригодность предположения для развития жизни субъекта – здесь конкретная версия антипсихологической базовой концепции возникла для меня уже в начале дискуссии со Спенсером – и не условия возможности постижения сознанием, даже если они устанавливают пределы познания. Как эмпирическая истинность суждения состоит в том, что концептуальное содержание суждения действительно выражает то, что содержится в эмпирических фактах как основании суждения (а не: то, что содержится в субъекте суждения), так и в высшем эпистемологическом вопросе это понятие истины не должно быть заменено другим, принципиально иным. Эпистемологическая истина также требует, чтобы мышление, чтобы вообще быть познанием, соответствовало положению дел, которое не было бы впервые установлено самим мыслящим, судящим сознанием. И это требование относится не только к содержательному материалу, в котором нам даны объекты познания. Оно также должно относиться к существенной структуре и закономерности объектов познания. Если разница между направлением, обозначенным именем Аристотеля, и кантовским заключается в том, что для Аристотеля истина – это соответствие между мыслью и вещью, а для Канта – соответствие условиям сознания, то моя эпистемологическая установка в своей основной идее является полностью аристотелевской. Если бы я мог коротко охарактеризовать ее одним словом, я бы назвал ее объективизмом.
Для этого объективизма существенно, что в познании он позволяет мышлению ссылаться на трансцендентный факт по отношению к воображающему и судящему сознанию. Такие факты могут быть основаны в реальном физическом внешнем мире, в реальном мире психических существ (с пограничным случаем, когда психическое существо постигает себя и содержание своего собственного сознания), в идеальном мире действительных сущностей и отношений (например, математических), которые сами по себе свободны. Идеальный мир действительных сущностей и отношений (например, математических), которые сами, конечно, не существовали бы, по крайней мере, без психических существ, в идеальном мире ценностей, к которому относится то же самое, наконец, в чисто метафизической области познания в Абсолюте, который является конечным основанием всего этого и без которого не было бы ни реального физического и психического бытия, ни идеального действительного бытия. Но как мышление может вообще приблизиться к факту, который отличен от него, – вопрос, уводящий в метафизические контексты. Как и на все метафизическое, на него нельзя ответить a priori, а только через предположение, предположение, что логическое выражено в самих фактах (пусть даже не в смысле гегелевского априорного панлогизма, порождающего содержание из диалектической формы), что сами факты основаны в Логосе, в котором имеет свое конечное основание и воображающее и судящее сознание. Если мой объективизм в своей основной тенденции является аристотелевским, то метафизически он включает в себя мотив платоновского учения об идеях. Но это не чисто эпистемологическая точка зрения. Для него на первом месте стоит сущностная особенность мысли, которая не подлежит дальнейшему выведению, а должна быть принята как данность, «означать», «идти навстречу», «намереваться», или также: иметь «значение». Эпистемологическое признание этой особенности, существенной для мышления, облегчается признанием своеобразия функции мышления в «психологии мышления». Об этом я говорил на нескольких страницах Anschauung und Denken.
Факты постигаются через имманентные содержания сознания, мысли – «мысли» в смысле того, что мыслится, verbum mentis древних, а не мышления как мыслительной деятельности, как можно также различать суждение и оценку. Эти мысли можно рассматривать в их абстрактности, не принимая во внимание индивидуальную мыслительную деятельность, как это делает логика, которая имеет дело только со смыслом, а не с психологией мышления, и которая затем приписывает мыслям вневременность, то есть отрицательную, а не положительную вечность, а также общность для всех сознательных субъектов, то есть опять-таки не в положительном смысле, а в отрицательном смысле исключения индивидуальной принадлежности.
Теперь эти мысли являются познаниями, если они не ограничиваются содержанием или смыслом мысли, но если их смысл простирается дальше, к реальному или идеальному положению вещей, и если они соответствуют этому реальному или идеальному положению вещей. Поэтому – согласно известному возражению – сами факты не обязательно должны становиться мыслями. Аристотелевская эпистемологическая концепция истины не требует, чтобы сознание, как в случае эмпирической истины, постигало содержание суждения и фактов, каждый сам по себе, удерживало их вместе и сравнивало друг с другом. Речь идет скорее о том, что сознание «имеет в виду» не сами свои мысли, свои восприятия, идеи и понятия, в когнитивном мышлении (при этом познание отношений, существующих между самими мыслями, чисто логическая задача, здесь игнорируется), а свои мысли и через них факт, причем так, что мысль включает свое отношение к самому факту в себя, как возможность в понятии, завершенном в суждении.
В смысле объективистского тезиса теперь еще и то, что это отношение мысли к факту не только находится в намерении мысли, но что оно также правильно, что через элементы мысли элементы факта, через порядок мысли постигается порядок факта, и что именно правильность этого отношения составляет эпистемологическую истину. Как возникает этот порядок мышления, осознание принципов мышления – принципа противоречия, идущего к сущности и существованию, принципа причинности, идущего к существованию, – а также структурных понятий объективного, категорий, – это не предмет обсуждения здесь, а скорее предмет дальнейшего исследования. Конечно, не в том смысле, что порядок просто переходит из фактов в сознание; скорее, под вопрос ставится природа сознания – реального, конкретного сознания, а не абстрактного эпистемологического понятия сознания вообще, которое, будучи абстрактным, предполагает то, от чего оно абстрагировано. При этом, конечно, следует отметить, что эти упорядочивающие элементы воображающего и судящего сознания формируют лишь мысли, посредством которых постигаются факты, а не сами факты; разум не является «законодателем природы». Каково бы ни было происхождение этих принципов и структурных форм мышления, объективизм утверждает, что они фактически являются средствами, позволяющими сознанию распознавать факты. Не только в сенсорном материале опыта, но и в формах мышления; если оно использует их надлежащим образом, то мышление действительно постигает факты. Если, в частности, необходимо постичь определенные реально существующие факты, то отправной точкой мысли всегда должен быть внешний или внутренний опыт, поскольку мысль сама по себе не может вывести действительное отношение к определенному существованию.
Таким образом, этот объективизм является реализмом. В отношении своей действительности принципы мышления и категории также являются для него сначала определениями бытия, а затем мышления, но, конечно, не определениями бессмысленного, тусклого бытия, а фактическим поведением, в котором выражает себя даже логос. Конечно, он не может прямо и априорно показать, что это так; тогда ему пришлось бы допустить, что фактическое поведение вытекает из сознания, и тогда оно перестало бы быть нормативным для сознания. Таким образом, обоснование может быть дано только косвенно. Необходимо показать, что только при этом условии контекст, в котором мы находимся, становится осмысленным, т. е. свободным от противоречий и соответствующим рассуждениям. Но то, что этот контекст вообще имеет какое-либо значение, – это первое предположение, которое необходимо сделать, если мы вообще хотим говорить о познании. Без первого требования, первого действия, т. е. первого предположения, мы не можем двигаться дальше.
Но этот реализм не является наивным. Он не предполагает, что мышление, основанное на феноменальном опыте, теперь также адекватно постигает факты, в частности бытие реального внешнего мира, в их бытии-в-себе. Только то, что из таких реальных фактов, из их элементов и порядка – а порядок без принципов бытия противоречия и (правильно понятой) причинности был бы вообще немыслим – познающее сознание постигает в каждом случае через имманентные ему категории; оно может проникнуть в то, как, только в определенной степени и только в прогрессивном процессе в большей или меньшей степени. Некоторые вещи в мышлении принадлежат только сознанию в соответствии с их природой. Поэтому реализм может быть только критическим реализмом. «Критический», конечно, не в смысле кантовского критицизма, в таком случае критический реализм, конечно, был бы таким же противоречием, как и критическая трансцендентальная метафизика, о которой речь пойдет ниже.
3. В то же время из этих определений становится понятным эпистемологический смысл, в котором мы говорили выше о метафизике как завершении философии. Подобно тому, как наука о природе, исходящая из духа критического реализма, для объяснения явлений делает допущения, из которых данные явления, проработанные в их функциональной закономерности, могут быть выведены как сверхсмысл, и таким образом идет путем обратного каузального умозаключения и, следовательно, ищет причину, Однако, подобно тому, как в позитивизме эти обосновывающие предположения рассматриваются не как простые экономические фикции, а как реальное знание, как приближение к истинному положению вещей, которое даже выражает себя в них чисто в определенных базовых детерминациях, так же будет происходить и в отношении вопроса об общем контексте. И здесь метафизика критического реализма не будет делать невозможной попытки вывести эти конечные причины из понятий или условий сознания, а будет стремиться постичь то, что трансцендентно опыту, в виде необходимых предпосылок того, что дано в опыте природы и духовной жизни. В той мере, в какой ее трансцендентальный метод, каузально идущий назад, исходит не из чистых понятий, а из совокупности того, что дано во внешнем и внутреннем опыте, чтобы отыскать условия, которые должны быть предпосланы, ixo&totis в платоновском смысле (а не в смысле того, что называют «гипотетическим» из-за его неопределенности), она может быть названа «апостериорной» в отличие от априорной метафизики. Однако, поскольку это предполагает неверную идею о том, что содержание самой метафизики должно быть дано a posteriori, я предпочитаю этот термин, используемый другими, термину «критическая метафизика». Эта критическая метафизика не отказывается от претензии быть наукой и давать знание, даже если оно не носит априорного характера; ибо она считает достаточной в каждой области науки ту субъективную степень уверенности, которая соответствует природе объекта знания и, в частности, тому, как он предстает перед нами.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































