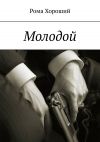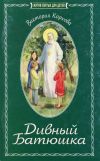Текст книги "Юпитер поверженный"

Автор книги: Валерий Брюсов
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 12 страниц)
VI
Снова забилось мое сердце, когда я подходил к столь известному мне дому на Виминале, где я пережил так много часов и последнего счастия, и краткой скорби. Неподалеку от дома я заметил несколько рабов, которые без дела толпились на улице, и среди них признал хорошо знакомого мне Мильтиада. Я его окликнул, и старик, тотчас узнав меня, подбежал ко мне.
– Ах, господин Юний, – вскричал он, – тебя ли я вижу! Отчаялся я уже еще раз повидать тебя в жизни. Я – стар, а тебе зачем было ехать в наш несчастный Город?
– Почему ты его назвал несчастным? – спросил я. Но, перебив сам себя, продолжал: – Или лучше расскажи мне, как в вашем доме поживают?
– Плохо, очень плохо, господин, – откровенно сознался старик, понижая голос, – illustrissimus[83]83
Illustrissimus – «сиятельнейший» – звание, присваиваемое сенаторам.
[Закрыть] почти ни во что не вмешивается… да ты знаешь, конечно, почему и чем он занят целые дни. A domina Мелания и domina Аттузия целые дни проводят с попами или по церквам. Скупы они стали ужасно, мы все голодаем, а все доходы идут на христианские храмы. Даже все клиенты нас бросили. Плохо, господин, очень плохо!
После таких неутешительных известий, я приказал доложить о своем приезде, но Мильтиад объявил мне, что это не нужно, и прямо повел меня к дяде.
Несмотря на дообеденный час, я застал досточтимого сенатора Тибуртина уже за кубком вина, в его любимом таблине. Самый беглый обзор дома показал мне, что обветшание его увеличилось безмерно и что содержится он крайне небрежно; а при первом взгляде на дядю я, с горестью, убедился, что он постарел за эти годы не на десять, а на тридцать лет; передо мною сидел совершенно дряхлый старик, с мутными глазами и трясущимися руками. Дядя не сразу узнал меня; когда же я себя назвал, проявил некоторое удовольствие и тотчас налил мне кубок какого-то вина.
После первых расспросов о моей судьбе, на которые я ответил уклончиво, дядя тотчас заговорил о современном положении дел в Городе.
– Губят империю, – сказал он, – не остается более Римлян. В Сенате и вокруг императора – одни варвары или низкие честолюбцы. И сам этот император (дядя огляделся, не подслушивают ли нас) – просто пройдоха, бывший писец, по соизволению нашего франка, надевший диадему. Я больше в Курию не хожу, не хочу участвовать в позорном деле. Благодарю богов, что мне осталось жить недолго и что я уже не увижу развалины вечного Рима!
– Помилуй, дядя, – возразил я, – как говорить это в дни, когда исполнены лучшие наши надежды! Храмы богов восстанавливаются, жертвы приносятся открыто, на значках легионов вновь изображение Геркулеса! По правде, Рим возрождается, а не гибнет.
– Я стар, – с сердцем сказал мне сенатор, – живу в Городе и лучше тебя вижу, в чем дело. Ведь император-то кто? Христианин! Велика ли честь получить позволение поклоняться богам от их врага, от христианина! Да и позволение-то дано лишь для того, чтобы привлечь людей старой веры в легионы! Погоди, будет одно из двух: или Феодосий разметет легионы этого Евгения, как сор, а самого императора прикажет высечь, как мальчишку, и бросить в тюрьму; или, – если наперекор всем вероятиям, одержит победу Арбогаст, – сразу кончатся все эти вольности. Христиан они затрут, а над Римом воцарятся франки, и тот же Арбогаст станет восьмым римским царем, первым после Тарквиния.
В том же духе дядя говорил еще многое, показывая все же ясность ума, несмотря на жалкое состояние, в какое его повергло давнее пристрастие к богу Бакху. Но когда появилась тетка и Аттузия, дядя сразу замолчал, словно испугался, и уже больше нельзя было добиться от него ни слова. Тетка также сильно постарела, превратилась в сморщенную старуху, на которую теперь не польстился бы никто даже ради денег, а дочь ее, Аттузия, только еще больше высохла и почернела и, в своем черном платье, имела вид монахини.
Тетка встретила меня сурово и почти с первых слов перешла к поучениям:
– Знаю я, зачем ты пожаловал! Спокойно мог бы оставаться в своей Аквитании. Больше пользы честно обрабатывать свои земли, чем здесь вмешиваться в мятеж против законного государя. Да и в опасное дело ты здесь впутываешься: смотри, не сносить тебе головы.
Я возразил, что приехал по торговым делам, но мне не поверили, и Аттузия добавила:
– Ты воображаешь, что ваши сильны? Каждый мальчишка всякими насилиями удерживает власть до поры, до времени. Хотят восстановить времена неистовств Диоклециана и вновь устроить гонение на христиан. Но преклонится Рим пред истинной верой. Вот, месяца полтора назад, здесь, в Городе, был проездом святой человек, Павлин. Посмотрел бы ты, как все улицы были запружены народом, чтобы повидать его! Стар и млад теснились вокруг него. А когда вашего нового консула проносили по улицам, на них так <было> пусто, словно мир вымер. Погоди немного: благочестивый император Феодосий покажет вам скоро, что значит гнать христиан. Восплачут все тогда о своих головах, да поздно будет.
– Помилуй, Аттузия, – возразил я, – я вовсе не собираюсь гнать христиан. Но, с другой стороны, помню, что ваша вера повелевает за зло платить добром. Как же ты грозишь нам местью благочестивого Феодосия? Тетка пришла в ярость и сказала:
– Ты, Юний, возмужал, но не поумнел. Опять заводишь свои диалектические споры.
Аттузия же, намекнув, что реторике я не доучился (словно сама она ее изучила!), важно стала объяснять мне, что между праведным гневом государя и местью – большая разница.
Такой скучный разговор продолжался еще некоторое время, после чего я начал прощаться. Тетка предложила было мне остаться обедать, но я, не ожидая от обеда в доме дяди ничего хорошего ни для своей души, ни для своего желудка, решительно отказался.
– Ты все-таки приходи к нам, Юний, – сказала тетка. – Мы рады видеть у себя родственника.
Я же, хотя в ответ на это приглашение и пообещал приходить, тут же мысленно дал себе клятву, что больше никогда не переступлю порога дома Тибуртина, где тяжело мне было видеть унижение моего дяди сенатора, а также торжество двух женщин-лицемерок.
От дяди я пошел домой, то есть на Холм Садов, в дом Гесперии, где меня уже ожидала предупредительно устроенная для меня ванна. После бани я отдыхал в своей комнате, так как чувствовал большое утомление от непрерывно для меня сменявшихся событий в тот день, опять предавшись невеселым размышлениям. Но испытания того первого дня, проведенного мной в Городе, не были еще закончены.
Гесперия, очевидно, порешила, что ее влияние на меня недостаточно, и захотела укрепить свои сети новыми соблазнами. Поэтому к обеду никто не был приглашен, и мы оказались с ней наедине. Пока рабы подавали смены роскошных блюд, слишком изобильных для двух застольников, Гесперия вела со мной легкую беседу, то остроумно рассказывала мне о разных, – впрочем, совершенно незначительных, – событиях своей жизни, то опять начинала посвящать меня в дела империи, то вдохновенным голосом говорила о нашем великом деле и о истинной религии предков.
Когда же были поданы плоды и вновь наполнены вином наши кубки и рабы удалились, Гесперия переменила голос и заговорила со мной по-другому.
– Вот мы одни, милый Юний, – сказала она, – и можем, наконец, на свободе поговорить о самих себе. Я еще не сказала тебе, как я тебе признательна за то, что по моему первому зову ты сюда прибыл. Это было большое испытание, но я верила в тебя и знала, что все печальные события прошлого не могли изменить твоих чувств, как они не изменили моих.
Как всегда, в присутствии Гесперии душа моя двоилась. С одной стороны, я угадывал коварство и расчет в ее словах, ясно видел, что она говорит с определенной целью. С другой стороны, вкрадчивый голос Гесперии, ласковость ее слов и нежный взгляд ее глаз действовали на меня непобедимо, как магическая формула на заклинаемого Демона. Стараясь сохранить самообладание, я ответил:
– Domina, я помню, что дал тебе страшную клятву. Не столько ради моих чувств к тебе, сколько из благоговения к богам, я должен был ее исполнить.
– Милый Юний, – возразила Гесперия, – мы одни, и больше не надо притворствовать. Я хочу говорить с тобой вполне откровенно, так, как мне говорить долженствовало десять лет назад. Я ничего с тебя не требую, я хочу, чтобы ты во всем поступал по своей воле. Скажи, что ты больше не любишь меня, и тогда я первая посоветую тебе немедленно ехать домой.
В ту минуту я не знал, что ответить. Одну минуту мне хотелось сказать: «Да, я больше не люблю тебе», – но я не уверен был, что после таких слов у меня станет сил уехать, и я не знал, будет ли такое признание правдой. Поэтому, колеблясь, я сказал:
– Гесперия! по совести, я не знаю, люблю ли я тебя теперь!
Глаза Гесперии стали печальными, как у маленькой девочки, которую незаслуженно обидели, и она, медленно подвинувшись ко мне, произнесла раздельно и тихо:
– Так, Юний! Ты этого не знаешь… А я знаю, что я тебя не переставала любить никогда, все эти долгие годы, когда не смела даже написать к тебе и думала, что ты меня презираешь! Сколько раз, в пышных Треверах, где протекали мои самые несчастные дни, ночью, одинокая на своем ложе, я вспоминала тебя и плакала, плакала, представляя твое лицо, подобное лику юного Меркурия!
Гесперия вдруг приподнялась на ложе и обнажила до плеча свою белую, словно из мрамора изваянную руку.
– Сколько раз, плача, я целовала этот шрам, оставленный на моей руке от твоего кинжала! Юний! Юний! я любила этот знак, как знак твоей любви ко мне! Целуя его, я думала, что целую твои алые губы! Ах, никто, никто в мире не получал столько поцелуев, сколько эта роковая черта на руке женщины!
Уже содрогаясь от близости Гесперии, я пробормотал, отодвигаясь:
– Гесперия, чего ты хочешь от меня?
– Чего я хочу? – воскликнула Гесперия и, вдруг порывисто вскочив, бросилась на пол у моих ног.
– Чего я хочу? Хочу, чтобы ты любил меня, любил опять все той (же) своей первой любовью, не знающей меры и не знающей предела. Чтобы ты снова ради меня был готов идти на смерть! А если этой любви в тебе нет, я хочу, чтобы ты убил меня. Возьми вновь кинжал, теперь твоя рука не дрогнет! Рази меня, я буду счастлива, принимая этот удар. Юний! Юний! убей меня!
И она ползала у моих ног с исказившимся, но все же прекрасным лицом, цепляясь за мои колени, простирая ко мне руки, раскрывая свою грудь, как бы для того, чтобы мне удобнее было поразить ее. Поистине, если эта женщина притворялась, она была самым великим мимом в мире! А может быть, она и не притворялась, но правда и ложь уже так смешались в ее душе, что она сама не умела различать их.
И опять, под страстными выкриками Гесперии, под ее горячими руками, обнимавшими меня, я утратил всякую способность мыслить. Сам плача, я поднял женщину, мы сидели с ней рядом, и я, задыхаясь, рассказывал ей, что пережил в годы разлуки. Речь моя была бессвязна, как бессвязны были и ответы Гесперии, но я рассказал ей про отчаянье первых лет, про свои бессонные ночи, про свои слезы, потом про свою женитьбу и все, все, вплоть до смерти своих детей… И, среди этих трагических рассказов, мы обнимались и целовались, как безумные. Я прижал губы Гесперии к своим, когда говорил ей о смерти отца; она поцелуем прервала мои признания о скорби моей жены; и я был не то в ужасе, не то счастлив без конца… И, когда нужно было плакать, мы смеялись и пили вино, и вновь обнимали друг друга.
Так прошло, должно быть, много времени, когда Гесперия вдруг сказала, что уже поздно и что нам пора расстаться. Сразу она приняла строгий вид, оправила платье и освободилась из моих объятий. Я не посмел возразить, хотя в моих ушах еще звучали слова, сказанные ею мне накануне: «Помни, что моя дверь… <всегда для тебя открыта>». В последний раз Гесперия приблизила свои губы к моим, но уже в спокойном дружеском поцелуе, и потом звонком вызвала рабов…
Словно оборвалось представление какой-то трагедии. Мы снова стали далеки друг от друга, и Гесперия рассудительно объясняла мне, в чем будут состоять мои обязанности триумвира. Потом мы попрощались и снова разошлись, каждый в свою комнату.
VII
Утром на следующий день мне уже принесли диплому на мое новое звание триумвира, подписанную самим императором. По совету Гесперии, я щедро одарил вольноотпущенников, явившихся ко мне с этим поручением, а затем отправился во дворец, чтобы лично отблагодарить императора. Гесперия припасла для меня богато вышитую тогу,[84]84
Тога – верхнее одеяние римского гражданина.
[Закрыть] приличествующую моему званию, в которой я чувствовал себя крайне неудобно, и приказала мне подать роскошные носилки.
До того времени мне не случалось бывать на Палатине, где тогда временно жил император Евгений. Лишенный руководства, я чувствовал себя очень неловко, так как не знал, как должно себя вести. Впрочем, мой опыт службы при дворе Максима давал мне некоторые необходимые указания.
У входа в <вестибуле> дворца меня встретил <номенклатор>,[85]85
Номенклатор – раб, объявляющий имена посетителей.
[Закрыть] которому я показал мою диплому и объяснил цель своего прибытия. <Номенклатор> записал мое имя в пугиллар[86]86
«Пугиллары – таблички, обычно соснового дерева, с одной стороны покрытые воском, которые служили как записные книжки». (Прим. Брюсова.)
[Закрыть] и передал меня одному из стражей, который меня провел через ряд покоев в залу ожидания. Двор был столь велик, что один я заблудился бы в его переходах, как в диком лесу. Здесь не было безвкусной роскоши, как в Медиоланском дворце, не было позолоты и разноцветных мраморов; напротив, все обличало размеренность истинных художественных древностей – и соотношение стен, и строение линии колонн, и соответственное убранство покоев. Но на всем лежала печать медленного разрушения; кое-где украшения потолка уже осыпались и не были восстановлены, кое-где комнаты стояли пустые, так как их убранство было вывезено, виднелись пустые клетки, где когда-то пели птицы, и пустые ниши, где прежде стояли статуи.
В помещении ожидало большое множество народа, и я себе припомнил, как, в свое время, я присутствовал в Медиоланском дворце на приеме Сенаторского посольства императором Грацианом. На меня никто не обращал внимания, и я мог спокойно, устроившись в уголке, наблюдать бывшую предо мной картину. Среди раззолоченных вельмож, собравшихся здесь, меня поразило громадное количество лиц не римских: здесь было много франков с суровым выражением, немало германцев, были какие-то африканцы с черными лицами и британнцы с длинными усами. Весь этот люд тихо переговаривался, причем до меня долетали порой искаженные слова людей, плохо владевших римской речью, и вся зала гудела, как улей.
Ждать мне пришлось долго, потому что иоменклатор поочередно называл ряд других имен, среди которых большинство также не были латинские.
Наконец, было произнесено и мое имя с отчетливым добавлением титула:
– Decimus Iunius Norbanus, triumvir aedibus reconstituendis!
Сознаюсь, что сердце во мне забилось сильнее обыкновенного, когда под сотнями взоров, обратившихся ко мне, я перешел через обширную залу и по указанию <приставленного здесь раба> вступил в соседнюю комнату.
Согласно обряду, войдя, я пал ниц. Поднявшись, я мог рассмотреть маленького человечка с невыразительным лицом, с тупыми глазами и большим подбородком, одетого, впрочем, весьма просто, – то был император Евгений. Он сидел за маленьким столом, заваленным свитками. Около стоял могучий великан с чертами лица франка, и я понял, что это – Арбогаст. Несколько франкских воинов с копьями были тут же, готовых охранять жизнь императора от всяких покушений.
– Ты Децим Юний Норбан? – спросил меня Арбогаст, рассматривая меня.
– Я Децим Юний Норбан, – ответил я, – пришел принести благодарность его святости за дарованную мне милость.
– У тебя хорошее имя, – сказал тогда император скрипучим голосом, – и за тебя ручались хорошие люди. Служи же достойно. Не чини несправедливостей по отношению к тем, кто владеет храмами по праву, но закон исполняй неукоснительно. Остерегайся мздоимства. Мы нещадно караем всякое взяточничество, и, если ты провинишься в том, что за деньги потворствуешь кому-либо, ничто не спасет тебя от нашего праведного гнева.
Император закончил, а я, не зная, что должен дальше делать, снова повторил свою благодарность и дал клятву служить императору исправно. Маленький человечек за столом милостиво наклонил голову, и я вышел. Опять на меня устремились сотни глаз, но я поспешно направился к выходу из зала, где меня тотчас перехватили стоявшие там воины. Разумеется, мне пришлось раздать немало серебряных монет, а затем, получив от (распорядителя) указание, что в назначенный мне день я должен в храме (таком-то) принести присягу на верность, я мог выбраться на свободу, к своим носилкам. Через несколько минут я уже был дома, и все свершившееся казалось мне таким ничтожным, что я никак не мог понять, как может оно оказать влияние на всю мою жизнь.
VIII
Вернувшись домой, переменив свое торжественное одеяние на более простое и немного отдохнув, я отправился пешком под Большой Портик.
Уже во время моего первого пребывания в Городе я любил гулять по тем роскошным портикам, которые бесконечной полосой опоясывают чуть ли не всю область бывшего Мартового поля. И снова прежнее восхищение охватило меня, когда я вступил в эти прохладные приюты, где длинной чередой тянулись колонны из драгоценного мрамора, с золочеными капителями, где пол был убран яшмой и гранитом, где в нишах собран был целый мир изумительных статуй и где площадки, время от времени, утешали зеленью буксов, мирт, лавров и платанов. Как всегда, разнообразная толпа наполняла портики, так как сюда шли и богачи провести в прогулке часы перед баней, и знатные женщины, чтобы показать свои наряды, и знаменитые меретрики[87]87
«Меретрика – распутная женщина». (Прим. Брюсова.)
[Закрыть] – повидаться со своими поклонниками, и бедняки, которым некуда было деваться и которым было приятнее в мраморных общественных палатах, чем в своем грязном углу. Одни шли сопровождаемые толпой рабов, другие – стесненные кругом друзей и поклонников, третьи гуляли одиноко, четвертые протягивали руку, просили подаяния, – и все вокруг было наполнено жужжанием речей и по-латыни, и по-гречески, и на многих других языках империи.
Так как было еще рано, я выбрал окольный путь через Портик Септа, чтобы подойти к Большому Портику со стороны Мавсолея. Однако в Септе я невольно замедлил, вновь увлеченный выставленными там диковинками Востока, изделиями художеств Индии и стран Серов, чучелами редких зверей и рыб, образцами разного оружия далеких стран. И когда я стоял там, рассматривая эти редкости, мое внимание привлекла женщина, одетая пышно, но слишком вызывающе, вся увешанная драгоценностями, с пальцами, сплошь залитыми перстнями, в которой нетрудно было угадать знатную меретрику. Толпа юношей, одетых тоже щегольски, окружала ее, но лицо женщины мне показалось знакомым, и, всматриваясь в нее, я уверился, что она тоже с любопытством меня разглядывает.
Через минуту из толпы ее поклонников отделился один, подошел ко мне и вежливо спросил, не я ли Юний Норбан, племянник сенатора Тибуртина; когда же я ответил утвердительно, юноша объявил мне, что госпожа Мирра надеется, что я не забыл ее, и хочет со мной говорить. Хотя я не знал никакой Мирры, однако я счел своей обязанностью подойти к женщине и, приблизившись, вдруг ее узнал. То была <Лета>, сестра Реи.
– Здравствуй, Юний, – сказала мне она, – мы давно не видались. Я даже не знала, жив ли ты. Давно ли ты в Городе?
Объяснив в нескольких словах свое присутствие в Риме, я, в свою очередь, спросил Мирру, давно ли она вернулась в Город, так как при нашей последней встрече она собиралась уехать на Восток.
Мирра весело засмеялась, показывая ряд очаровательных зубов, тщательно отполированных, и, прищуривая свои подведенные глаза, возразила:
– Я уже успела забыть, что была в Вифинии. Не мое место в этой ссылке, хотя там очень красивые мужчины и прекрасное вино! Нет, я уже давно опять в Городе и весьма рада видеть тебя здесь опять. Буду также рада, если ты придешь ко мне обедать. Мой дворец помещается на <Виминале>. Спроси любого мальчишку, где дом Мирры, тебе укажут.
Я поклонился в знак благодарности на приглашение, а Мирра, вдруг вспомнив, добавила с лукавой гордостью:
– Ты помнишь, я ведь и тогда говорила, что мой дом будет на (Виминале).
По правде сказать, она говорила мне, что живет в жалком лупанаре,[88]88
Лупанарий – публичный дом.
[Закрыть] где, нынешняя залитая золотом, Мирра должна была продавать свое прекрасное тело за несколько сестерций. Я это также припомнил, да припомнил еще и тень моего бедного Ремигия, погибшего из-за любви к этой женщине, а также образ ее погибшей сестры Реи, и мне захотелось уколоть надменную гетеру.[89]89
Гетера – в древней Греции женщина, свободная от семейных уз, ведущая свободный образ жизни.
[Закрыть] Я ей сказал:
– Да, помню! Ты говорила это мне вместе с моим другом Ремигием. Кстати, вспоминаешь ли ты когда этого бедного юношу, как и свою бедную сестру, Рею?
Мирра нахмурила свои слишком черные брови и досадливо заметила:
– Я не люблю вспоминать прошлого; с меня достаточно настоящего и будущего. Vale,[90]90
Vale – прощай (лат.).
[Закрыть] милый Юний.
Я понял, что мне должно удалиться, поклонился вновь и хотел уходить, но Мирра, раскаявшись, вероятно, в своей невежливости, быстро добавила:
– Но я жду тебя к себе завтра на обед, приходи непременно.
Я же, продолжая свой путь, раздумывал печально: «Вот я вновь обрел и Гесперию, и Рею, и <Лету>, и словно ничего не изменилось в Городе за эти десять лет! только я сам стал иным, и нет во мне прежней бодрости и прежней силы!»
Под Большим Портиком я нашел толпу еще большую, чем в других, особенно по мере того, как я подвигался вперед по направлению (к) театру Помпея. Люди шли в непрерывном движении, один за другим, так что порой лишь новый голос и новые отрывки речей долетали до слуха, и новые фигуры поражали зрение, тогда как за крайними портиками, под знойным солнцем, дожидались, расположившись на камнях, рабы с носилками. Нелегко было найти в этом месте ту, которуя я искал, но, наконец, я заметил Сильвию у небольшого пруда, устроенного на одной площадке. Перегнувшись через мраморную стену водоема, девочка внимательно рассматривала спокойную глубь воды. Подойдя, я ее окликнул, и она удивленно подняла голову.
– Я не думала, что ты придешь, – сказала она.
– Почему же мне было не прийти, Сильвия?
– Ах, очень многие говорили мне то же, – как-то печально ответила девочка, – уверяли, что их встреча со мной чудо, а потом забывали обо всем. А если кто и приходил (добавила она еще печальнее), то вел себя со мной так, что я сама должна была от него скрываться.
– От меня тебе не придется скрываться, – возразил я, вглядываясь в ее лицо и вновь дивясь ее странному сходству с Реей.
Подобно многим другим, мы начали нашу прогулку под прохладными сводами Портика. Мы говорили о разных пустяках, я расспрашивал Сильвию о ее круге, но она, отвечая на мои вопросы, упорно уклонялась от решительных ответов. Я узнал только, что она живет в бедности, что ее мать работает изделия из волос, которые продает в лавки, а ее отец уехал в Африку, где надеялся нажить деньги, но уже давно не дает вестей о себе, так что неизвестно, жив ли он еще. Понемногу, однако, девочка стала доверчивее, и наш разговор стал содержательнее. Наконец, я заговорил о том, что вечно привлекательно для молодых душ и что никогда не может быть исчерпано в разговоре, – о власти чувства, которое, по понятию наших поэтов, подчинено светлой богине, родившейся из морской пены.
– Ты говоришь, – сказал я, – что многие искали знакомства с тобой? Неужели среди них никто тебя не привлекал? Неужели ты никого не любила?
Прошло несколько мгновений молчания, прежде чем девочка мне ответила. Не глядя на меня, она сказала:
– Я не так понимаю любовь, как вы все. Вы хотите от любви того, что мне не нужно. А если я кого и любила, то его больше нет в живых. И больше я любить никого не буду.
– Милая девочка! – воскликнул я, – ты так молода, что тебе еще рано произносить такие клятвы. Вся твоя жизнь еще впереди, как впереди и твоя любовь. А что было в прошлом, это – детские мечты.
Сильвия, как все очень молодые души, никак не хотела признать себя столь юной и начала решительно возражать мне, доказывая, что ей уже восемнадцать лет и что она пережила уже многое.
Мы еще говорили, но наш разговор быстро обрывался. Потом Сильвия сказала мне, что ей пора домой. Напрасно я ее уговаривал, напрасно просил возвратиться, и казалось, что мы больше не встретимся никогда. И мне не было жалко.
Но когда мы уже шли по направлению к театру Помпея, чтобы выйти на <дорогу к мосту Агриппы>, внезапно нам навстречу попалась Мирра с толпой своих поклонников. Мы встретились лицом к лицу, и я счел долгом вновь ее приветствовать. Я видел, как глаза Мирры изумленно устремились на Сильвию, и ясно было, что сестру Реи также поразило удивительное сходство. Но все это продолжалось лишь одно мгновение, потому что тотчас мы разошлись.
Сильвия спросила меня, кто была женщина, которой я поклонился.
– Это – твоя сестра, – ответил я невольно.
Потом, опомнившись, я заговорил о Рее. Я рассказал девочке все, что было можно, о Рее, о моей чудесной встрече с ней, о моей странной любви к ней, о наших новых встречах в Медиолане, а потом – в горах, лагере мытарств, о нашей жизни вообще и, наконец, о смерти бывшей пророчицы.
– Теперь я понимаю, что любил ее! – воскликнул я. – Теперь, потому что в то время не понимал этого. Воспоминание об ней живо в моей душе, тоска по ней не оставляет меня. Вот почему я был так поражен, когда встретил тебя – ее живое подобие. Вот почему я так добивался знакомства с тобой. Понимаешь теперь, Сильвия, меня?
Неожиданно Сильвия заговорила со мной другим голосом.
– Да, я тебя понимаю, – сказала она, – я все это пережила сама. Я тоже встретила одного юношу, который также напоминал лицом того, кого я любила… Ах, как я была поражена! Мне казалось, что тот воскрес… Я добилась знакомства с этим… <Его зовут Лоллианом.> Но у него оказалось только то же лицо. Все остальное было такое иное. Но что ж лицо! Не могу же я только смотреть на него. Тот же голос, но душа другая! Ах, как это мучительно! И с тобой будет то же! Ты тоже будешь только мучиться, если будешь со мной. У меня сходно с той, с твоей Реей, только лицо, я вся другая. Ты еще не знаешь: я очень дурная. Итак, оставь меня, мы сейчас расстанемся и больше никогда не встретимся.
Не знаю почему, но именно эти слова зажгли в моей душе с новой силой все желание узнать ближе Сильвию. Мне опять показалось, что не случайно она послана мне на моем пути. Я вновь нашел в себе все силы убеждения и сразу почувствовал, что мой голос звучит сильно и убедительно. Я стал говорить, что хочу во что бы то ни стало, хочу быть с Сильвией, умолял ее не отказывать мне, клялся, что не обижу ее ничем.
Вздохнув, Сильвия сказала мне:
– Да ведь и я также просила того, другого, быть со мной, да прошу его об этом и теперь… Я знаю, что и ты должен просить об этом же меня.
Мы расстались, условившись вскоре встретиться вновь. Вечер того дня я провел в обществе Гесперии и нескольких ее друзей, среди которых был и Гликерий, причем мы обсуждали важные дела империи.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.