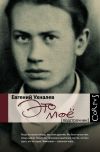Текст книги "Воспоминания"
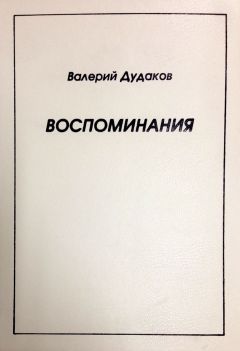
Автор книги: Валерий Дудаков
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
«Мы все учились понемногу…»
Кончилось школьное обучение, необходимо думать о будущем, выбирать, а оно не казалось простым. Ясно было одно: по совету отца и собственному волеизъявлению путь в одиннадцатилетку был мне заказан, выбор из техникумов ограничен. Три варианта, схожие, но разные, представлялись для дальнейшего обучения: Училище 1905 года, готовившее художников разного профиля со средним образованием, Театральный техникум, выпускавший декораторов, художников по костюмам, работников сцены и т. д., и Московский полиграфический имени Ивана Федорова с художественным уклоном, но готовивший кроме сугубо технических специалистов также полиграфистов и технических редакторов – первых, кто соприкасался с книжным оформлением на многих этапах выпуска полиграфической продукции. Последнее я выбрал не только из-за любви к книге как «источнику знаний» или предмету оформительского искусства. В Полиграфическом техникуме были упрощенные требования на экзамене по рисунку. Сдача остальных предметов меня не волновала: историю, литературу – и устную и письменную – я освоил в школе лучше многого. Пришлось, находясь в пионерлагере последний раз, рисовать кубы, конусы и цилиндры.
Прежде чем сдавать экзамены для поступления, моя родная тетка, выходившая меня в раннем младенчестве, взялась организовать поход на байдарках, в каждой по двое – по реке Угре. Дивные, порой совершенно безлюдные места, ужение рыбы (в тонкостях я его так и не освоил), готовка пиши на костре, купание в этой мелкой, но быстрой реке ежедневно по нескольку раз, мягкий деревенский хлебушек и парное молоко на редких стоянках, тучи комаров и просторы полей, леса с неисчислимым запахом трав, цветов, растений – вот она, Россия, не с «пятачок» Сокольнического парка. Проплывали мы и место стояния на Угре, где в 1480 году бесславно закончилось татаро-монгольское иго. Никаких исторических «отпечатков» там не осталось, быстрый поток широкой, но мелкой речки давно унес в прошлое все их следы.
В техникум я поступил в 1960 году, это было не сложно, хотя получил по недоразумению отрицательную оценку за ошибки в диктанте. Мой настойчивый отец, не веря в такой исход, заставил членов комиссии перепроверить, ошибки не мои, а уже проверявшего. Они были обнаружены, и, несмотря на недостающий проходной балл, я был зачислен – еще бы, единственный мальчик в девчачьей группе. Правда, были в ней еще двое из автономных республик, зачисленных без экзаменов «по квоте». Через полгода их все-таки отчислили за полную неуспеваемость.
Надо сказать, что наша группа была первой дневной «техредов» с уклоном в художественное редактирование. Позднее это не повторялось. Основная преподавательница, которой я буду благодарен до конца своих дней, Татьяна Валериановна Печковская, опытный худред, выпустила сотни, если не тысячи специалистов – технических редакторов. Работали они по всему Советскому Союзу, боготворили Татьяну Валериановну и переписывались с нею. Все три года обучения она как-то по-особенному относилась ко мне, прощала строптивые выходки, наставляла в ремесле, знакомила с литературой и поэзией Серебряного века. Тогда я запомнил несколько стихотворений из двухтомника «Чтец-декламатор» дореволюционного издания – Бальмонта, Минского, Полонского, Брюсова. Еще одна книга, которую она мне даже подарила, была «Выразительный человек» Волконского, бывшего недолгий срок директором Императорских театров. Так началось мое первое знакомство с блистательными постановками, пластикой балета, позднее вылившееся в увлечение С. П. Дягилевым и работой его труппы.
Печковская однажды взяла меня в поездку в Ригу, там мы остановились у бывшей ее ученицы. Завороженный, я бродил по улочкам средневековой и барочной архитектуры, пил кофе со сладостями в уютных кафе, удивлялся чистоте и порядку, вежливости жителей, которые в то время объясняли любезно, как пройти, проехать, найти. Но в целом мне все это показалось не совсем подлинным, сказочно-сочиненным и чужим, искусственным миром. И в дальнейшем, бывая в Прибалтике – жена родилась и восемь лет прожила в Таллине, – я чувствовал себя неуютно. Еще позднее, когда мне были знакомы многие страны Европы, в которых я бывал по многу раз, Прибалтика мне стала казаться и вовсе суррогатом, чем-то безнадежно провинциальным по отношению к Западу. Да простят мне жители Риги, Таллина, Вильнюса. Также меня не привлекало Закавказье, Западная Украина, в которых я бывал, но без удовольствия и позднее.
В техникуме, помимо общеобразовательных и специальных предметов, нам преподавали историю искусства. Лидия Александровна Голубева, приятельница Печковской, окончила вечернее искусствоведческое отделение МГУ уже после сорока лет. Это было третье ее высшее образование. Глуховатая, с глубоким грудным голосом, она посвящала нас в тайны античных миров, средневековых мистерий и возрожденческих новелл, воплощенных в произведения искусства. Видя мой неподдельный интерес к своему предмету, она рекомендовала пойти в Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, где к этому времени был организован Клуб юных искусствоведов. Так я нашел свою мечту, ставшую впоследствии и второй специальностью.
О КЮИ – так сокращалась аббревиатура – можно рассказывать бесконечно. Это и лекции крупнейших специалистов по истории искусства Виппера, Губера, Колпинского, Павлова. Антонова рассказывала о музеях мира, Голомшток – об искусстве Латинской Америки.
Интереснейшими оказались и поездки в пределах ставшего потом «золотым» кольца окружения Москвы. Были мы в Переславле-Залесском, Троице-Сергиевой лавре (тогда Загорск), Ростове Великом, Дмитрове. Все это, конечно, бесплатно, хорошо организовано. Наша основная руководительница Алла Сергеевна Стельмах заботилась о каждом, знала условия жизни многих, была строга в оценке наших поступков, но доброжелательна. А сколько замечательных книг по искусству советовала мне она прочесть. Тогда я и стал составлять свою библиотеку. Первым изданием в ней стал двухтомник Дидро «Салоны», выпущенный в тридцатые годы. В книжном оформлении я уже тогда что-то понимал, это ведь и стало моей первой профессией.
Когда я окончил КЮИ – это был то ли первый, то ли второй его выпуск, – стало абсолютно ясно: поступать буду в МГУ на искусствоведческое отделение. ГМИИ имени Пушкина за эти три года стал для меня родным домом, итальянский дворик – чем-то уютным, освоенным. Многие картины, особенно голландские, включая Рембрандта, работы импрессионистов и постимпрессионистов впечатались в память навсегда. Около полотен Гогена и Сезанна мог просиживать часами, пытаясь понять, что завораживало меня. Смотрители и нечастые тогда посетители замечали странного юношу, почти ежедневно бывавшего в этих залах, недавно открытых тогда для обозрения, но ранее, чем «мирискусников» в Третьяковке, не говоря об экспозиции полузапрещенного отечественного авангарда.
За годы учебы в техникуме удалось мне съездить и в Ленинград. Поездка была нелегкой, в феврале, денег было на нее в обрез. В плацкартном вагоне дуло, постельное белье взять было не на что, накрывался на ночь тяжелым демисезонным пальто, приехал утром на Московский вокзал весь в снегу. Отец обеспечил мне жизнь в общежитии какого-то ему подведомственного техникума, чай и хлеб были бесплатные, остальное как бог на душу положит. Но именно с этих пор и в Эрмитаже и в Русском музее у меня появились любимые вещи любимых авторов, всех не перечислить. Позднее я бывал в Ленинграде – Санкт-Петербурге – десятки раз с лекциями, обменами, съемкой фильмов, но тот первоначальный восторг помню как открытие неведомых земель в детских приключенческих фильмах и новостях. Пьеро делла Франческа, Симоне Мартини, оба Липпи, Тициан, Рембрандт, Пуссен, Давид, наконец, импрессионисты, Матисс и Пикассо. Было радостно и слегка грустно, как в детстве.
Наряду с КЮИ, мы с немногими приятелями из него стали ходить в кружок юных кинорежиссеров при Доме кино на Воровского (теперь Поварская улица). Всех не помню, но Слава Воронов, Виктор Горюнов, Женя Гроссман, Виталик Колганов вместе со мной пытались освоить азы кинопроизводства под руководством оператора Валеры Базылева. В основном мы смотрели отечественные или итальянские, французские и немецкие фильмы, снискавшие известность в двадцатые – тридцатые годы, менее – послевоенные, и их обсуждали. Бесконечные по этому поводу «кофейные» застолья, где мы надоедали своим безденежьем буфетчицам – едва хватало денег расплатиться за «черный кофе», – что ж говорить о бутербродах, тем более о спиртном. Вокруг крутилась «киношная» жизнь – известные актеры, режиссеры, сценаристы, многим эта, как сейчас бы сказали, «тусовка» льстила. Мне – нет. Когда нас пару раз сводили на «Мосфильм», а затем на студию Горького, меня удивила внешняя безалаберность съемочного процесса, суета, крики, бесцеремонность, обжигающие софиты, «невзаправдашность» декораций. Все, что осталось в наследии моем от этого обучения, – сценарий о человеке на заборе и его похождениях. В конце забор рушился, открывая вид на новостройку, сияло солнце и т. д. и т. п. – чушь несусветная.
Конечно, некоторые фильмы запомнились – от «Броненосца Потемкина» или работ Дзиги Вертова до лент Анджея Вайды и съемок Сергея Урусевского, от Веры Холодной до Симоны Синьоре, от Мозжухина до Даниэля Ольбрыхского, но все это не устояло перед неприязнью к суматошному и малопонятному «киношному делу». К сожалению, и наш руководитель вскоре заболел и ушел из жизни.
Вспоминая эти годы, прошедшие в КЮИ, в нашей «теплой» компании, я, в общем неизбалованный мальчик из семьи служащего, крайне жадно тянулся к тому миру, который с отрочества был мне закрыт, а вот, скажем, моему приятелю Виталику Колганову знаком – его старший брат Жора Колганов был главным художником культового для «шестидесятых» фильма «Девять дней одного года», а средний работал в Международном отделе Министерства финансов СССР.
В их семье получали журналы «Америка», «Англия», «Бильденде Кунст», «Пшеглонд артистичны», в гостях бывали Смоктуновский, Даль, Вертинская (прочих не помню). Словом, богема. Но не это меня интересовало, а репродукции в журналах, если они были посвящены искусству. Поэтому к американской выставке в Сокольниках 1959 года я был как-то подготовлен, хотя бы к ее художественной части. Став профессиональным искусствоведом, мое мнение об искусстве США я изменил, но прежний восторг я помню.
Что стало с нашей компанией «юных кинорежиссеров», я в точности не знаю.
Один Слава Воронов, получив профессиональное образование, стал работать кинооператором на телевидении и гораздо позже, во времена моей деятельности в Фонде культуры, как-то встретился со мной в выставочном зале на Старой Басманной. Он искал для съемки автора концепции выставки «Русский символизм» какого-то Рудакова и был удивлен, что им оказался я. Виталик Колганов, неутомимый сочинитель и врун, устроился на «номенклатурную» службу. Женя Гроссман эмигрировал в Израиль по линии баптизма. У него, вернее его матери, жившей на Полянке в старом «коммунальном» особняке, мы собирались на «умные беседы» и легкие выпивки. Алла Викторовна, с которой я дружил до ее смерти, была из той плеяды интеллигентов, которые долго жили в эмиграции, вернулись в СССР с хорошим образованием и знанием европейских языков до войны, не подпали под репрессии и честно служили на «третьих» ролях в советских учреждениях. Алла Викторовна в годы войны служила в армейской разведке переводчиком с немецкого языка, работала затем в АПН (Агентство печати «Новости»), знала всех и вся и имела собственное мнение по многим острым вопросам политики, экономики, культуры, при этом была не показной, а убежденной патриоткой, в отличие от ее сына-диссидента.
Мои занятия спортом и в школе – волейбол, гимнастика, баскетбол, – и в пионерлагере помогли мне еще к двенадцати годам избавиться от преследующих хронических болезней. Я просто забыл про них. Последующие регулярные занятия самбо, тогда еще не олимпийским видом спорта, которому я отдал пять лет, «выправили» меня, я стал наливаться силой, побеждать в соревнованиях. Правда, выше второго места в обществе «Буревестник» не поднялся (во втором полусреднем весе). Зато уверенности появилось хоть отбавляй и никаких сомнений в собственной силе. Как оказалось, я был одним из последних учеников изобретателя самбо Харлампиева и далеко не самым способным. Но в дальнейшей жизни это помогло мне держаться независимо и до травмы 1988 года отличаться изрядным здоровьем и физической силой.
Всевозможные тогдашние мои увлечения требовали средств. Денег стипендии – двести семьдесят шесть рублей, то есть двадцать шесть «послереформенных» 1961 года, – ну не хватало совсем. Знакомые из пионерлагеря, презиравшие наши интеллигентские замашки, но уважавшие меня за спортивную выправку и некоторую бесшабашность и рисковость, как-то предложили поехать за город, якобы к кому-то на дачу. Дача оказалась чужой, утащили они из нее все ценное, аккордеон и кассетный магнитофон в виде чемодана, который и было поручено мне отвезти с неблизкой станции в Москву. Как-то ловко обойдя милицейский развод, не попавшись в электричке, хотя и ехал без билета, я добрался до Москвы, сел в такси и за тридцать копеек довез до дома эту тяжесть. Обалдевший от моей наглости таксист, когда я с ним так «расплатился», даже не стал меня преследовать. Дома я спрятал магнитофон в раскладной диван-кровать. Мои возможные «подельники» несколько дней подстерегали меня, допрашивая лифтершу нашего дома, я скрывался. К счастью, нашел этот магнитофон под кроватью отец, зная, с кем я водился в лагере, разыскал и «затейников», заставил их признаться в содеянном, забрать магнитофон и вместе с другими нереализованными украденными вещами отвезти владельцам дачи. Чем все закончилось, я уже не знал, но это «дело» и мелкие «грешки» до него окончательно отвадили меня от посягательства на чужую собственность навсегда.
Правда, наша другая компания из того же пионерлагеря все же нечасто встречалась осенью и зимой. Были и вечера с танцами под пластинки из серии «От мелодии к мелодии» и «Вокруг света», игры в «бутылочку» и «Я садовником родился». Но были и походы в кино, на вечера в Министерство финансов с джазом, мелодиями «Серенады солнечной долины» или Цфасмана. Нечасто сиживали мы в баре гостиницы «Москва» на втором этаже или в кафе парка Горького. Деньги всегда водились у Ильи Новожилова, мы лишь добавляли свою лепту к ним.
Обычно на вопрос к Илье: «Откуда они у тебя?» – он загадочно отмалчивался. Парень был разбитной, но очень порядочный и добрый. Позднее оказалось, что он был одним из многочисленных помощников тех, кто работал на валютчика Яна Рокотова и Файбисовича, расстрелянных по настоянию Хрущева за валютные операции. Говорят, что у одного из них нашли шестьсот тысяч долларов. Смертная казнь, отмененная еще Сталиным, была применена к ним в нарушение закона задним числом. Наш Илья был просто мелким фарцовщиком (от слов «фор сейл»), спекулировавшим шмотками, жвачкой, продававшим мелочи на валюту иностранцам. Он, к счастью, не пострадал – мелкая сошка. Позднее, «командуя» коллекционерами в Советском фонде культуры, я узнал от «соклубников» об их знакомствах с некоторыми подручными Рокотова. Это были обыкновенные спекулянты, циничные и развращенные деньгами. Сам Рокотов в пример нашим «перестроечным» командирам производства и представителям финансовой олигархии не годился.
Мой же период попытки нечестно обогатиться, читая при этом «Материализм и эмпириокритицизм» Ленина и восторгаясь полотнами Гогена, Сезанна и Ван Гога, закончился в пользу последних. Кончились и поездки на Донбасс, мне это казалось уже неинтересным, материально наша семья стала более обеспеченной. Донбасс привил мне и полезные, и крайне вредные привычки. Там я помогал с девяти лет в постройке бабушкиного дома, ухаживал за огородом, капустником, бахчой наряду со всеми членами многочисленной семьи. Там собирал на терриконе остатки качественного угля, подбирал в мастерских олово, медь, выплавлял свинец, сдавал их во «Вторсырье», получая небольшие деньги на карманные расходы.
Дом достраивался дружно, более по субботам и воскресеньям, день всегда заканчивался обильным ужином со спиртным, рано ставшим для меня проблемой. Шахтеры хорошо зарабатывали, славно выпивали, приобщали к этому и подростков – не со зла, а по широте душевной. Клали на стол яблоки от высоченной яблони с мелкими плодами, распевали казачьи песни.
На втором курсе учащихся по существующему тогда правилу помощи колхозам отправили собирать картошку, кажется на неделю. Задержались мы немного дольше, дело было непривычное, нелегкое, условия жизни сносные, но не обычные – подъем в шесть утра, работа до девятнадцати с перерывом на обед, на поля доставляли на полуразбитой грузовой машине, и все по кочкам, по кочкам, подложив под голову мешок с лопатой – вроде ничего, досыпаешь. Кормили грубой, но сытной пищей, санитарные условия описывать не хочется. Но мы не унывали, среди нашей группы я был один парень, в остальных – по пять-шесть на группу. Там, на картошке, я поневоле научился более или менее сносно аккомпанировать на гитаре, подбирая на слух мелодии распространенных песен. Получалось лучше, чем в пионерлагере, да и песни были не заунывные, повеселее, то туристские, то полублатные, теперь уже и не повторю. Сдружились мы и с ревновавшей меня к гитаре Ларисой Дружининой, до того лучшей гитаристкой в техникуме.
Вообще, что касается девочек и моего к ним отношения в техникуме, то ни одна из тех, кто учился со мной в группе, мне не нравилась. Внешне не подходили, да и скучными и неинтересными казались, говорить было не о чем, так мне казалось, завышенная оценка себя проявила уже с отрочества. В дальнейшем это сослужило мне недобрую службу, трудно я сходился с противоположным полом.
Лариса Дружинина выделялась бойкостью характера, любопытством ко многому малоизвестному, порой интимному, и фразеологией с употреблением исковерканных английских слов, что считалось шиком в нашей в общем косной техникумской среде: «абкос» (видимо, оф коурс), «нафиг» (видимо, нафинг). Дружила она с парнем старше нее, художником, бывала и в художнических компаниях с их сленгом «чувиха», «бабки», «старик» и т. д. Позднее гораздо оказалось, что человек она была так себе, многое в жизни ее шло кувырком, не приносило радости ни ей, ни ближним. А пока она познакомила меня со своим другом, будущим мужем, Юрой Трусевичем, художником-живописцем. И вот уже с начала шестидесятых годов мы с ним поддерживали нечастые, но постоянные дружеские отношения.
Юра познакомил меня с теперь уже знаменитыми, а тогда юнцами Валерой Смирновым, рано покончившим с собой, может быть, одним из первых сюрреалистов в Москве, Казариным, другом и «подельщиком» Толечки Зверева, и Виталием Комаром, родоначальником соцарта (вместе с Меламидом). Мне было пятнадцать, Комару (Гельману) – семнадцать лет. Так я незаметно стал приобщаться к художественной среде.
Еще в пионерлагере «Елочки» к нам в старшие отряды – а отдыхал я там почти каждое лето до пятнадцати с половиной лет – приехали пожить учащиеся балетной студии Большого театра, балерины и «балеруны». Их распределили в разные отряды – кого в первый, кого во второй, но были они на особом положении. Вели они себя заносчиво, привезли и свои порядки – свободу слововы-ражения, танцы «буги-вуги», а затем и рок-н-ролл, музыку на «сорокапятках».
Дочь одного из членов ЦК компартии Франции – не помню фамилии, но звали ее Сильвия – усилила «иностранный акцент» нашего бытия. Деви ца была крупная, разбитная.
Вслед за ней по странному совпадению в старшие отряды и вожатыми поступили и художники из МСХШ – Московской средней художественной школы имени Сурикова, – будущие «кинетисты» группы «Движение»: Франциско Инфанте, Виктор Степанов, Владимир Галкин, а с ним его сестра Натали, впоследствии жена Евгения Вахтангова (внука режиссера). Двое первых стали вожатыми. Я, как «кадровый» опытный пионер, был назначен помощником при Инфанте. С тех пор и началось наше знакомство, то переходящее в дружбу, то в нечастые деловые отношения, но скорее компанейские. Позднее к ним присоединились Слава Колейчук, Воло Акулинин, Михаил Дорохов. Когда Галкин выхлопотал в своем же доме на Большой Коммунистической (теперь Солженицына) полуподвал под мастерскую, мы стали собираться там чаще.
Одна из балерин, Лена Матвеева, по не ясным мне и сейчас причинам приглянулась, хотя была полноватая для роли примы, с неправильными, но привлекательными чертами лица, заносчивая и своенравная. Как оказалось, на спор с «балерунами» решила меня обаять. Тогда я был «старожилом», спортсменом-самбистом, лучшим игроком в настольный теннис (обеими руками одинаково), да еще и гитаристом и т. д. и т. п. Два года длились наши ухаживания друг за другом, ссоры, сближения, безо всякого интима, такая чувственная дружба. Видимо, ей было лестно мое внимание, мне – ее среда, ужимки. Не больше.
Более прозаично сложились у меня отношения со второй пассией, Танечкой Ведерниковой. Ее мать работала в Министерстве финансов, где и мой отец, потому она оказалась в пионерлагере «Елочки». Когда я ухаживал за Матвеевой, Таня как бы ревновала, что и не скрывала в беседах. Позднее мы встретились в парке Горького, была ранняя весна, зябко и сыро, горланили вороны, в лужах отражалось посиневшее холодное мартовское небо. Растаял и я, и хотя особой близости и не хотелось, мы встречались вплоть до моего поступления в МГУ, даже чуть позже. Таня многое мне позволяла, была упряма, «созрела», видимо, раньше меня, и прагматизм ее ожиданий я не оправдывал. Расстались мы нелегко, но без особых переживаний. Позднее я увидел ее, она просила в чем-то помочь и очень гордилась, что рано стала бабушкой. Словом, в юности с девицами мне не везло.
Все более увлекаясь предстоящей оформительской работой, новыми открытиями для себя в искусстве благодаря КЮИ, с новыми знакомым – художниками, я незаметно преодолевал отрочество с его неуверенностью и инфантильностью. Наступала юность, взросление, а с ним и желание отстоять свои права на ту жизнь, которая представлялась единственно стоящей. Я все более был убежден, что стану незаурядным художником-оформителем и знатоком искусства, выделяясь и из этой среды. Довольно приблизительный опыт моего рисования в техникуме, живописи акварелью, специальность техреда, а не художника меня не смущали. Хотелось добиться большего, и я стал посещать не только музеи, но и периодические выставки на Кузнецком Мосту, в Горкоме графиков, Союзе художников на Ермолаевском и Беговой. Особые воспоминания у меня остались от выставки тридцатилетия МОСХа в декабре 1962 года. Она неоднократно описана и оценена и художественной критикой, и официальным искусствознанием того все-таки бурлящего времени.
Ругань и угрозы Хрущева, его конфузы с «голой Валькой» («Обнаженной» Р Фалька), правом судить обо всем верно как «первого коммуниста», «пидарасами», запугиванием, наездами на Неизвестного, Жутовского, Вознесенского растиражированы с юмором и без.
Мои личные впечатления были восторженными, открытие являло себя за открытием. До сих пор в глазах «Аниська», «Обнаженная», «Плотогоны», «Геологи», «Апельсины на черном столе», скульптуры Неизвестного и Сары Лебедевой, да и «Письмо с фронта» Лактионова. Картины известных и полузабытых мастеров. Старых и молодых. Сгинувших и вознесенных волей случая. Именно там, на выставке, началось мое и не только приобщение к отечественному искусству, драмам и трагедиям его прошлого и настоящего, фальши и искренности. В Манеже среди спорящих и догматиков, прозорливых юродивых и закоренелых слепцов, профессионалов и жалких крикливых дилетантов начались мои первые самоуверенные публичные выступления. Обстановка залов к этому располагала, а желание высказаться было нестерпимым.
Еще одним увлечением, о котором вскользь было упомянуто, была игра на гитаре. Слух у меня был отменный, но прилежания к инструменту не было. «Самоучитель игры на гитаре» мало чем помогал. В техникуме был организован самодеятельный ансамбль (типа будущих ВИА), где я подвизался игрой на гитаре. Репетиции были нерегулярные в физкультурно-актовом зале техникума. Само помещение его на Малой Дмитровке было когда-то приспособлено под сдачу «нумеров», то есть практически для борделя. Что там было в «актовом» – не представляю, но иногда мы пробовали выступать на музыкальных вечерах – в других училищах. От всего этого остался неприятный на всю жизнь осадок чего-то безобразно-волнующего, «полуподдатого» и суетного. С тех пор «посиделки» в компании богемно-пьяных художников, «сейшены» с музыкантами ничего кроме неприязни у меня не вызывали, да и играл я хуже посредственного. Работа в «Мелодии» это не изменила.
Окончание техникума всегда сопровождалось практикой – сначала типографской, ее я провел в одной из московских типографий, кажется, «Молодая гвардия», пройдя вскользь многие процессы полиграфии от набора (ручного, не линотипного) до брошюровки и переплетных работ. В типографии не хватало рабочих рук для выполнения непрофильных, уже тогда «левых» заказов. Меня уговорили, хотя это грозило незачетом, поработать в цеху по изготовлению трафаретных пластин для станков. Работа была ручная с кислотой и острыми металлическими пластинами, выдержал я десять дней, кожа на пальцах разъедалась до глубоких ран, но, даже обманув меня и вдвое занизив расценки, мне выдали шестьдесят рублей на руки, правда, с «трояком» за общее прохождение практики, что лишило меня «красного диплома. Плевать, подумал я, сжимая на эти деньги купленные итальянские ботинки – первую дорогую вещь в моем гардеробе.
Вторая производственная практика проходила уже по специальности после выбора темы диплома. Я остановился на оформлении журнала «Цветоводство». Практика проходила в помещении, где он издавался, в «Сельхозгизе», находившемся в здании Министерства сельского хозяйства на Садовой, бывшего Наркомзема, построенного в стиле конструктивизма по проекту А. Щусева. Не «мельниковский» шедевр, но пропорциональное, с динамичным ритмом архитектурных объемов и удобной простотой функциональности, оно еще и удивляло лифтом, ходившим без остановки с этажа на этаж. На него надо было впрыгивать, но и не особенно торопясь.
В здании была своя пекарня с чудесными булочками в пудре за десять копеек и бесплатной газировкой. Ко мне приставили опытного наставника – техреда, она обучала тонкостям ремесла «без фанатизма». Мое «цветоводство» резко отличалось от прообраза, издаваемого тиражно, и даже название – а нам позволялось выклеивать его из любой понравившейся гарнитуры, а не писать вручную – звучало как «Кородоасмого» – по числу букв в надписи журнала.
Перед защитами дипломов мы собирались у Татьяны Валериановны, бывали ежевечерне, засиживались за полночь, она никому в помощи не отказывала, хотя у многих консультанты были свои, за что и получали соответствующее вознаграждение за каждого дипломника. Со мной моя «подлинная учительница» делилась личными тайнами, не обращая внимания на разницу возраста и пола, это всегда было тактично, доверительно, без малейшей скабрезности, которую любят обыгрывать в фильмах об отношениях учителя – ученика. Я постепенно стал понимать психологию старших, их тревоги, слышать их ушами и видеть их глазами. Позже это мне очень пригодилось в общении со старшими коллегами-коллекционерами, наследниками художников, учителями-искусствоведами. Диплом я защитил блестяще. Праздновали у Татьяны Валериановны.