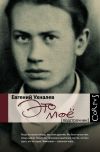Текст книги "Воспоминания"
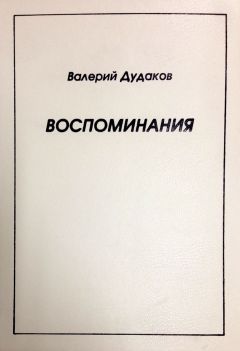
Автор книги: Валерий Дудаков
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
«В борьбе обретешь ты право свое»
Этот лозунг эсеров я узнал из брошюры «Памяти Каляева», который взорвал московского градоначальника великого князя Сергея Александровича, чья жена Елизавета Федоровна погибла смертью мученицы от рук большевиков. Каляева она простила. Собственно, интерес к русской истории у меня был с детства, и одной из любимых книг, после того как научился читать (мама говорила, с четырех лет), – наряду со сказками Андерсена и стихами Маршака с иллюстрациями Владимира Лебедева – была книга Натальи Кончаловской «Наша древняя столица» в оформлении Фаворского.
Но кроме дальнейшей учебы (с ней было все ясно – исторический факультет МГУ, искусствоведческое отделение) надо было думать о работе, тем более что в эти годы окончивших наш техникум распределяли по всей стране – от Таллина до Чукотки. Грозило это и мне. И опять отец проявил тут настойчивость и помог избежать «высылки». Он уже занимал солидный пост в Минфине, был автором многих статей о системе обучения и воспитания кадров финансистов. Пристроил он меня именно в «Сельхозгиз», переименованный при мне в издательство «Колос». Там я и начал трудовую деятельность в должности технического редактора.
Подавляющее большинство в огромной редакции издательства – а это был один из издательских «монстров» в стране, усиленно поднимавшей после полуголодного времени сельское хозяйство, – были не техреды, а «тех-редьки», женский состав. Зарплата обычная, сносная, 100120 рублей, можно было и подрабатывать на дому разметкой рукописей для набора, обработкой гранок, версткой, сверкой, подписанием в печать, работой со шрифтами титулов и заголовков, размещением иллюстраций – все это было делом кропотливым, требующим женской усидчивости и терпения.
Меня определили к «наставнице» – пожилой сухопарой, въедливой, но доброй даме немолодого возраста. Я ее сначала побаивался, а зря. Оказалась она не только опытнейшим техредом, но и добрым человеком, ни разу не подставившим меня под удар начальства, хотя поначалу я совершал ошибки во множестве. Некоторые из них были пустяковые – но и за это на тогдашней службе в издательстве «продирали», ведь только миновала пора, когда из-за опечаток, ошибок в корректуре или, не дай бог, перевернутой в гранке иллюстрации с членом Политбюро ЦК можно было не только вылететь с работы или из партии, но и получить срок.
Однажды я, еще не зная тонкостей различий между ориентировочным и окончательным тиражом, подписал в печать брошюру, крайне актуальную для сельскохозяйственной политики нашего руководства, под названием «Одна свинья на каждый гектар пашни», но поставил вместо окончательного тиража в 5 тысяч экземпляров – предварительный, 50 тысяч. То-то было шуму, но все это взяла на себя моя наставница, мол, недоглядела, не проверила. За выслугу лет ей это простили, но лишили квартальной премии. На мои извинения она отреагировала просто: «Когда подписываешь в печать, разуй глаза» – и все, никаких упреков.
Зато они мне постоянно адресовались заведующей редакцией Федотовой. Таких, как она, называли «из бывших». Не знаю, дворяне ли ее предки, но была она высокомерна, слова цедила сквозь зубы, злобно, на всех шикала и ничего не спускала. Невзлюбила она меня не только за неопытность, поступление на работу якобы по блату, но и за излишнюю самостоятельность. Насмотревшись послереволюционных изданий – а их в библиотеках и в книжных еще хватало, – я стал применять для заголовков и наборных титулов крупные кегли гротескных гарнитур: рубленой, дубовой, журнально-рубленой во всяческих жирных и полужирных начертаниях. Получалось броско и глазасто. В этом меня поощрял и главный художник «Колоса» Елизаветский, сам хороший оформитель, шрифтовик, друживший с тогдашними знаменитостями оформления Збарским, Боярским, Красным, Дормидонтовым. Приглашал он к работе и «младших конструктивистов»: Телингатера, Сидельникова. Словом, моя «самодеятельность» ему подходила. Позднее он и старший худред Томилин стали подталкивать меня к оформительской, а не техредовской только деятельности.
Первую книгу, которую я оформил в «Колосе», – «Повышение посевных качеств семян» – я храню до сих пор, оформление ее вызывающе неумелое (похоже на плохой вариант композиции Мондриана), но как-то мне ее зачли в «актив». Далее со скрипом, но поехало, и я стал получать крайне редко, но постоянно заказы на оформление обложек и титулов книг. Наставал бум книгоиздания. Дело это становилось хлебным, обложка «стоила» от 45 до 60 рублей плюс титул. Поначалу мне помогала Печковская. В это время еще сохранялась традиция конца двадцатых – начала тридцатых годов использования аппликации ярких цветов, монтажей с фотографиями, но шрифт непременно писался от руки. Большинство книг отличались его художественной культурой, орнаментикой композиции, но отдавали невыразимой скукой. Речь, конечно, идет не о «штучных», входивших как образцы в выпуски «Искусство книги». Мое полиграфическое образование продолжалось и по ним.
Оформление книги переживало обновление приемов, отчасти возврат к броскости двадцатых годов, плакатному лаконизму, отчасти заимствованию рекламных ходов западной продукции, благодаря Елизаветскому и работе в «Колосе» художников нового поколения, не только одаренных, знающих приемы оформления зарубежных изданий, но и пробивных, ценящих свое творчество. Они начали зарабатывать вовсе не те деньги, которыми довольствовались «старички». Так называемый 314-й приказ расценок позволял далеко раздвинуть границы оплаты. Разные альманахи, календари, сборники типа «Земля и люди» позволяли включать в оформление множество элементов: титулов, шмуцтитулов, иллюстраций, заставок; отдельно оплачивался макет, а каждая нарисованная (а потом и выклейная – разницы не было) буква стоила тридцать копеек. Вот где можно было разгуляться. Я вспоминаю папу, который за проверку контрольной по химии – было в его практике и такое – получал двадцать семь копеек (не менее получаса).
Это были уже не серые «трудяги», а плейбои по теперешнему представлению. Завтракали в «Национале», обедали в «Метрополе» или «Славянском базаре», ужинали в «Арагви» или Домжуре, Доме кино, ЦДРИ. В общем, на «широкую ногу». Селились в наследственных «сталинских» или кооперативных квартирах, ездили на импортных редких машинах. Кто-то пустил слух, что, мол, единственная первая была у Высоцкого. Видно, не жил свидетель в это время.
В «Колосе» помню и участие в первых «капустниках» – бойких, веселых, слегка хулиганских. Там как-то и пригодился мой робкий опыт сочинительства, и хотя по характеру я не был балагуром, но любил ввернуть «лыко в строку».
Незадолго до того как я ушел из издательства – звали учиться на дневное отделение в МГУ, недаром рекомендовали на приемных экзаменах, – пришлось одну смену летом поработать в пионерском лагере вожатым. В моем отряде, кажется, девятом (всего было 14), находились ребята восьми-десяти лет, лагерь был где-то в Щербинке от Министерства сельского хозяйства. Не очень заорганизованный. Первую ночь пришлось спать на матрасах, кровати не завезли. Много было бестолковщины и позднее – не то что в «Елочках» Минфина, стычек вожатых с местной шпаной, краж. Но мы с мальчишками сдружились. Особенно я им понравился тем, что играл на гитаре полублатные песни, без словесных излишеств, но лихие. Было это в лето 1964 года.
А теперь о моем поступлении в МГУ в 1963 году. Было оно несколько парадоксальным. Увлеченный развивающимся романом с Таней Ведерниковой, я проболтался лето, не готовясь к экзаменам, тем более что уже служил в «Колосе», получал зарплату и мог иногда сводить свою пассию в коктейль-холл в гостинице «Москва» (самый дорогой коктейль менее двух рублей) или в кафе-мороженое на улице Горького, не говоря о кино и выставках.
Диктант я написал неплохо, устная литература была мой конек, а историю за меня взялся сдавать тогдашний мой друг Юра Полетаев, во времена перестройки руководитель одного из важнейших банков, отец теперешнего комментатора НТВ. Этот фокус в то время проходил не у меня одного, известны сотни случаев «подмены». Была получена четверка, но далее надо было сдавать специальность, которой нигде не учили. Получив освобождение на две недели по причине «тяжелой головной травмы или аборта» (спасибо Дружининой), я пытался за это время наверстать упущенное.
Экзамен по истории искусства я сдавал, когда занятия давно уже начались, отдельно от всех. К моей радости, вопросы достались следующие: 1) соборы Московского Кремля – это мы проходили в КЮИ; 2) Давид и его ученики – в последние два года перед поступлением читал четырехтомник Лависса и Рамбо (им награждали школьников на олимпиадах), где излагалась вся история Франции XVIII–XIX веков, в том числе и история искусства; 3) современная советская графика – тут я был почти профессионал. Приняли меня на ура, тут же В. В. Кириллов и О. С. Евангулова, два ведущих преподавателя кафедры, написали вместе с Р С. Кауфманом, историком советского искусства, мне рекомендацию на дневное отделение за «выдающиеся способности». Я был смущен, но горд – вероятно, некоторую роль сыграли характеристика из издательства, где я числился художником-оформителем, и тот факт, что я занимался в КЮИ.
Придя через два дня, на кафедре теории и истории искусства МГУ я обнаружил, что не принят и на вечернее. Чья это была «инициатива», не знаю. Старший лаборант кафедры, ее «техническая хозяйка» Юлия Константиновна Рожинская, присутствовавшая на моем экзамене, взялась это выяснить. В результате на вечернее отделение меня зачислили с возможностью через полгода перейти на дневное. Так я потом и сделал.
А пока я учился на курсе вечернем, из студентов его помню подающего большие надежды Бермана и Марину Бессонову, с которой нашлись общие интересы и отдаленные общие знакомые. Я стал довольно нередко бывать дома и у Иры Романовой, читать книги из ее библиотеки – это были и поэзия Серебряного века, и беллетристика отечественная – Аксенов, Битов, Ерофеев, – и западная.
Новый 1964-й год, мой любимый праздник, как и большинства «советского народа», я встречал у моей соученицы по университету Иры Романовой на Дорогомиловке. Кто мог знать, что через тринадцать лет я поселюсь уже с семьей в пятистах метрах от нее на Кутузовском проспекте и эти места надолго станут если не родными, то близкими. Вспоминая новогодний праздник, все мы ему удивляемся каждый раз заново. Удивляюсь и я. Где я его только не встречал – от детских елок в младенчестве, пионерлагеря, унылых посиделок со взрослыми и на 5-м Лучевом, и на проспекте Мира, в компаниях с товарищами по техникуму, в вытрезвителе, в сумасшедшем доме Кащенко, в неврологических лечебницах и наркологическом диспансере, Консерватории, Большом театре, Кремлевском дворце съездов, в малых городах России и за границей.
Новый год у Романовой был как бы уже «взрослым». Сама она, несомненно, человек незаурядный, рано созревший, была избранницей Михаила Анчарова, одного из перестроечных властителей умов, писателя. Дом был родительский, но заполненный веселящейся молодежью из родственников и знакомых. Девушки – искусствоведки, журналисты АПН, просто «интересные» люди – пестро и весело. Благочинность удавалось соблюдать благодаря присутствию родителей. Ира, вероятно, решила меня взять под опеку, вывести в свет, а заодно и приручить. Отношения складывались чисто дружеские, но не без намеков. Поскольку внешне она мне не нравилась, да и характера я был строптивого, общение наше оборвалось довольно скоро, но некое представление о «московской артистически-журналистской фронде», по-особому живущей, мыслящей, осуждающей, у меня тогда впервые создалось. Это была другая, «несоветская» сторона жизни, еще не диссидентство, но уже оппозиция. Тогда-то я и услышал о Лианозовской группе, Сапгире, Холине, Некрасове, Айги, да и Тарковском-старшем, Аркадии Штейнберге, отце Эдика, и Евгении Кропивницком. Так вскользь познакомился я со многими к концу шестидесятых.
Уволившись из «Колоса», не оставляя внештатной работы в издательствах как оформитель, я целиком был сосредоточен на учебе в МГУ и забросил спорт, где высшим моим достижением в самбо стало призовое место в обществе «Буревестник». Свернулись и амурные приключения. Зато мой приятель Галкин, познакомив с идеологом и руководителем «кинетистов» Львом Нусбергом, предложил участвовать в их выставке в Марьиной Роще. Не состоялось.
В октябре 1964 года, несмотря на то что я учился на дневном отделении, меня неожиданно для всех забрали в армию. Служить в войсках ПВО я должен был в Голицыно три года, как все. Через месяц после этого вышло постановление, что с дневных факультетов в армию по призыву не берут, даже если в институте нет военной кафедры, дают отсрочку. Такую несправедливость я перенести не желал, начал «сачковать», воспользовавшись сюжетом из рассказа Марка Твена и добавив собственные фокусы, попал в психиатрическую больницу, где подобных мне «сачков» была половина, но где и насмотрелся ужасов с применением подавляющего волю аминазина, инсулина, обессахаривавшего организм, где бродили стаи наркоманов, пожиравших по 40–50 таблеток транквилизаторов (брали у «сачков»), а подлинные умалишенные были редкостью, хотя на экспертизе находились и уголовники, и даже убийцы.
Время в Кащенко проходило незаметно, иногда весело, с выпивками, сердечными беседами. Там я довольно бойко учился играть на гитаре, предпринял попытку получить энциклопедическое образование – читал литературу по философии, физике, математике, астрономии. Вскоре это выветрилось.
Через три месяца «пребывания в армии» меня комиссовали с формулировкой «годен к нестроевой службе», но выдав военный билет со штампом, перекрывающим многие виды деятельности. Мешал он мне долгие годы, пока в 1987 году я не был переаттестован по другой статье, не ущемляющей мои права.
Говорю об этом так подробно потому, что в эти годы уход в «шизу» был не только способом избегать военной службы или наказания – так поступало еще поколение Вейсберга-Ситникова, но и индульгенцией от обвинения в тунеядстве и диссидентстве. Ни к тем, ни к другим я не относился. Появившиеся в войну или сразу после, мы были поколением неврастеников. «Караул» нам был ближе, чем «ура» – это постарались наши отцы. Многие из нас, увертываясь от советской идеологии, принимая ее как «невзаправдашность», нелепую игру, в которую нас втянули без нашего согласия, но ознакомив с правилами, хотели изменить мир. Но бойцы за его обновление получались нестойкие.
Занявшись после армии самообразованием – надо было ждать осени, чтобы на курс младше продолжить обучение в МГУ, – я долго не выдержал. Родители не смогли понять моего поступка. Отказались содержать за их счет. Иногда, возвращаясь поздно из библиотеки МГУ, я хотел разбить витрину магазина «Хлеб» и набрать про запас булок «городских» по семь копеек штука. Жил я тогда на тридцать пять копеек в день, транспортом пользовался как «безбилетник», часто попадал в истории из-за этого. Отчаявшись, я устроился художником-мультипликатором, на самую рутинную работу фазовщика в студию «Школ-фильм», где положили зарплату в сто двадцать рублей. Опекала меня бывшая жена художника и сценариста Сутеева, чьи детские мультфильмы любила вся малышня страны – вспомним хотя бы «Кто сказал “мяу”?».
В «Школфильме» работали еще те, кто когда-то был в «Межрабпомфильме» – детище двадцатых годов. Один из старожилов помнил по молодости Маяковского, Родченко, рассказывал о них нелицеприятные байки, в которые можно было поверить.
Уволившись из «Школфильма» – работа оказалась нудная, нетворческая, кино я вообще не любил за безалаберность съемок, – я впервые поехал на море в Севастополь. Не знаю, чем меня привлек этот город, в то время еще «режимный». Так что пребывал я в нем полулегально. Там я быстро познакомился со шрифтовиком, обновлявшим надпись на лавке «Мороженое». Разговорились, выпили-закусили, и вот на два дня я поселился в хибарке у него. Пьянство его быстро надоело, и я был рад, когда на пляже встретил девушку Ларису. С ней мы уехали в Гурзуф, несмотря на протесты ее папы, футбольного тренера местной команды. Этот роман был уже «взрослый», со всеми вытекающими последствиями, длился более года и в Москве, и в Ленинграде, где она училась на факультете журналистики в ЛГУ. Закончился он по вмешательству родителей с обеих сторон, быстро и без последствий. Я был уже женат, когда встретил Ларису через пять-семь лет в Центральном доме литераторов, она стала спутницей художника Боруха – брата Эдика Штейнберга, тоже художника, и успела побывать в Латинской Америке. Более мы не виделись.
С сентября я уже учился в другой группе. Там были и те, кто на долгие годы стал моими товарищами, коллегами. Во-первых, Юра Лоев, Марк Янкелевич, его будущая жена Наталья (впоследствии Алимова), Таня Толстая, Ася Богемская, Кирилл Разлогов. Во-вторых, поэты-«смогисты». Было такое в шестидесятые годы «Самое молодое общество гениев» – СМОГ (потом, правда, они расшифровывали и по-другому эту аббревиатуру, но лукавили). В нем водились и психопаты-кликуши, Батшев, к примеру, или девицы, в стихах которых мат-перемат стоял, как у матерых уголовников в застолье, хотя вряд ли девушки знали, что означают употребляемые ими существительные, глаголы и наречия. Были и те, кто стал профессиональными литераторами: Юра Кублановский, Володя Алейников, Аркадий Пахомов и почему-то выдвинутый в «гении» в XXI веке Леня Губанов. Теперь, издав сорок поэтических книг и написав около трех тысяч стихотворений, я так и не смог обнаружить его гениальности. Истерика, юродство, невразумительность ассоциаций – это ведь не синонимы ее.
Вернусь к искусствознанию. Я еще застал лекции одного из самых тонких и могучих историков отечественного искусства Алексея Александровича Федорова-Давыдова. Его обвиняли в вульгарной социологии – как человек своего времени, он без этого в искусствознании бы не выжил. Но он был автором полных и блестящих монографий о многих корифеях русского искусства, он же и написал уникальную книгу об искусстве конца XIX – начала XX века «Русское искусство промышленного капитализма». Вынужденный осуждать формализм, он побудил Малевича в 1929 году повторить к выставке «черный квадрат».
Если я начну перечислять всех, кто нам преподавал в старом здании МГУ на Моховой, листов не хватит. Лазарев, Гращенков, Ильин, Колпинский, Василенко, Некрасова, Маца, Кауфман, Кириллов, Евангулова, Прокофьев, Яблонская, Сарабьянов, Комеч, Голомшток – плеяда блистательных искусствоведов. На смену им пришли не менее яркие, но для меня спорные фигуры. Не буду их задевать или оскорблять их память.
Вспоминаю студенческую поезду в Вологду в зиму 1965 года. Холод был за 35 градусов, и это днем. Автобус наш промерзал «до дрожи», впрочем, мы этого и не замечали – сами дрожали. Ночевки были обычно по дороге в «домах колхозника». Удобства? Да бог с ними, главное – тепло и пятьдесят граммов спирта с утра, благо бутылка его стоила менее пяти рублей – чистый ректификат. Прибыв в Ферапонтов монастырь – один из лучших, полностью сохраненных комплексов России, с фресками работы Дионисия и его сыновей, – мы были поражены не только дивной красотой росписей (все-таки место Дионисия в «первой тройке» древнерусских живописцев – Феофан Грек, Андрей Рублей, Дионисий – неоспоримо), но и сказочным сиянием образов и сцен, ибо все они были покрыты кристаллами льда, собор не отапливался. Вредоносно ли это – наверняка, но сияние фресок сквозь хрустальные кристаллы усиливало не только силу цвета, но и превращало все пространство, живописную его поверхность в мистическое иррациональное действо. В таком мире можно было заблудиться, замечтаться наяву. Более я никогда в жизни такого не видел.
Попутно вспомню посещение того же места уже в семидесятые годы: в противоположность, стояла жесточайшая жара, в Вологде местные бабы, задрав подолы и прижав к себе ребятишек, цепочкой стояли в русле полувысохшей реки, и эта «связка» растянулась метров на двести. В Ферапонтовом озере, камешки которого терлись мастерами для красок со «времен оных», скопилось немыслимое количество раков. Мы с Мариной, забравшись на маленький прибрежный островок, «шугали» их вилкой с прикрепленной длинной деревянной палкой, накалывали и бросали в кипящее на костре ведро. Весь островок был завален панцирями мучеников обжорства.
Ярким впечатлением были и наши поездки по спецкурсу «Садово-парковая архитектура», который вела Евангулова, и выезды на практику с Сарабьяновым (старшим), Прокофьевым, Золотовым, Комечем. Никто, как Алексей Комеч, немногим старше нас, но человек другого, предвоенного, поколения, не рассказывал так блистательно о древнерусской архитектуре, никто не мог так тонко и драматично объяснить нам суть церковных построек Новгорода и Пскова, Нередицы и Спаса на Ильине, Покрова на Нерли и Дмитровского собора, Уборов и Дубровицы.
Лето 1965 года я провел в стройотряде истфака МГУ. Легенды об энтузиазме и бескорыстии строителей-студентов, объединенных патриотическим порывом, и ранее мне казались выдумкой, там я в этом убедился воочию. Командир отряда был вор с уголовными наклонностями «пахана», терминологией он пользовался соответственной, прибегал к рукоприкладству. Комиссар – мелкий воришка и прелюбодей, деньги уходили на пьянку из «общего котла» – кредит в местном продмаге был обеспечен. В результате сорока дней этого «энтузиазма» коровники были не достроены, каждый получил по сорок рублей (рубль в день) – все, кроме нас троих. Еще через три дня по приезде я понял расстановку сил и организовал бригаду из трех человек для оформления совхоза – въезда, стендов, наглядной агитации. Мы были свободны от общих работ, заработали по 140 рублей (вдвое меньше положенного, но как без «отступного»), притом один вечер выпивалась четвертинка, другой – поллитровка, и при «своих» харчах, за которые мы же платили. Попытка с нами разобраться со стороны студенческого начальства не удалась, совхозу требовалась «наглядная агитация», деньги на нее были отпущены, не грех и прикарманить их часть начальству совхоза.
Проучившись еще год на дневном, летом 1966 года от Печковской я услышал предложение штатной работы в «Стройиздате», да еще кем – главным художником по журналам. К этому времени у меня не было ни художественного, ни высшего образования и не исполнилось и двадцати одного года. Время оттепели хотя и закончилось, но начиналось раннебрежневское, с его негласным девизом «обогащайтесь, не нарушая закона» и обновлением кадров. Некоторые должности заполняли молодые и инициативные люди, без прежних комплексов «острастки». Обновление приходило и в организационную и хозяйственную деятельность и при сохранении нерушимости идеологии заползало в сферы массовой культуры и элитарного искусства. Подобное положение, но по другим причинам и канонам складывалось и в начале перестройки.
Отметив мое возвращение из «стройотрядной ссылки» и возможное назначение в «Стройиздат», мы с другом Галкиным проследовали не в пивбар, а на выставку на Кузнецком Мосту, в доме 11. Тем более рядом был дом 9 со «Стройиздатом». Скульптура и живопись на этой выставке не запомнились, а вот камерные статуэтки из гипса, металла и цветной керамики приглянулись. Тут что-то взыграло в нас – решили похулиганить, да как. Пока Галкин заговаривал редких смотрительниц, я открутил от тумб две скульптуры – одну Сотникова, другого автора не помню. Фигурка из крашеного гипса и лев в зеленой керамике оказались в моих карманах «стройотрядовских» брюк, с тем и удалились. Кроме хулиганства, цель ничего не преследовала, никакой коммерции и быть не могло. Так бы и завалялись эти фигурки, если бы через какое-то время Галкин не попросил меня их найти – дело в том, что досталось за их пропажу смотрительницам гораздо позже, да и дело копеечное. Бабушек было жалко и администратору выставки, по рассказам она распознала одного из похитителей – не меня, Галкина, – и попросила его вернуть стащенное. С тем он ко мне и приехал, оставив наблюдательную девицу-администратора в машине у моего подъезда. Фигурки, о которых я и забыл, были возвращены, но у одной пропала гипсовая голова. В таком виде они и были возвращены ожидающей в машине администраторше. Впоследствии она стала моей женой, о чем не раз горько сожалела – сначала надо было думать. Живем мы уже более пятидесяти двух лет вместе.
«Стройиздат» оказался тем трамплином, который забросил меня в тесный круг московских оформителей. Работа в журнальной редакции длилась недолго, чуть более трех месяцев, в подчинении у меня находился чисто женский штат возрастов от двадцати пяти до шестидесяти лет. Журналов было множество – от «Архитектура СССР» и «Строитель», многомиллионных тиражей, до «Бетон и железобетон» или «Металлоконструкции». Пришлось для начала отрастить бороду – с тех пор и ношу. Это не спасло, и хотя за время «командования» здесь я набрался опыта даже в расценке ретуши, шрифтовых вставок и чертежей, фото и цветных слайдов, все же с удовлетворением перешел в книжную редакцию на Кузнецкий Мост старшим художественным редактором и тут-то почувствовал себя «на месте».
Главным художником издательства был Виталий Прохоров – разбитной, все умевший и всех знавший в своей области выпускник Полиграфического института с богатой практикой. Среди его знакомых были все «нужные» люди из созданного для управления полиграфией и книгоиздательством Комитета по печати – все были прикормлены выгодными заказами вплоть до главного художника комитета. Виталий и себя не обижал, и нам давал заработать, при этом не опуская планки. Там я впервые не только освоил за год тонкости профессии – вот что значат хорошие учителя, но и сделал, то есть оформил, ряд интересных книг: серию «Мастера современной архитектуры», книгу о керамике в духе журнала «Знание – сила» (с Владиком Головиным совместно), фотоальбомы по архитектуре России.
Расценивали мы работы, в том числе и свои, коллегиально, но щедро, иногда в немалые суммы, которые от греха подальше оформляли на внештатников. За это они получали более выгодные заказы. Месячные заработки составляли пятьсот-шестьсот рублей. Обедали в «Славянском базаре», часто с коньяком. Без спиртного не обходились и вечерние посиделки на работе.
В этом же году я стал членом Горкома графиков – профсоюзной организации, аналогичной МОСХу, позднее познакомился с председателем Горкома Курочкиным, ветераном войны, но подстроившимся под новые брежневские веяния и умеющим эксплуатировать свою должность. Так началось и постоянное почти двадцатилетнее участие в выставках Горкома в ЦДРИ, на Кузнецком, в других выставочных залах. Денег был избыток, выпивки учащались, пополнялась домашняя библиотека редкими изданиями. Я и не мог предположить, что скоро они возвратятся в букинистические магазины.
Учеба тем не менее продолжалась. Ребят на вечернем курсе было немного, почти все старше меня, девчонки работали кто в МОСХе, кто в Академии художеств, музеях, выставочных залах, редакциях. Все друг о друге многое знали, подтрунивали, поддерживали, бывали вместе на вылазках к памятникам Подмосковья, разделяли или нет привязанности к тому или иному педагогу. Любимцами нашими были Яблонская, Сарабьянов (старший), чуть позднее Василенко, «лагерник», поэт, мечтатель, Голомшток – друг Синявского и Даниэля, Прокофьев – блестящий знаток искусства XIX века.
Новый 1967 год мы справляли в дружной компании, где заводилой был мой старый знакомый Андрей Калошин. Его отец, известный оператор, объездил полмира, Андрей впоследствии долго работал в Японии. Звучали три первых диска «Битлз», еще «досержент-пепперские», веселились до упаду. Никогда до того я не испытывал этой жгучей радости от небольших, но постоянных побед, скорее везений, когда несет тебя по желобу жизни с неведомой скоростью, того и гляди выбросит, а ты держишься изо всех сил, бормоча про себя «только пронеси, пусть пронесет», а в душе знаешь: точно пронесет, и финиш твой, а он и не финиш, а очередная маленькая победа.
Далее ждали другие приключения, не менее захватывающие, но уже без этой бесшабашности, азарта, а с напряженным умением и желанием выиграть. Не слалом, не лото, как в детстве, а командная игра, где ты должен был стать лидером. Что-то, как говорят, сосало под ложечкой, что-то кончалось независимо от меня. Видимо, благая юность. Начиналась молодость, борьба за свое место под солнцем. Как ни странно, это почувствовала находившаяся рядом со мной девушка, актриса Детского театра Тамара Мурина, спутница этой безумно веселой ночи. Она ко мне не приставала, понимая, что больше не нужна. Мы разошлись без слов. На Большой Коммунистической в мастерской Галкина я встретил и свою сокурсницу, которую как-то не замечал в МГУ. Она и была той девушкой, что ждала украденные с Кузнецкого Моста статуэтки. Вероятно, это не было чудом, а просто насущной необходимостью быть вместе. И это была не влюбленность, не общность интересов, не одинаковость профессий и возрастная близость – это было принятое за нас где-то «наверху» решение. Через неделю, без особых объяснений, мы подали заявление в ЗАГС и, прождав положенный месяц, в начале апреля отпраздновали свадьбу на проспекте Мира. Вместе, рядом, на отдалении, снова рядом, преодолевая все мои «биполярности» и заскоки, отчаянную неразумность, порой, чего греха таить, и подлость, Марина вот уже более полувека терпит меня. «Браки совершаются на небесах, но заканчиваются на земле». При всех расхождениях интересов, жизненных целей, разностях характеров, что постепенно и обнаружилось, я никогда не думал о расставании. Для меня она стала самым главным человеком в жизни. В очередной раз насвинячив, я просил о снисхождении, прощении. Счастье, что иногда его получал, хотя счастливой нашу жизнь назвать было бы трудно.
Сразу после свадьбы, прошедшей весьма бурно, с «чудачествами» жениха, мы на следующий день уехали в Абхазию. В гостинице «Гагрипш» – помните: «о море в Гаграх, о пальмы в Гаграх…» – нас не поселили, мол, брата с сестрой не положено, несмотря на штамп в паспорте. Пришлось поселиться в «частном секторе», но мне это уже было по карману. Апрельское солнце грело, но вода в море была четырнадцать градусов. Помню, что, бросившись в нее от перехлестывавших меня чувств, я заплыл «самопальным» баттерфляем довольно далеко от берега и стоящие на нем изумленные немцы кричали: «дельфин, дельфин», глядя на меня. В целом жизнь там была сонная, сытая: бутылка молодого вина «рупь», зелень «рупь», хинкали «рупь». Видимо, другой денежной единицы абхазы не знали. Русских они привечали, грузин терпели с трудом. Кроме одного случая, омрачившего вечер, – Марину хотели украсть, напоив меня каким-то болезненным зельем, но все обошлось, неожиданно «без потерь» – все было радостно и гармонично.