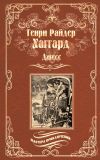Текст книги "Рыцарь, или Легенда о Михаиле Булгакове"

Автор книги: Валерий Есенков
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 77 страниц) [доступный отрывок для чтения: 25 страниц]
И в этот самый момент раздается ошалелый стук в дверь. Да и вовсе не стук. Гром какой-то: бух, бух. Должно быть, в остервенении колотят ногой.
Он бросается вниз.
Так и есть: роженицу доставил здоровенный мужик, муж, должно быть, счастливый отец, решительно не в себе, следом идет, гремит сапожищами и грозит, и грозит:
– Если помрет, тебе тоже не жить, убью… не жить… ты мотри, говорю…
Слава Богу, фельдшер, опытный человек, оставляет за дверью, а то бы прямо беда. Все-таки фельдшер, должно быть, замечательный человек, прекрасный товарищ и друг.
В операционной он приступает к женщине с громадным, вздернутым животом. Так и есть! Положенье неправильное, боли ужасные, того гляди, и в самом деле помрет! Его университетская подготовка в этот миг представляется ему смехотворной. Кое-что он, разумеется, помнит, обрывки какие-то, а все-таки, все-таки… положенье неправильное, положенье неправильное… он не умеет решительно ничего. А госпиталь, госпиталь? Он так и озлился! Что госпиталь? Что? Ноги и руки пилить! Раза два или три наблюдал обыкновенные роды! И это же всё! А тут положенье неправильное, положенье неправильное…
К счастью, Тася спускается вниз, садится за столиком в уголке. Он молит её раскрыть руководство, по памяти называет страницу, подбегает, читает, ага! И мчится к столу. А там этот, слышно, буянит, что-то благим матом орет, должно быть, что ему тоже не жить. Печальный, но, согласитесь, прекрасный конец. Он уже видит сотни убитых своими руками, а тот-то убьет, и не окажется на его совести ни одного, постой, вот эта останется… тьфу, тьфу!
И что бы вы думали? Роды проходят благополучно!
Без практики! Без электричества! Воду кипятят на плите!
После такого исхода и благодарственных, чуть не униженных улыбок счастливого мужа, на милость тотчас переменившего праведный гнев, он несколько ободряется духом.
Решает справочники, руководства и атласы всегда держать под рукой. В каждом затруднительном случае, то есть почти постоянно, листает их лихорадочно, читает поспешно, плохо разбирает, что и зачем, и с трепетом ждет своей неизбежнейшей участи.
И как же не ждать? Больные идут косяком. Идут сквозь ненастье. Идут сквозь мороз и метель. Одни добираются своими ногами, других доставляют на разбитых телегах, а зимой большей частью в розвальнях на охапках сена везут.
И война, госпиталь прифронтовой, отпиленные ноги и руки представляются ему чуть не забавой. У него на глазах стонет и страждет сраженная разнообразным страданием плоть. Женщины, мужчины, взрослые, дети и старики.
И вот где чудо, так чудо: всякий раз, как он видит перед собой эту сраженную страданием плоть, к нему сама собой приходит решимость, озаренье какое-то, даже размах. Мысль работает удивительно ясно. Безотказно действует преподанный в аудитории метод. Он строжайшим образом следует от симптома к симптому, подбирает их один к одному, сопоставляет. И, как несомненное чудо, неизбежным следствием сам собой из тьмы неведенья выплывает точнейший диагноз. Странней же всего именно то, что диагноз-то правильный, точный. Он ни секунды почему-то не сомневается в том и смело выписывает лекарство или берется за хирургический нож, к ножу-то он в госпитале, слава Богу, привык.
Ампутации, вычистки, грыжи, трахеотомии, вывихи, переломы, инкубации, роды, часто неправильные, гнойные плевриты, воспаления легких, сифилисы, геморрои, саркомы – всё побывало у него под рукой, даже пивший беспробудно и допившийся до чертиков агроном.
Он оказывается смел и удачлив. Рука его не дрожит. Несмотря даже на то, что если не каждый раз, так непременно уж через раз ему кричат в спину охрипшие мужицкие глотки:
– Убью! Не жить тебе, говорю! Не жить! Ты мотри!
К нему привозят человека с розовой пеной на синих губах, с грудной клеткой, разнесенной выстрелом волчьей картечью чуть не в упор. Клочьями мясо висит. Трепещущее виднеется легкое. А через месяц человек уходит от него совершенно здоровым. На своих на двоих.
Слава о нем распространяется по округе. Приятно? Безусловно, приятно. Однако истинное несчастье, если глядеть на жизнь не в розовые очки. Слава в деревне! Что она значит? А то она значит, что больные так и прут нескончаемой вереницей полушубков, шалей и зипунов, от которых воняет мокрой овчиной, черт знает чем и навозом. За один всего год он принимает пятнадцать тысяч шестьсот тринадцать больных. В среднем по сорок восемь тяжко страждущих в день, поскольку легко страждущие к нему не являются, привыкли от легких недомоганий сами лечиться каким-нибудь зельем, самогоном прежде всего. Однако случаются дни, когда перед ним проходит сто, сто десять, даже сто двадцать больных, и он работает с ними от темна до темна. Да ещё поднимают с постели чуть не каждую ночь, призывая к больным, так что в течение года он ни одной ночи нормально не спит, что прошу отметить особо.
Чудесное земство! Вечная слава ему! Знает, что без столовой, без спальни, без кабинета интеллигентный человек с ума бы непременно сошел. А так ничего. То есть почти ничего, если всю правду сказать.
Пятнадцать тысяч шестьсот тринадцать больных. Несметное полчище. Всё люди различных сословий, профессий, темпераментов, убеждений и знаний. Тут в одной общей куче богатеи и нищие, землепашцы, учителя, писаря и неграмотные, обитатели местные, уравнители, беспартийные, анархисты, и кого-кого только нет, а страдания, боль, ужас смерти у всех одинаковы, недуги каждому указуют костлявым перстом, что смертен есть и есть человек.
И все он обязан помочь, не выспрашивая, кто он и что, каково верует или не верует, да и времени выспрашивать нет. Исключений тут быть не может. Исключений и не бывает. И он то напряженно, то сердито, то озлобленно думает только о том, чтобы лечение было удачным, чтобы человек совершенно здоровым вскоре покинул его.
Гуманнейшая профессия в мире, мой друг!
Этот год, прожитый в постоянном, в неистовом противоборстве с болезнями всех сортов и мастей, отчеканивает его от природы сильный характер, о силе которого и сам он прежде не знал ничего. Всё ещё юноша, несмотря на женитьбу и двадцать пять лет, он из бесчисленных испытаний выходит мужчиной. Отныне он владеет собой. Но главнейшее из всего: он научается побеждать.
И мне представляется, что однажды, когда история не дает ему никаких документов, он поделится с любимым героем своим собственным опытом и нарисует небезынтересный портрет:
«Три тяжких года, долги, ростовщики, тюрьма и унижения резчайше его изменили. В углах губ у него залегли язвительные складки опыта, но стоило только всмотреться в его лицо, чтобы понять, что никакие несчастья его не остановят. Этот человек не мог сделаться ни адвокатом, ни нотариусом, ни торговцем мебелью. Перед рыжеволосой Мадленой стоял прожженный профессиональный актер, видавший всякие виды…»
Впрочем, пока что он лекарь с отличием, врач, но тоже профессионал из прожженных. Забавное сожаление, что он выглядит моложавым, позабыто давно как мальчишество. По целым неделям забывает он об отличнейших лезвиях всемирно известной фирмы «Жиллет» и ленится посылать за газетами. Аккуратный пробор исчезает с его головы вместе с щегольской прической культурного человека. Отросшие волосы, поскольку на сорок верст вокруг ни одного цирюльника нет, зачесываются небрежно назад, лишь бы не мешали работать. Глаза становятся беспокойней и строже. Рот сжимается с уверенным мужеством. Глубокая складка, едва намечавшаяся в госпитале прифронтовой полосы, теперь явственно пролегает у переносья.
В сущности, он имеет полнейшее право гордиться собой: из двухсот стационарных больных у него умирает только шесть человек. Да и эти шестеро становятся истинной мукой, испытанием, ношей, крестом. Это горчайшее горе его, под игом которого чужие боли, чужие страдания начинаются ощущаться своими. Совесть, это сокровище, этот фантом, дарованная интеллигентному человеку вместе с пристрастием к своим вдохновенным тревогам, становится неумолимой, точно бы хищной. Каждую смерть стационарных больных он переживает как свою катастрофу. За каждый несчастный случай винит он только себя самого, не унижаясь до причитаний по поводу сквернейшим образом сложившихся обстоятельств. Обстоятельства – обстоятельствами, а сам-то ты что?
В такие часы он себе представляется бездомным жалким отвратительным псом. Горчайший стыд обжигает несчастное сердце. Даже приходит на ум, что он совершил преступление. Отчаянье давит. Собачья тоска. Куда бы поехать? Кому повалиться бы в ноги? Повалиться и бухнуть, что вот, мол, он, сукин сын, чертов лекарь с отличием, натворил того и того, берите диплом, отсылайте голубчика в Сахалин!
Не к кому и некуда ехать. Это он сознает. И тогда тихая речка, лозняк и покривившийся мостик через неё, видные из окна его кабинета, словно бы угрожающе глядят на него.
«Незабываемый, вьюжный, стремительный год!..»
И как скверно, поверхностно он всё ещё знаком с медициной. Он твердит, что ему нужно, что ему необходимо учиться. И с упорством человека с окровавленной совестью он роется в библиотечных шкафах прекрасно обустроенной земской больницы, перелистывает справочники, разглядывает рисунки и диаграммы, намереваясь удержать в памяти все до одной.
Иногда непроходимые вьюги несутся несколько дней и ночей над оцепеневшей угрюмой землей, заметая к нему все пути, не пуская и самых нетерпеливых и недужных больных, и он немного приходит в себя. Первым делом тщательно бреется, предварительно вымывшись в бане. Тася медицинскими ножницами слегка подправляет прическу. Он разрывает бандероль с опоздавшей на неделю газеты с таким же биением сердца, как три-четыре года назад распечатывал голубые конверты, которые присылала из Саратова милая, милая Тася. Он размышляет.
Однако и размышления его тяжелы.
Сначала всё ничего. Нетрудно понять, что газету он неизменно раскрывает на разделе театров: так тоскует без музыки, что начинает даже казаться, что никакого «Фауста» нет. Читает: на прошедшей неделе в Большом театре дается «Аида». Так и вспыхивает и плывет мелодия увертюры. И дальше, и дальше! «Мой милый друг, приди ко мне…» Уже видится незабвенная опера в городе Киеве, уже своим замечательным басом поет что-то Сибиряков, уже Сашка Гдешинский, в черном смокинге, в белом пластроне, с тихой усмешкой, шагает по ногам первого ряда партера, а он!..
Эх!.. Эх!..
Вдали от шума, вдали от культурных людей. И так и брызжет в глаза электрический свет, трезвонит на поворотах трамвай, свежие газеты приходят с утра, «Фауст» действительно есть, потому что «Фауст» бессмертен, интеллигентные люди ходят в гости друг к другу, в галстуках бабочкой, с букетами отличных цветов, целуют ручки у дам, говорят комплимента, исполняют небольшие концерты. Скрипка, гитара, рояль. Поют. Соло и хором. Обсуждают последние новости. Спорят о том, за какую именно сумму ненавистная императрица Алиса, из гессенских немцев, продает своим немцам нашу Россию и какие именно суммы военный министр получает с промышленников за то, что промышленники, сукины дети, поставляют фронту снаряды, которые разрываются в орудийных стволах, калеча и убивая прислугу. Спорят, конечно, о том, победит ли Антанта и чем обернется для России война. Ненужная, бессмысленная война, затеянная обреченным царем. Особенно же непримиримые, жаркие споры ведутся о том, какое будущее ожидает Россию, поскольку ни один спор истинно интеллигентных людей обойтись без будущего России просто не может.
Он меряет беспокойными шагами свой кабинет. Фундаментальный вопрос! То есть о том, какое будущее ожидает Россию. Спорит здесь, естественно, не с кем. А всё же?
Он сидит заваленный снегом чуть не до крыши. Сидит именно там, где негромко, невыразительно струится та самая роевая общая жизнь. Струится в кромешной, вот уж поистине в египетской тьме. Отличнейшее словечко нашлось, когда он пробирался сюда. Электричества нет. Оперы нет. Театра нет. Дорог нет. Грамотных нет. Цивилизации нет.
Всё перечисленное светит издалека какой-то ослепительной точкой, звездой, вспыхнувшей в необозримых черных пространствах вселенной, да и видит эту звезду он один во всей этой глуши, манит она его к себе одного, тогда как глушь не имеет никакого понятия о какой-то звезде, пожалуй, и не нуждается в ней. Живут себе и живут без звезды. Да и много ли этих вспыхнувших звезд? На всю Россию пять или шесть городов с населением, перевалившим сто тысяч, несколько тысяч мелких, уездных, с одной главной улицей, с одним рядом светящихся в ночи фонарей, с кинематографом, с больницей и школой, и рассеяны они словно звездная пыль.
А прочее всё? А прочее всё – бесприютная, непроездная глушь, в которой звездная пыль уменьшается почти до незримых размеров: там больница с одним врачом, там школа с таким же одиноким да ещё частенько голодным учителем, там усадьба с ещё более одиноким, правда, сытым помещиком, как за полверсты от него, в Муравишниках, Василий Осипович Герасимов. Отличнейший человек. Образован. К тому же слабохарактерен и ленив, как и полагается обладателю таких знакомейших свойств добрый и мягкий. Однако большей частью скрашивает своё беспробудное зимнее одиночество хорошим вином. Водки, представьте, не пьет. Вечер весьма приятно у него провести, как и у его сына в Сычовке.
А прочее всё, вновь задает он всё тот же навязший вопрос. А прочее всё, отвечает себе, и есть роевая общая жизнь. Без света. Во тьме. Хоть прописывай, хоть не прописывай: по одной таблетке три раза в день – непременно примет весь пузырек в один раз, чтобы поправиться побыстрей, а горчишник приладит на шубу.
О чем думает, чем живет эта роевая общая жизнь? Какова натура её? Натура кулацкая, черствая, неотзывчивая на чужую беду, а потому живет на земле и землей и думает большей частью о том, как бы землю всю у всех отобрать, разделить поровну всем, по сто десятин, а усадьбы все сжечь, чужаков перебить, которые на земле не сидят и землей не живут, то есть вот этих самых: помещика, учителя и врача.
А высокое наслаждение умственного труда, которое одно поддерживает его посреди этой египетской тьмы и помогает ощущать себя человеком?
Нет никакого наслаждения умственного труда, потому что не существует и самый умственный труд.
Было бы сущей напраслиной утверждать, что ему, погребенному заживо в этой вьюжной глуши, хоть сколько-нибудь известно о яростном споре, который ведется между революционными партиями, не о самой возможности социализма в этой египетской тьме, а всего лишь о том, когда социализм в этой египетской тьме начинать: с сегодня на завтра или этак лет через сто?
Такого рода мысли даже не посещают его. Социализм в этой египетской тьме? Что за вздор! Он не может отделаться от мрачного ощущения, что тьма эта египетская только и ждет человек, безразлично какого и с какой стороны, лишь бы человек этот властно сказал: землю бери, земля отныне твоя! И обрушится всё. Завоет, завертится, схватится за вилы, за топоры и снесет всё, что только сможет снести. Запылают усадьбы. Запылают школы, больницы. Никольское, Муравишники тоже сгорят.
Что же останется?
Этого даже не хочется себе представлять.
Глава двенадцатая
Пожар
Уже 1917 год. Метельный февраль кружит на дворе. В середине уже, в одну кромешную ночь, когда сквозь метель не видать не то что ни зги, а решительно ничего не видать, колотят оглушительно в дверь. Неужто кого привезли? Оказывается, что не привезли никого, а Муравишники в самом деле отчего-то горят. Стукнуло сердце и оборвалось куда-то в зловещем предчувствии: началось!
Он выскакивает на заснеженное крыльцо. В самом деле, в той стороне сквозь сплошную метель розовеет пятно. Расширяется. Поднимается к белому небу. Вся усадьба горит.
Что тут делать? Бессонная ночь. Размышленья о судьбах России. Пророчество человека с огненными глазами «не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный». Кажется, привелось увидать. Тютчев припоминается кстати:
Счастлив, кто посетил сей мир
В его минуты роковые…
О нет! Он не ощущает ни малейшего счастья, даже намека на счастье, самой слабой тени его. Всё его счастье: тишина кабинета, зеленая лампа, книги, наслажденье умственного труда и душевный покой.
Впрочем, выясняется утром, что Муравишники сгорели только что не дотла чуть не сами собой. От неосторожности сторожа. Верно, был пьян.
Несколько поотлегло, а тут у благоразумного земства уже полагается отпуск. Они с Тасей едут в Саратов. По мере удаления от Никольского настроение его улучшается. На крохотной станции железной дороги керосиновые шипят фонари, Боже мой! Москва пылает костром электричества! Саратов почти не уступает Москве. Вывески. Парикмахерские. Рестораны. Кафе и авто. Это-то вот и есть настоящее счастье, а то-то счастье пусть-ка лучше минует его.
Ишь чего захотел! Не минует. В Саратов врываются известия о февральских событиях. Никто событий этих не вызывал. Обрушились сами собой. Так сказать, следствием совокупных причин. И вот монархия свергнута. Представьте себе, и не жалеет никто. Революция? Революция! А он о революции только и знает, что была во Франции, довольно давно. Помнит твердо: Робеспьер, гильотина, террор, казнь короля, Бонапарт. Кажется, в Англии тоже, очень давно. Кромвель, тоже казнь короля. Воспоминания какие-то неприятные, мрачные, злодеи одни.
А что же у нас? А у нас вот что: Временное правительство. И тоже, представьте, радости ни с какой стороны не слыхать. Выборы в Учредительное собрание, правда, неизвестно когда. Так и что? Кого выбирать? Уж и без выборов в Саратове, глядь, Советы верховодят. Прислуга к Тасе приходит и важно так говорит:
– Я вас буду называть Татьяна Николаевна, а вы меня теперь зовите Агафья Ивановна.
Это и есть революция?
Черт знает что!
И с таким остервенением ни о чем не хочется думать, что именно сулит ему это «черт знает что», что он почти в полном молчании в шахматы весь отпуск с тестем, с генералом, играет.
Возвращаются через Москву. В Москве такой кавардак, что страсть как хочется поскорей в свою глушь, в тишину лесов и полей.
Стоит оттепель. Март. В Никольское пробираются верхом через озеро. Других дорог уже нет.
Однако едва он приступает к приему больных, как приходит вызов из города Киева: наконец-то настало время диплом получить. Удачное время, черт побери.
Он едет. В городе Киеве шинели без шаровар. Центральная Рада. Недавно ещё писавший сентиментальные статейки в газетах об национальном украинском театре Петлюра военный министр.
Вот уж истинно: черт знает что!
Он получает диплом и возвращается вспять. В середине весны в Муравишники съезжаются петербургские жители: знаменитейший историк Кареев, автор крупных трудов по истории революции и земельных отношений во Франции, Фаворский, Верейский и старший племянник хозяина, Осип Петрович, закончивший историко-филологический факультет, нынче товарищ министра народного просвещения. Очень кстати съезжаются, по правде сказать. Русский мужик, по Достоевскому богоносец, по Столыпину, убиенному, опора царя и отечества, хлеба в русские города не везет. Отчего не везет? Валюта не та. Курс падает так, что керенки уже и не режут, а так, квадратными метрами выдают. Русскому мужику золото подавай. Это зипуну и лаптям? Докатились, правду сказать. На русские города надвигается голод. Русского царя страхом голода так и смело, следа не видать. И этих-то, временных, тоже сметет, как пить дать сметет, похоже на то. А после них кто? Кто бы ни был, а русский мужик хлеба без золота не даст никому, без золота любого сметет. Минуты, истинно, истинно, роковые.
Всё это время он мечется в ожидании, когда же со станции газета придет, недельной свежести, черт побери, а всё же газета, в надежде предугадать, что несут сии минуты роковые лично ему и России. Путаница там, чушь собачья, ничего не понять.
А тут петербургские жители, член-корреспондент, товарищ министра, из первых известия рук. Его посещения Муравишников становятся, естественно, чаще. Вести ужасны. Осип Петрович принадлежит к числу тех немногих в стране, кто знает, что у нас делается, не по слухам, не из газет. И Осип Петрович высказывает уверенность самую полную, что никакое Учредительное собрание собраться не сможет, что не сегодня, так завтра гражданская всенепременно разразится война.
– А крестьянство-то, крестьянство-то что?
– Крестьянство останется, надо думать, спокойно.
Странное убеждение. Никак не может этакого спокойствия без золота быть. И думать не надо. А впрочем…
И снова десятки и сотни больных. Единственное, истинное спасенье от минут роковых. У него появляется уверенность в себе, даже резкость движений, которые вначале он искусственно для солидности на себя напускал.
«На обходе я шел стремительной поступью, за мной мело фельдшера, фельдшерицу и двух сиделок. Останавливаясь у постели, на которой, тая в жару и жалобно дыша, болел человек, я выжимал из своего мозга всё, что в нем было. Пальцы мои шарили по сухой, пылающей коже, я смотрел в зрачки, постукивал по ребрам, слушал, как таинственно в глубине бьет сердце, и нес в себе одну мысль – как его спасти! И этого – спасти! И Этого! Всех! Шел бой. Каждый день он начинался утром при бледном свете снега, а кончался при желтом мигании пылкой лампы «молнии»…»
Он свыкается, работа врача страшит его меньше, но в словах его, сказанным много спустя, никакого преувеличения обнаружить нельзя: да, в Никольской больнице он ведет бой, и, как положено, в этом бою совершаются ежедневно обыкновенные подвиги, которые, согласно с дипломом, положено любому лекарю совершать, и лекарь тоже получает ранения, чреватые смертельным исходом, посмей только глазом моргнуть, спасовать, отступить, повернуться спиной.
А он утомлен. Переутомлен. Опять утомлен. Плохо и мало спит по ночам. Тьма египетская камнем лежит на душе. Будущее мучит, страшит: шутка сказать, революция, гильотина, террор, гражданская война впереди!
И в эти самые дни насмешливая судьба насылает на него дифтерит. Из горла больного ребенка он через трубочку, это в учебниках есть, отсасывает дифтеритные пленки. Одна крохотная неаккуратность, и бац: он заражается сам. Приходится срочно ввести противодифтеритную сыворотку. Слава Богу, изобрели. Ещё слава Богу: в земской больнице и противодифтеритной сыворотки имеется солидный запас. Однако действие сыворотки на его организм неожиданно: распухает лицо, всё тело покрывается сыпью, спать невозможно, всё тело чешется нестерпимо и нестерпимо зудит.
Ужас. Безумие. Измочаленный бесконечным потоком больных, издерганный роковыми минутами, обессиленный человек умоляет сделать укол. Ему вводят морфий. Зуд прекращается. Обессиленный человек засыпает. Весь день нормально принимает больных, а вечером на обессиленного человека наваливается дикий страх, что вот-вот нападет истерический зуд, бессонная ночь, да так и свалится с ног, и он позволяет себе, ведь слаб человек, ещё одну дозу морфия, на третий вечер ещё. Конечно, он себе каждый день говорит, что, в полнейшем согласии со всеми учеными книгами, три дозы не страшны, обыкновенны, он превосходно спит по ночам, как не спал уже год, и он позволяет ещё. Он призывает себя к осторожности, ведь он лекарь с отличием, и позволяет ещё. Натурально, он твердо уповает на то, что у него чрезвычайно сильная, прямо железная воля. И позволяет ещё.
Само собой разумеется, что после стольких неоднократных омерзительных потачек своему усталому организму, ещё больше своей капризной от усталости слабости, в его жизни начинается темная, безобразная полоса. Днем он абсолютно здоров, прекрасно работает, даже, кажется, лучше, чем прежде, и больным его нисколько не становится от этого хуже. Зато вечера превращаются в сущий кошмар. Шквал страданий обрушивается, ввинчивается в его бессильное тело, едва он решается пустить в действие свою действительно чрезвычайно сильную, прямо железную волю и тем спасти себя от вредной, опасной и унизительной страсти, которая хотя и не растет с каждым днем, как должна бы расти, но и, как околдованная, не оставляет его.
Невозможно выразить, что приходится ему пережить. Это под силу лишь ему самому, постоянному свидетелю своего омерзительного недуга. И он свидетельствует, прикрывшись, от стыда подальше, именем доктора Полякова:
«Галлюцинаций я не испытывал, но по поводу остального я могу сказать: – о, какие тусклые, казенные, ничего не говорящие слова! «Тоскливое состояние»!.. Нет, я, заболевший этой ужасной болезнью, предупреждаю врачей, чтобы они были жалостливее к своим пациентам. Не «тоскливое состояние», а смерть медленная овладевает морфинистом, лишь только вы на час или два лишите его морфия. Воздух не сытный, его глотать нельзя… в теле нет клеточки, которая бы не жаждала… Чего? Этого нельзя ни определить, ни объяснить. Словом, человека нет. Он выключен. Движется, тоскует, страдает труп. Он ничего не хочет, ни о чем не мыслит, кроме морфия. Морфия! Смерть от жажды – райская, блаженная смерть по сравнению с жаждой морфия. Так заживо погребенный, вероятно, ловит последние ничтожные пузырьки воздуха в гробу и раздирает кожу на груди ногтями. Так еретик на костре стонет и шевелится, когда первые языки пламени лижут его ноги… Смерть – сухая, медленная смерть… Вот что кроется под этими профессорскими словами «тоскливое состояние»…»
Вскоре самым естественным путем пробирается подлая мысль пустить себе пулю в лоб и тем избавить себя от этой сухой, медлительной смерти, а заодно избавить себя от позора, от страха разоблачения, поскольку такого рода болезнь в особенности постыдна для лекаря, который о её жестоких последствиях не может не знать.
Однако что-то неясное не позволяет ему приставить к виску револьвер. Что именно? Невозможно сказать. Может быть, перед глазами появляется Боря Богданов? Может быть, спасительная жажда жизни останавливает его на последней черте? Может быть, он всё же надеется выбраться, хоть и знает, конечно, что выбраться из этой болезни нельзя? Может быть, просто-напросто жаль бросить бедную Тасю одну в этой египетской тьме?
Вероятно, все эти и ещё другие причины, однако он не спускает курка. У него в самом деле сильная воля, разум здоровый и ясный. Он продолжает бороться, несмотря как раз на то, что в качестве лечащего врача понимает отлично, что поздно уже, что он давно эту игру проиграл.
Прежде всего, решает он сам с собой, необходимо переменить обстановку, иначе погибнешь в этой египетской тьме. Со свойственной ему оригинальной находчивостью и неукротимой энергией он хлопочет о переводе. Не имеет значенья куда. Пусть в небольшой городок. Неприметный. Уездный. Лишь бы люди, электрические огни, горстка культурных людей и, что важнее всего, побольше больница, в которой страшная ответственность за всех и за всё непременно свалится наконец с его плеч и поосвободит его душевные силы, что все эти душевные силы, стиснувши зубы, устремить на борьбу.
Перевода удается добиться. Восемнадцатого сентября ему выдается форменное удостоверение земской управы, что он, Михаил Афанасьевич Булгаков, лекарь с отличием, «состоял на службе Сычовского земства в должности врача, заведующего Никольской земской больницей, за каковое время зарекомендовал себя энергичным и неутомимым работником на земском поприще». Далее перечисляются все его операции, произведенные в течение минувшего года.
Двадцатого сентября Смоленская губернская земская управа командирует его в распоряжение Вяземской уездной земской управы. Вместе с обеспокоенной, постоянно взволнованной Тасей приезжает он в Вязьму и снимает три комнаты на Московской улице, рядом с больницей. В больнице он получает под свою руку инфекционное и венерическое отделения, чего он ещё в университете хотел.
Как он и предполагал, новая, более симпатичная его душе обстановка бодрит и приподнимает его уже сама по себе. Праздник! Ликованье в душе! Он так и светится весь, чуть не готовый взлететь.
«И вот я увидел их вновь, наконец, обольстительные электрические лампочки! Главная улица городка, хорошо укатанная крестьянскими санями, улица, на которой, чаруя взор, висели – вывески с сапогами, золотой крендель, изображение молодого человека со свиными и наглыми глазками и с абсолютно неестественной прической, означавшей, что за стеклянными дверями помещается местный Базиль, за 30 копеек бравшийся вас брить во всякое время, за исключением дней праздничных, коими изобилует отечество мое. До сих пор с дрожью вспоминаю салфетки Базиля, салфетки, заставлявшие неотступно представлять себе ту страницу в германском учебнике о кожных болезнях, на которой с убедительной ясностью изображен твердый шанкр на подбородке у какого-то гражданина. Но и салфетки эти всё же не омрачат моих воспоминаний! На перекрестке стоял живой милиционер, в запыленной витрине смутно виднелись железные листы с тесными рядами пирожных с рыжим кремом, сено устилало площадь, и шли, и ехали, и разговаривали, в будке торговали вчерашними московскими газетами, содержавшими в себе потрясающие известия, невдалеке призывно пересвистывались московские поезда. Словом, это была цивилизация, Вавилон, Невский проспект…»
И самое прекрасное детище этой цивилизации, конечно, больница, какая в Никольском могла только сниться ему по ночам:
«В ней было хирургическое отделение, терапевтическое, заразное, акушерское. В больнице была операционная, в ней сиял автоклав, серебрились краны, столы раскрывали свои хитрые лапы, зубья, винты. В больнице был старший врач, три ординатора кроме меня/, фельдшера, акушерки, сиделки, аптека и лаборатория. Лаборатория, подумать только! С цейсовским микроскопом, прекрасным запасом красок. Я вздрагивал и холодел, меня давили впечатления. Немало дней прошло, пока я не привык к тому, что одноэтажные корпуса больницы в декабрьские сумерки, словно по команде, загорались электрическим светом. В ваннах бушевала и гремела вода, и деревянные измызганные термометры ныряли и плавали в них. В детском заразном отделении весь день вспыхивали стоны, слышался тонкий жалостливый плач, хриплое бульканье… Сиделки бегали, носились… Тяжкое бремя соскользнуло с моей души. Я больше не нес на себе роковой ответственности за всё, что бы ни случилось на свете. Я не был виноват в ущемленной грыже и не вздрагивал, когда приезжали сани и привозили женщину с поперечным положением, меня не касались твердые плевриты, требовавшие операции. Я почувствовал себя впервые человеком, объем ответственности которого ограничен какими-то рамками. Роды? – Пожалуйста, вон – низенький корпус, вон – крайнее окно, завешенное белой марлей. Там врач-акушер, симпатичный и толстый, с рыженькими усиками и рыжеватый. Это его дело. Сани, поворачивайте к окну с марлей! Осложненный перелом – главный врач-хирург. Воспаление легких? – В терапевтическое отделение к Павлу Владимировичу…»
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?