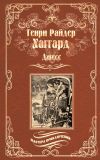Текст книги "Рыцарь, или Легенда о Михаиле Булгакове"

Автор книги: Валерий Есенков
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 77 страниц) [доступный отрывок для чтения: 25 страниц]
Перед нами интеллигентный человек, закоснелый в культурных привычках до мозга костей, который не в состоянии жить без элементарных условий современной цивилизации, без нормального, разумно устроенного течения дел, без сколько-нибудь пристойного удовлетворения культурных потребностей, без всего того, без чего маялся и погибал целый год в сорока верстах от уездного городка, без чего едва не лишился ума.
И он оживает, понемногу приходит в себя. В первую голову, у него появляется достаточно свободного времени, чтобы наконец осуществилась голубая мечта: ночь, зеленая лампа, письменный стол, хорошая книга, умственный труд, тишина. Он бросается читать сломя голову всё, что ни попало, и, как ни странно, одним из первых под руку попадается Куперов «Следопыт», которого в детстве он жаждал едва ли не как манны небесной, а может быть, и сильней. Что ж, Купер так Купер! Главное, читать. Всё время читать и читать. И вот, непостижимо и странно, Купер делает свое великолепное дело: дает ощущение твердости, уверенности в себе, каких ничто в Никольском дать не могло, никакие операции простреленных волчьей картечью людей, трахеотомии и геморрои. В Никольском он лишался самой важной для интеллигентного человека возможности – видеть себя со стороны, в ком-то другом, непременно обнаруженном не в жизни, а в книге. И он вдруг увидел себя в Следопыте, занесенном в такие же непроходимые дебри, из которых выбрался две недели назад, человеком, несущим людям добро так же мужественно и просто, как тот романтически, даже сентиментально сочиненный американский герой.
Странно, странно, а замечательно хорошо! У него прибавляется нравственных сил. Главное, в душе его вновь появляется оптимизм. Ничто ещё не потеряно в двадцать шесть лет! Всё ещё можно поправить. И он всё поправит. Вот что становится ясно ему.
И заведование венерическим отделением приходится кстати. В Никольском он вдосталь нагляделся на сифилис, пораженный, как много этой ползучей болезни именно по глухим деревням, прежде по наивности уверенный в том, что это исключительно привилегия развращенного, развратного города, преимущество его верхних слоев, где дома развлечений и на тротуарах прилипчивые размалеванные тени продажных девиц.
Оказалось, что нет. Он то и дело нападал на него: хрипота, в глотке зловещая краснота, странные белые пятна, мраморная сыпь на обнаженной груди. Болезнь нехорошая, стыдная, своеобразная, своенравная, захватывающая понемногу весь организм. Поражает кости, прогрессирующий паралич вызывает, не обходит грозной стороной и потомство. И подкрадывается так неприметно, как тать, воровски. Язва откроется. Так себе язвочка. Поболит, поболит и затянется, оставивши слабый рубец. О ней и не вспомнит никто. И никто с ней к врачу не пойдет. А придет с хрипотой. И сколько ни говори, какая болезнь, всё равно не поймет крестьянский неповоротливый ум. Передаст детям, жене. И сам помрет ни за что. Болезнь особенно страшная тем, что о ней почти и не знает никто, и потому она почти никого не страшит. К тому же, есть в ней что-то загадочное, какие-то неопределенные токи в мозгу, какие-то поразительные вывихи психики. Припомните биографию Некрасова, Гейне. А Ницше? Нет, положительно занимательная болезнь!
И он с повышенным интересом делает обходы в своем особенном отделении. Протаптывает дорожку в лабораторию. Прибирает к рукам замечательный цейсовский микроскоп. Сестре Наде, вышедшей замуж за офицера-артиллериста, пишет письмо и просит её подобрать ему несколько книг по бактериологии и венерическим заболеваниям.
Все-таки нет возможности сосредоточиться полностью. Что-то непостижимое приключилось на железной дороге. Уже не летят по строжайшему расписанию поезда на Москву. Топлива не хватает. Поезда тащатся через Вязьму с одышкой. Вокзалишко в Вязьме забит до отказа. Всюду сплошь на полу сидят солдаты в серых шинелях, мужики в круглым шапках, бабы в серых платках. Все с мешками из-под картошки. Веревочные лямки на них. Все лузгают семечки. Пол заплеван семечной шелухой. Заплевана платформа. Часть привокзальной площади тоже заплевана. Главное, ведут себя чрезвычайно уверенно. Так и написано на каждом лице: власть таперича наша, не отдадим никому, а вы все катитесь к разэтакой матери.
Тем не менее на фронте скверны дела. Фронт медленно, однако с каждым днем всё быстрей откатывается, как волна, на восток. Германские дивизии нависают над Ригой. Перебивая друг друга, носятся слухи, один несусветней другого. Выходит что-то несуразное крайне, какой-то фантастической величины безобразие. Выходит, что мир готовится не то переворотиться, не то полететь в тартарары, и похоже, ужасно похоже на то.
Уже армия разбегается у всех на глазах, и никто не в состоянии остановить эти серые массы усталых солдат, которые не желают торчать с винтовкой в грязных окопах. Дезертиры забивают вагоны, даже преспокойно на крышах сидят, и это открыто, среди белого дня. Ясное дело, добра тут нечего ждать. Одно слово: роевая, общая жизнь.
Однако, как ни волнуют, как ни обескураживают его эти роковые события, души его звездным краем касается благодатный покой. В Вязьме льют осенние проливные дожди. По одной главной улице возможно нормально пройти. Переулки же тонут в непролазной грязи, никакие не спасают галоши. Вечерами на окраинах долго воют волчьим воем собаки. По ночам город спит каким-то особенным, непробудным, кладбищенским сном, точно городу и дела нет до того, что солдаты бегут, что германцы идут.
Успевает он приглядеться: кругом пятнадцатый или шестнадцатый век, в который заброшены слабые искры двадцатого, с электричеством и этой прекрасной больницей. За окраиной глухой стеной стоят черные елки. В деревнях гонят и пьют самогон, который, если поджечь, так горит, и ждут одного: кончилась бы война поскорей, причем кончилась бы как-то сама собой, да землю у помещиков взять. Землю потихоньку берут, не дожидаясь никакого Учредительного собрания. Жалуются, что правды нет никакой. Там усадьбу сожгут, там зверски растерзают помещика, если не успел удрать под охрану милиции в города. Хлеба никому не дают. Убивают представителей Временного правительства, которые являются к ним требовать хлеб для голодного Петрограда. Верят, что уж после войны-то всенепременно справедливость придет, уж это, братцы, истинно так, однако тоже как-то сама собой. Приказов Временного правительства не исполняет никто, так что власть вроде бы есть, а вроде бы власти и нет никакой.
Он словно угадывает гул под землей, и ужас временами охватывает его. Когда коллеги судачат, что же это творится на свете и куда ж по этой дорожке придем, он шутит, и при этом ядовитый огонь сверкает в его холодных глазах:
– Ликуйте и радуйтесь! Это же ваш народ-богоносец! Это же всё Платоны Каратаевы ваши! Туда и придем!
А вечером засвечает свою зеленую лампу, раскрывает русские и германские руководства, и всё на свете проваливается куда-то. Никакого гула ниоткуда не слышится. Всё удивительно, удивительно хорошо. Он даже начинает что-то писать. И, сдается ему, что-то начинает в этом писании обозначаться. Он до того увлекается, что верная Тася с поличным его застает. Приглядывается, склонившись к столу. Начинает к нему приставать:
– Что ты пишешь?
Он разгибает усталую спину, несколько деревянно улыбается ей, плетет кое-как:
– Ты прости, но я тебе читать не хочу. Видишь ли, очень ты впечатлительная, подумаешь, что это я болен, примерно вот как.
– Скажи хоть название.
– Отчего же, название можно, «Зеленый змий» называется, это можно сказать.
Не говорит он ей и того, что дозы морфия начинают понемногу мелеть и что начинает твердо вериться в то, что когда-нибудь он совершенно позабудет про шприц.
Вдруг упадает тишина гробовая. Ни поездов, ни газет. Он ощущает себя как будто упрятанным в какой-то непроницаемый черный мешок. Его разум не терпит никакой неизвестности, прямо-таки от неизвестности встает на дыбы. Его разум требует фактов. Ему необходимы, как воздух, точные сведения, а тут прекратились и слухи, а уж если в России прекращаются слухи, тут надобно ждать самой срочной, непоправимой и всенепременной беды. По меньшей мере еврейский погром. В городе Киеве, помнится, перед еврейским погромом всегда падала такая же беспокойная тишина.
Вновь тревога впивается хищными пальцами в душу. Ползут ужасные от неведенья дни. Состояние преподлейшее, хоть волком вой, хоть дурным криком кричи.
Всего этих ужасных дней выпадает четыре. На пятые сутки врывается в городок шальное известие: победа вооруженного восстания в Петрограде! Пролетарская революция! Да здравствует социализм!
Заборы и афишные тумбы древнерусского города Вязьмы покрываются полотнищами первых декретов, отпечатанных на серой рыхлой бумаге:
«Власть Советам!»
«Мир народам!»
«Земля крестьянам!»
И начинается то, что не начаться не может. Власть в Москве берут юнкера. В течение шести дней срочным порядком созданная красная гвардия выбивает юнкеров из старой столицы. От памятника Пушкину прямой наводкой пушки бьют по Никитским воротам, осколки камней и снарядов свистят.
Того гляди, распадется страна. В феврале большевики едва ли насчитывали в своих тайных рядах триста тысяч, а кое-кто говорит, что не было и двадцати. К октябрю, как сами они говорят, большевиков становится приблизительно тысяч шестьсот. Из шестидесяти миллионов только эти шестьсот тысяч имеют некоторое представление о том, что есть рай на земле, да и среди этих шестисот тысяч далеко об этом знают не все. Прочие граждане не знают решительно ничего. О социализме мечтают чуть ли не все, это исстари у нас повелось. Однако социализм для крестьян – это земля, в частном владении и на все времена. Даже для многих рабочих, которые ещё далеко от земли не ушли. Интеллигентные люди даже не способны понять, какой такой социализм может быть, кроме, конечно, этой самой земли, когда среди этих бесконечных лесов и полей не имеется ни электричества, ни дорог, ни больниц, даже грамотности на четыре пятых населения нет. Откуда социализм? С какой стороны?
Между тем, новая власть устанавливается абсолютно легко, точно в какой-то забавной детской игре. Старая власть бестолкова, бессильна, решительно никому не нужна. Кажется, себе самой тоже. И вот является группа вооруженных людей, человек пять или шесть, арестовывает старую власть, провозглашает свою. Никто не оказывает никакого сопротивления. Солдаты рады: с фронта уже полками бегут. Крестьяне рады: уже всю до последней десятины землю берут, если не успели при Временном-то правительстве взять. Интеллигентные люди ничего не понимают. Брать нечего. Бежать неоткуда. Как сидели по больницам и школам, так и продолжают сидеть. В изумлении ждут, чем окончится эта игра. Обитатели тоже не понимают и тоже чего-то испуганно ждут, на всякий случай за крепкими запорами затаясь по домам. В медвежьих углах вдруг ни с того ни с сего провозглашают коммуны, республики. Катавасия. Ошеломленье. Точно замерло всё, но в любую минуту возьмет да и вспыхнет всемирный пожар.
Михаил Афанасьевич стареет у всех на глазах, становится мрачен. Болезнь его одним хищным скачком обостряется. Охваченный злобой и гадливым чувством к себе, он гонит бедную Тасю в аптеку, а потом чуть не на коленях, чуть не в слезах умоляюще вопрошает её:
– Ты в больницу меня не отдашь?
Проходит всего несколько дней, и начинают оправдываться самые наихудшие предположения. Армия так и хлынула с фронта, не дожидаясь, когда подпишется мир. Поезда летят по железным дорогам с пальбой и с грозными криками. С крыш вагонов для чего-то сорвано листовое железо. Окна классных вагонов выбиты сплошь. Из прямоугольной их черноты глядят тупые стволы пулеметов. Ни с того ни с сего пулеметы время от времени захлебываются истеричными очередями, пущенными просто так, в белый свет:
– та-та-та-та-та…
Деревня заворочалась и зарычала. Землю забрали. Так мало ж земли. Пылают усадьбы. В усадьбах пылают библиотеки. Проходят выборы в Учредительное собрание. Семьсот пятнадцать депутатов съезжаются в Питер. Восемьдесят пять процентов социалисты, всех мастей и оттенков. Четыреста двенадцать эсеров. Большевиков только сто восемьдесят три. Таков расклад. И расклад означает только одно: земля большевиков принимает только отчасти, правительство сформируют эсеры. Фантастика! Мистика! Что-то ещё! Ведь власть-то взяли большевики! Ведь какая ни на есть, а военная сила только у них! А ведь дело испокон веку известное: у кого военная сила, и власть у того.
В Вязьме тоже появляется новая власть, и начинает кое-что проясняться. Без фантастики, без мистики власть. С черным маузером в светлой деревянной коробке. С подозрительным взглядом очень решительных глаз. В Сычовку назначается Еремеев. Осип Петрович Герасимов, ныне бывший товарищ министра народного просвещения, уезжает в Москву и там пропадает бесследно. Новая власть в своих решительных действиях руководствуется не разумом, поскольку разумных едва достает на замещение самых высочайших постов, не законом, поскольку прежние законы самым беспощаднейшим образом отменены, бесповоротно и навсегда, а новых не заводится пока никаких. Похоже, законы и разум становятся вообще предрассудком, поскольку новая власть руководствуется единственно революционным чутьем. Именно, именно так! А ведь всякому интеллигентному человеку нетрудно понять, в какие нежданные дали заносит обыкновенного человека чутье, в особенности если тот человек всего лишь вчера выучился читать и писать по складам и нынче с утра получил партбилет.
Поистине, жизнь переворачивается вверх дном. История наступает всё грозней и грозней, посягая уже на все представления о разумности, допустимости, ответственности перед людьми, сжимая и подавляя своим темным, чересчур уж загадочным смыслом.
В сущности, что знает он об истории? Главным образом то, что кто-то где-то когда-то высадился черт знает зачем. Теперь у него на глазах тоже кто-то и тоже черт знает зачем ввергает страну, истощенную, уставшую от неудачной войны, в пучину преобразований невообразимых, неслыханных, полыхающих зарницами бед и невообразимых страданий, которые он уже предчувствует каким-то тревожно-обостренным чутьем и прозревает в каких-то безумных апокалиптических снах.
Глава тринадцатая
Туда, туда, на Андреевский спуск
И его первая отчетливо созревшая мысль совершенно разумна: необходимо бежать. Чем ближе стоит он к роевой общей жизни, лютой ненавистью кипящей ко всему и ко всем, у кого в кармане диплом и у кого правильная литературная речь, ещё не дай Бог очки на носу, тем скорее стихия поглотит его. Бежать надо, в большой город бежать, где легко затеряться, в Москву, ещё бы лучше на родину, в город прекрасный, в город счастливый, едва ли надежней, там тоже черт знает что, да сердцу спокойней: дома-то помогают и стены.
И вот в декабре он едет в Москву хлопотать об освобождении от воинской повинности, поскольку всех белобилетников призывают вновь предстать перед высокой медицинской комиссией. Впрочем, о том, как он передвигается в том направлении, где Москва, уже невозможно изъяснять этим мирным, приветливым словом, да и никаким, наверно, изъяснить словом нельзя. Билетные кассы уже не работают. Поездов тоже, в сущности, нет, а есть эшелоны, составленные из вагонов всех сортов и мастей, и эшелоны врываются на станции под разбойничий свист, рев гармоник и граммофонов. Служащие вокзалов разбегаются тотчас, как только окутанный паром локомотив влетает на первую стрелку. Дежурный по станции ни секунды не медля дает отправление. Все желающие покинуть пункт А и достичь пункта Б берут приступом переполненные вагоны, разумеется, не имея билетов, на которых обозначено место, и вскакивают на подножки почти на ходу.
Впрочем, какие же это вагоны? От прежних вагонов остается один только остов, ободранный и разбитый, словно только что потерпевший крушение и вновь возвращенный на рельсы. Эти противные остовы битком набиты солдатами, бегущими с фронта. Солдаты везут домой зеркала, вагонные умывальники и обрывки потертого плюша, вырезанного и выдранного из вагонных диванов первого класса.
Революционная, другими словами, езда, не похожая решительно ни на что. Едешь час. Стоишь два. Причем прямо в поле стоишь. Солдаты выбрасываются галдящей толпой из вагонов, разламывают заборы, хватают всё, что только способно гореть. В топку локомотива летит всякое дерево, вплоть до почернелых могильных крестов, снесенных с придорожного кладбища. Раздается раскатистый рев сотни пьяных, простуженных, сорванных глоток:
– Крути, Гаврила!
И уже не приходится риторически вопрошать:
– И какой же русский не любит быстрой езды?
Любят решительно все. В особенности под этот магический вскрик, перешедший в потомство. И перепуганный машинист, заслышав его, на всю железку крутит свои колеса и рычаги. До следующей остановки и разграбления вех деревянных вещей, способных гореть.
При этом достойно упоминания ещё одно обстоятельство, абсолютно естественное, однако уже изумительное: вдоль железной дороги по-прежнему стынут в розовой дымке и пушатся от инея стройные сосны, точно на белом свете и не завелось никакой революционной езды.
Михаил Афанасьевич трясется в шатком вагоне, одетый в военную, хотя и не офицерскую форму. Разгоряченные волей солдаты, на произвол судьбы покинувшие отечество, по грустным равнинам которого уже беспрепятственно ступают германские сапоги, косят на него озлобленные глаза, переполненные солдатским чутьем. Он не понимает и не пытается даже понять, отчего сотни тысяч, даже миллионы взрослых мужчин, потеряв голову или никогда не имея её, мчатся как шальные по своим деревням, точно не соображают того, что враг неотступно следует по пятам. Он только ощущает каждой клеткой своего беззащитного тела, что в любую минуту, посовещавшись со своим солдатским чутьем, эти люди выкинут его под откос.
Слава Богу, все-таки добрались. На этот раз ему даруется жизнь. Брестский вокзал оказывается сплошь заваленным телами в тех же серых солдатских шинелях. Те же шинели заполняют всю привокзальную площадь. Тут и там пылают костры, точно это не величавый город Москва, а полустанок в степи или стоянка диких кочевников. К безмолвному зимнему небу поднимаются целые тучи дыма костров и махорки.
Обнаружить извозчика не удается. Говорят, что с первой вестью о второй революции извозчики сами собой исчезают с улиц Москвы, заспешив по родным деревням делить и столбить долгожданную землю. Трамваи ползут переполненными сверх всякой меры, вызывая в памяти бочки с селедкой, которые тоже куда-то исчезли, точно и не было никогда прежде ни просольных, ни пряных сельдей. В трамваях стоит визгливая брань, и невозможно не видеть, что под магическим жезлом революционных событий между людьми вдруг поселилась крутая вражда. До ушей его долетает ещё не знакомый, но много обещающий крик:
– Да тебя надо к стенке приставить!
Я вижу, как мой несчастный герой, интеллигентнейший человек, дружелюбный и мягкий, привыкший видеть людей спокойными, с беспечными лицами, невольно сжимается в ком из натянутых нервов и с подозрением поглядывает по сторонам. И на что натыкается его затравленный взгляд? Его затравленный взгляд натыкается на одни озлобленные, непримиримые лица людей, решившихся во что бы то ни стало отстоять свое священное право, нисколько не считаясь точно с таким же священным правом других.
Да, соглашается мысленно он. Приставят к стенке за милую душу, не дожидаясь скорого на расправу революционного трибунала. Состоит революционный трибунал всё из тех же замечательных троечек, которые придумал на нашу шею Столыпин. Эти милые троечки и тогда никого не щадили, и теперь никого не щадят. Так и во Франции было. Кареев довольно обстоятельно в Муравишниках говорил. Так сказать, пополнял недостатки образования.
В учреждениях, которые он отчего-то никогда не любил, окончательно водворяется какая-то чепуха. Служащие всех рангов, исправно служившие царю и Временному правительству, нынче бастуют. Ждут, что со дня на день не станет большевиков. Тогда они снова станут исправно служить. Ходят на службу. Жалованье всё ещё получают. И ждут. Большевики их почему-то не трогают. Тоже, видимо, ждут. Одни учреждения вовсе закрыты, и неизвестно решительно никому, когда они будут открыты. В других комиссары из рабочих, солдат и матросов ещё только принимают дела, но по комиссарам тотчас видать, что они ни единого звука не понимают в этих мудреных делах. В третьих дела уже приняли и вот действительно не имеют никакого понятия, что и как решать по нынешним шальным временам. Оно и понятно: стенки кругом, попробуй реши.
Он колесит по Москве, точно потерянный, не веря глазам. От недавних боев с юнкерами пострадали целые улицы. Валяются неубранные столбы с перепутанной проволокой. Звенят под ногами медные гильзы винтовок и маузеров, которые тоже не убирает никто, точно дворников тоже не было никогда. Торчат остовы зданий. В частоколе осколков глядят разбитые окна. Стены обезображены вмятинами от пуль. В Художественном дают «Три сестры». Митингуют у подножия Скобелева, у подножия Пушкина и на таганке. На Поварской в каждом доме штаб анархистов. Всюду рыла пулеметов торчат. Во дворах кое-где мрачно корячатся трехдюймовки. В «Метрополе» шампанское пьют и расплачиваются простынями неразрезанных керенок. Продовольствия нет. Сахара нет. За хлебом вьются громадные сказочные хвосты, которые он видит ещё в первый раз и уже будет видеть до конца своих дней. По Тверской проходят матросы в черных бушлатах, с пулеметными лентами через плечо. В кафе поэтов сделана на стене безобразная надпись, способная навсегда отбить уваженье к поэтам: «Я люблю смотреть, как умирают дети». Футуристы, символисты, имажинисты. Серебряный век. За столиками плотно сидят литераторы, с именами и без имен. Тут же сидят спекулянты, обитатели, искатели развлечений. Компания удивительная. Рядом с поджаренными кусочками черного хлеба, пирожными революции, и чашками кофе вороненой сталью чернеют открытые маузеры.
Становится очевидным, что его не уволят, потому что некому увольнять. Дезертировать он, представьте себе, не способен, не научился ещё. Приходится несолоно хлебавши возвращаться в проклятую, уже не безопасную Вязьму, где проще простого оказаться у стенки, поскольку в маленьком городке паразиты и офицеры, то есть заклятые враги восставших рабочих, солдат и крестьян, у всех на виду.
Но прежде он едет в Саратов, к теще и к тестю, то же, между прочим, заклятым врагам. Все признаки катастрофы на каждом шагу. Развал и безвластье, неразбериха и дикая ненависть к каждому, кто не народ, в особенности лютейшая ненависть к офицерам, которым солдаты на каждом шагу припоминают и грубые окрики, и наименование скотины и хама, и мордобой.
Он растерян. Темные предчувствия всё сильней, всё неотступней сокрушают его. Все его товарищи по гимназии, по университетскому курсу в офицерских шинелях, как давно в офицерских шинелях вся русская интеллигентная молодежь. Сестра Варя замужем за офицером. Муж Нади, Земский Андрей, филолог, университетский диплом, прапорщик артиллерии, стоит с дивизионом в Царском Селе. В военное училище поступает Николка, ещё в сентябре, стало быть, юнкер теперь, а юнкеров ненавидят ещё лютей офицеров.
Ясно: всех друзей, всю родню перебьют. Как же быть? Как жить в постоянном ожидании, что тебя схватит за шиворот первый встречный солдатский патруль и тут же приставит к стене?
Он возвращается в Вязьму. Полнейшее одиночество. Он томится, тоскует. Он лечит больных, размышляет, читает по вечерам. Нечего удивляться, что читает он Достоевского. У самого глубокого и страстного из российских пророков он ищет разумных ответов на загадки грядущего. Однако какие ответы может дать тот, кто всю жизнь сам метался от крайности к крайности, сам ответов искал? Ответов он не находит, по правде сказать, никаких. Ошиблись, ошиблись пророки. Народ-богоносец? Как бы не так!
А тут слухи ползут, аки тати в нощи, один другого черней. Объявляют вне закона кадетов, то есть ловят и отвозят в тюрьму. Туда же отвозят членов «Союза защиты Учредительного собрания». Врагов народа определяют, четыре разряда. Изумительно и ни с чем не сравнимо, кто и к кому из этих врагов попадает в соседство. Сами судите: богатеи, кулаки, хулиганы, интеллигенты! Этого почти невозможно понять. Положим, о богатеях, генералах, общественных деятелях что говорить. Нечего о них говорить, тут революционное чутье начеку. Кресты да Бутырки плачут о них. Местным властям спускаются циркуляры, в которых призывают проявлять самодеятельность, проводить конфискации в пользу нищей республики, уже до нитки разоренной и обворованной под водительством Временного правительства. Заодно призывают проводить вразумления и аресты, аресты, разумеется, прежде всего. Жулики, хулиганы? Об этих субчиках тоже нечего говорить, да много ли их? А с какого же боку интеллигентные люди тут приплелись?
Умопомрачительная приключается вещь. В России считается около трех миллионов интеллигентных людей, впрочем, считается по правилам тогдашней статистики, то есть включая всех людей умственного труда, даже городовых. И вот новая власть хорошо понимает, что без этих трех миллионов интеллигентных людей не то что социализма в России не будет, а не будет вообще ничего. Встанут электростанции, которые и без того уже почти встали. Встанут заводы, на которых тоже едва теплится жизнь. Замрут поезда, которые и без того уже держатся одним революционным энтузиазмом и призывом к Гавриле. Укоренится невежество. Эпидемии скосят народ. Возвращаться придется к едва различимым, звероподобным, каким-нибудь берендеевым временам. Это с одной стороны.
А с другой стороны, именно эти интеллигентные люди, разум и совесть России, не видят ни возможности социализма, ни самой социалистической революции, а видят лишь государственный переворот бонапартистского толка. По этой причине новой власти не признают. Не признают, правда, молча. Оружия не берут. Однако служить ей не хотят, Ждут Учредительного собрания, где большевики в меньшинстве. Считают Учредительное собрание, избранное как-никак всенародным голосованием, единственно законной властью в России.
Прямо надо сказать: решающий, определяющий чуть ли не всё направленье эпохи конфликт. Этот конфликт новой власти предстоит разрешить. И как же его разрешает новая власть. Почти так, как разрешала его и царская власть, которую интеллигентные люди тоже не признавали, и если служили ей, то не за совесть, а только за хлеб, с постоянной фигой в кармане.
Новая власть решает интеллигентных людей подавить, устрашить, и если понадобится, то истребить. Интеллигентным людям война объявляется не на жизнь, а на смерть: либо в тюрьмах сгниете, с голоду перемрете, либо покоритесь вооруженной руке. Вернее сказать, война продолжается: ведь и в тюрьмах гноили за каждое слово, и голодом морили, и вооруженная рука всегда наготове была, ведь и для русских царей интеллигентный человек всегда представлялся якобинцем, первейшим врагом.
Первым делом интеллигентным людям не дают говорить. Отменяется прежняя свобода печати, когда тоже говорить дозволялось вовсе не всё, но когда запасы бумаги и всё типографское дело все-таки находилось в частных руках и кое-какие запретные мысли кое-как можно было протиснуть в печать. Объявляется новая, более полная свобода печати, когда все запасы бумаги и всё типографское дело поступает под строжайший контроль новой власти и когда никакого запретного слова уже никуда протиснуть нельзя.
Благодаря этому новшеству на помощь слухам приходят газеты, окрыленные новой свободой печати, и тут уже волосы дыбом встают, не держит несчастные волосы никакой бриолин. Газеты, попавшие под строжайший контроль новой власти, именуют интеллигентных людей не иначе, как прихлебателями, слякотью и черт знает чем. Газеты призывают очистить русскую землю от насекомых и паразитов, разумеется, вредных. В первую голову от тунеядцев и саботажников, которые себя именуют интеллигентами. Другими словами, предлагается поскорее избавиться от инженеров, агрономов, экономистов, статистиков, профессоров, литераторов, учителей и врачей. Для столь возвышенной цели надлежит использовать карцер, принудительные работы, унизительный желтый билет. Вообще использовать надо всё, что взбредет в революционную голову, осененную, вместо разума, революционным чутьем. Начинать же следует с патриарха, непременно с него, чтобы, так сказать, вышибить дух, духовную опору у интеллигентного человека отнять, который, правда, в Бога и патриарха верит очень посредственно, однако с духовной опорой сильней Геркулеса, а без духовной опоры пигмей. Что ж удивляться, что спустя самое короткое время патриарх попадает в ЧК.
Итак, истребление русской интеллигенции предрешено.
И Михаил Афанасьевич чувствует каждый день, каждый час в своей тихой Вязьме, что занесен над ним нож и что в любую минуту этот нож вонзится в самое сердце, распорет живот. Много ли надо для тех, у кого на месте разума и закона чутье? Ничего им не надо. Он бреется каждое утро бритвой «Жиллет», у него превосходный пробор в волосах. Как не шлепнуть такого субъекта, саботажника и тунеядца, даже если саботажник и тунеядец с утра до вечера в уездной больнице торчит? За больницу и шлепнут в первую голову, если в больнице кто-нибудь ненароком помрет. Сколько раз и в благословенные времена гражданского мира, законности и тишины слышал он у себя за спиной краткое обещанье:
– Убью!
Безысходность. Тоска. По ночам город Киев снится в море белых огней, милые лица, раскрытый рояль. Совсем неприметно проскальзывает в этом году Рождество. Кому придет в голову в такую-то пору славить рожденье Христа? Уже Новый год подступает. Тридцать первое декабря. Тася стряпает что-то, слышно, как то и дело посуда на пол летит. Он сидит в своем кабинете. Сделал укол. Пишет Наде письмо. Беспорядочно пишет, как приходит на растревоженный ум:
«Дорогая Надя, поздравляют тебя с Новым годом и желаю от души, чтобы этот новый год не был бы похож на старый. Тася просит передать тебе привет и поцелуй. Андрею Михайловичу наш привет…»
Укоряет сестру, что не пишет, что адреса своего не дает. Делится своим беспокойством о маме:
«Я в отчаянии, что из Киева нет известий. А ещё в большем отчаянии и оттого, что не могу никак получить своих денег в Вяземском банке и послать маме. У меня начинает являться сильное подозрение, что 2000 р. ухнут в море русской революции. Ах, как пригодились бы мне эти две тысячи! Но не буду себя излишне расстраивать и вспоминать о них!..»
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?