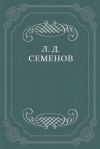Читать книгу "Совесть"

Автор книги: Валерий Есенков
Жанр: Историческая литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Николай Васильевич сгорбился, сделал два-три нерешительных шага, пошатнулся и судорожной рукой попридержался за кстати подвернувшийся стул.
Перед глазами всё помутилось, поплыло.
Он постоял, коротко, часто дыша, пока наконец сквозь эту мерзейшую муть не прорвалась, не протащилась здравая мысль, что с его слишком пылким, слишком подвижным воображением всякие игры опасны, что воображение, оставаясь так долго без дела, рождает нелепые образы и что по этой причине за ним надобно неотступно, строжайше следить, занять его чем-нибудь. Приструнить хоть какой-нибудь бесцельной, праздной работой.
Беда была в том, что не мог он теперь заниматься ничем посторонним. Лишь одно кипело, лишь одно нарывало в душе, лишь одним были заняты все его мысли.
Он шагнул, добрел кое-как до стены, сам не зная зачем, прислонился к ней машинально плечом и неловкими пальцами распахнул вдруг удушливо стиснувший ворот просторной рубашки, которая минуту назад была ему велика, до того он в последние дни исхудал. Колени мелко по-стариковски дрожали и гнулись, губы тряслись, как тряслись бы от прошедших рыданий, хотя он не рыдал.
Стыд-то какой, он не делал решительно ничего, ему нечем было занять свой сосущий, тоскующий, скудеющий в позорной праздности ум.
Сделалось даже думать о чем-нибудь тяжело, и откуда-то выползали чужие, чудные, скользкие мысли, оскорбляя, унижая его.
Ни кола, ни двора, и негде укрыться на старости лет, уже давно, давно всё житейское сделалось ненужно, безразлично ему и вдруг сдавило смятенную душу его сожалением.
Он жил одиноко, на безлюдном Никитском бульваре, в скучной сытой Москве, где решительно все были чрезвычайно довольны собой. В двух комнатках угловых, направо, возле самых сеней, приютил его граф Александр Петрович Толстой, весь большой дом нанимавший у богатого мещанина Талызина.
В этих двух комнатках он заканчивал второй том «Мертвых душ» и не замечал да вдруг увидел, только теперь, как неприютно здесь было ему, неловко во всем. Крохотный кабинет, по которому не имелось возможности привольно ходить, как он привык, как хаживал на виа Феличе, 126, пришлось изуродовать ширмами и за этими грустными ширмами спрятать кровать. В другой комнатке полстены занимал широкий диван на высоких ногах, несколько в растопырку выступавших вперед. Овальный стол, кряжистый, похожий с медведем, который неловко топтался в тесной лавке посудника, страшась передавить сапогами хрупкий товар, решительно напирал на диван, как медведь.
Чужой дом, чужие стены, чужая случайная мебель. Уж лучше бы вновь примоститься у старого Челли.
Николай Васильевич едва держался на ослабевших ногах, всей тяжестью малосильного тела всё плотней приваливаясь к холодной, выходившей наружу холодной, зимней стене. Он досадовал на себя, что по милости глупейших фантазий не опустился сразу на стул, когда был рядом с ним. Теперь же он к стулу воротиться не смел, опасаясь свалиться не без грохота на пол: то-то сбегутся, то-то станут шуметь, то-то затискают и залечат его. В голове и без того звенело и пухло. И ночной темной мышью скребла скудная мысль:
«Невелик и тощ, а тяжел, не по ногам себе стал, да и ноги-то, ноги не те…»
Опасное, обидное таилось в этой изломанной мысли, и, вдруг заметивши это, он встряхнулся, отогнал дурацкую мысль и раздумался об ином.
Разумеется, было бы совершенно прилично литератору и домоседу собственное гнездо завести, согласно вкусам и свычаям, в особенности в Москве завести, где все литераторы расселились по родовым, а большей частью покупным, благоприобретенным домам, однако ж, с другой стороны, приют у друзей хорош тем, что относишься к нему как к приюту, и тогда оказывается несколько сносно и то, что в собственном доме не стал бы терпеть, так он и ютился всю жизнь у друзей, кто возьмет приютить, да вот потянуло, тоже, верно, с безделья, на собственный домишко окошка хоть в три, что сделалось всё неудобно, этакий грех.
Попрекнувши себя порядочным образом, он сделался духом бодрей, однако по-прежнему едва держался на дрожащих ногах.
Ему ли такого рода желанья к лицу? Всего себя отдал он на служение общему делу обновлению и очищению погибающего в тенетах стяжания человека, доброй волей взвалил на себя мирское, мало почтенное звание литератора и служил в этом звании не добывания почестей ради, не в жажде горячих благодарственных слов и блестящих мишурным блеском наград ни от кого из людей за труды, суета эта не прельщала его, но, как святыню объявши свой долг, переносил невзгоды, свое место и звание не оставлял, какие бы ни валились на его бедную голову поношения, не переносимые для обыкновенной человеческой гордости, памятуя только о том, что не для себя, не ради ублажения своего самолюбия, но единственно ради счастия ближних занял он свое место и звание и не для удовлетворения своей суетной гордости, которая имелась, к несчастью, имелась и у него, а для блага других, для блага неведомых братьев своих должен он на этом месте и в этом звании пребывать, не ради признательности от грешного мира сего, не ради громкой хвалы досужих и праздных, но ради Христа, представшего перед ним в образе пребывающих в заблуждении, в грехе и пороке, безмолвно молящих, простирающих руки, изнуренных бесплодными простираньями, потому что не видят пути к Нему уставленными в одно земное очами. Так что ж он теперь? Ему ли не перенести испытаний и не пройти свой горестный путь до конца?
Приютившись кое-как попрямей, поправивши повлажневшие от нахлынувшей слабости волосы, бесформенными клоками упавшие на лицо, он для рассеянья, для отвлечения попытался думать о том, отчего перед утренним промерзлым окном призадумался и припомнил светлую улицу вечного города Рима, припомнил старого шельмеца и простеца Челли и двух беспечных молодых водоносов, которые единственно ради своего удовольствия смешили друг друга, поставивши на землю блестевшие как будто росой ушаты воды, которую набирали, как и он, из фонтана. Он убедился давно, что перемена в мыслях могла принести облегченье и направить душу на добрые, такие всегда необходимые чувства. Закусив губы, терпеливо собирая себя, он через силу восстанавливал зыбкую нить случайно расшевелившихся представлений, внезапно сцепившихся так, что прошедшее, озарившись будто улыбкой неизвестного друга, внезапно воротилось к нему, куда-то увлекая, призывая, маня.
Всё, должно быть, произошло оттого, старательно, терпеливо нащупывал он, что он бездельно, без мысли и цели торчал у окна, когда слегка порасчистилось зимнее мглистое небо, вдруг приоткрыв свою бирюзу, а желтое солнце скользнуло к нему за двойное стекло, и этому запоздалому зимнему солнцу он невольно подставил лицо, сладко поприщуря глаза, а в зябкую спину потянул слабый жар недавно растопленной печки, и этот ещё легкий, ещё нерешительный жар, и это неяркое желтое солнце, какое случается в этих широтах на исходе томительно долгой зимы, и легкое круженье, тихий звон в голове, и забвенье того, что ему предстояло свершить, и от этого постыдного забвенья наступившая легкость перенесли его вдруг в чудный мир ненаглядного Рима, где так славно, сладко жилось, где так смело, так безоглядно творилось, точно он погружался в фантастический призрачный сон, где изведал он лучшую пору своей краткой, как молния, жизни.
А за окном стояло зима.
Зима всегда была ненавистна, невыносима ему.
Николай Васильевич прошептал:
– О Рим! Уже никогда-никогда не ворочусь я к твоим великолепным руинам…
И опять в глазах засияло бездонное синее-синее римское небо. И опять в том недосягаемом небе повисло огненное огромное солнце. И опять зарозовела вдали дымная нежность альбанских чарующих гор. И опять вверх, как свеча, летел кипарис. И красавица пиния тонко и чисто рисовалась плывущей в прозрачный воздух вершиной.
– О Рим…
Так горько, так тяжко мыкалось ему на родной стороне. Решительно встали против него все умы, все сословия, все состояния. Язвительный Герцен, умница, талант несомненный и резкий, в отступничестве его обвинил, в ренегатстве. Ядовитый Булгарин оплевал его в своей продажной «Пчеле» с подозрением приглядывались к нему. Самые близкие из москвичей с подозрением приглядывались к нему, точно не решались верить ни одному его из самой глубины души идущему слову и пытались всё подглядеть, угадать, не морочит ли ловко почтенную публику и что там в самом-то деле у него на уме.
Любая брань бы ему ничего, брань даже бы и хорошо, поскольку всякая брань ему на потребу. На твердость, на силу пера, однако до чего ж глупо, до чего ж дико, нелепо трактуют всё то, что сказано им горячо и правдиво, из самой души.
Может быть, всё ещё говорится им неправдиво. Не из самой души? Может быть, душа ещё не чиста?
Что ж в таком случае делать ему?
Вот наконец, наконец завершил он второй том «Мертвых душ», завершил почти месяц назад, Три десятка черепахой ползущих один за другим непрерывно мучительных дней. Все одиннадцать плотно исписанных толстых тетрадей шероховатой прочной белой бумаги, по количеству глав перевязаны надежно скрученной нитью и уложены в свой старый побитый потертый дорожный портфель и заперты в сумрачно молчаливом шкафу.
Шаг оставался последний – обречь поэму под печатный станок и дать её в безучастные, безразличные руки немногих людей. Друзья и враги, книгопродавцы и почитатели, может быть, всё ещё ожидают её, но только они, на других читателей он рассчитывал. Он бы хотел, чтобы её ожидала, но ожидает ли вся ненаглядная Русь?
И вот он был не в силах отдать и обречь, он всё сомневался, всё сомневался все эти бесконечные глухие темные зимние дни, что заслужил он неоспоримое, полное право спокойно, а лучше бы радостно выпустить из рук дорогой, ненаглядный, измучивший его манускрипт, может быть, вновь обреченный гуще людей на распятие, как в прошлый, незабываемый раз.
Он так и шатнулся при одной мысли о казни и грузней привалился к холодной, прокаленной морозом стене. Он бормотал бесприютно, бессильно, неразборчиво и кто и что и о чем говорит:
– Тощ-тяжел… тощ-тяжел… тощ-тяжел…
Горькая улыбка едва тронула измятые губы, может быть, оттого, что Николай Васильевич сразу и вдруг возвратился на ту римскую Счастливую улицу, вновь разглядывал старого Челли. Однако что это, что? На этот раз худая фигура беспечного пьяницы внезапно поразила его очень смутным, далеким, предосудительным сходством с Матвеем, старшим священником церкви во Ржеве, круглолицым, бородатым и плотным, у которого часто просил наставлений и от которого просимые наставления получал с вдохновением и даже в избытке.
Ну какие же между ними могли завертеться подобия? Помилуй, люди добрые, взор! Решительно, решительно никаких. Он и не сомневался, он тверже твердого был убежден, что между такого рода людьми, даже поставь их рядом, вытащив как-нибудь из Рима и Ржева ни малейшего сходства не было, не было и быть не могло, даже во сне!
Широко, открыто улыбался беззаботный старик, итальянец, беспечный владелец доходного дома, грешный, земной, с земными заботами, с земными же прегрешеньями, и нахмуренный, строгий Матвей, весь ушедший молитву, безусловно, без поблажки отринувший искушения плоти, презревший земное во всех его обликах, с удивительной, никогда не слабеющей страстью, с упорством бежавший любого греха, не улыбнулся, казалось ни разу, даже в младенчестве, презрительным и угрюмым был непрестанно его леденящий, испепеляющий взор.
Однако же вот, что-то между ними замерещилось удивительно схожим, одинаково чуждым, ненавистным ему.
Оттолкнувшись плечом от стены, машинально одернув ставший слишком просторным сюртук, точно предстояло выйти к досужим гостям или, что хуже, к исподтишка любопытным гостям, явившимся вынюхать, разузнать, настроить кучи догадок и разнести по Москве, Николай Васильевич нерешительно, неуклюже затоптался на месте, пытаясь согреть хоть немного иззябшие ноги, которые холодом вдруг некстати напомнили о себе.
Что может быть упоительней страсти узнать человека? Что может быть опасней и тяжелей для истомленной смятеньем души? Что может быть неотвязней, прилипчивей, чем эта врожденная, Богом данная, в наказанье или на счастье, беспокойная, никогда его не покидавшая страсть?
Вот не было печали, а он должен, настоятельно должен это невероятное сходство без промедленья изъяснить сам себе и когда-нибудь вставить в поэму, где-нибудь к середине третьего тома, как он уже разворачивался в довольно развернутых сценах!
И тут же украдкой, воде бы тенью скользнула тихая мысль, точно он уже всё разгадал до самых темных корней, что не так он и страшен, угрюмый Матвей с его рокочущим басом, каким хочет казаться и даже кажется чуть ли не всем.
О, если бы его отгадка этой загадки была справедливой и верной!
Тогда, может быть, и всё прочее было не так, как последнее время мучительно-больно представлялось ему, может быть, всё возможно и можно решить по-другому, отложить, отодвинуть на время, единственно ради того, чтобы спокойно, во всех подробностях разобраться и решить, что делать с поэмой, а значит с собой.
Он задумался глубоко и тревожно. Слабость истощавшего тела, кажется, проходила, по малу, шажками, но проходила. Он оборотился спиной к позамаслившейся в этом месте стене, крепко обхвативши застылыми руками бока, притопывая то левой, то правой ногой, заставляя согреться. Тут он увидел Матвея, каким грозный Матвей взошел к нему при последнем свидании, случившемся здесь же, в этих двух тесных комнатках, в сумерки, дней, пожалуй, с десять назад, при слабом свете одинокой свечи.
Ряса обтерта, обношена. Большой давно нечищеный медный крест на обтянутой черным груди. Седеющие светлые, чуть рыжеватые волосы, в беспорядке разбросанные по широкой спине и плечам. Темные провалы огнями сверкающих глаз на изнуренном изжелта-бледном лице. Тяжелые мужицкие руки. Ничего приметного, яркого, своего. Что тут общего с легким, подвижным, вечно смеющимся итальянцем в щеголеватом зеленом распахнутом сюртуке с оттопыренными карманами, в которых частенько ютились бутылки, в опрятных желтеньких, когда-то модненьких панталончиках, а ныне утративших было блеск и моды и новизны, с веселыми глазками и воркующим тенорком? Чего стоил этот пылающий яростью взор!
И всё же…
Он опомнился вдруг, отмахнулся, резко оборвал свою часто капризную, странную мысль, заподозрив, что лжет сам себе, должно быть нарочно, лишь бы помедлить ещё, не сразу решить, возводя и на того и на другого напраслину по лукавости даже от себя самого скрытых желаний, тогда кА, может быть, было бы лучше всего для поэмы, для него самого, если бы Челли оставался в Италии со своей бутылкой вина и чистой и светлой в его неподкупных глазах светилась и возвышалась стоическая душа иерея. Тогда он стал бы спокоен и тверд, без малейшего сожаления спалил бы, по уверенью Матвея нечестивые, а на самом деле не везде удачные, на своем месте стоящие строки, а там либо воскрес бы к новым свершеньям или с твердым сознанием немощи, слабости и, пусть так, непотребности замысла и пера затворился бы в монастырь, где грешным и страждущим предоставляется благая возможность замаливать тяжкие грехи перед Господом и, отчасти, перед людьми.
Переступая, сначала на пятки, потом на носки, по-прежнему не чувствуя на ногах закоченевшие пальцы, он с угрозой, твердо сказал:
– Это вздор, это вздор, оставьте меня!
Тряхнув головой, круто поворотился налево и живо пошел, жестикулируя на ходу, повторяя, передразнивая кого-то, убеждая себя, что не должен он, не имеет он права, что ему ни в коем случае нельзя отступать ни от замысла, ни от пера, однако уверенность никак не давалась ему, не верилось сердцем, что на верном пути, что не должен, не имеет права отступить, на самом-то деле предать, и тут же урывками размышлял о Матвее, о Челли, о вечном городе Риме, о сварливой Москве и всё хотел достоверно, окончательно установить, горячо ли, правдиво ли им сказано то, что слово за словом вложил в одиннадцать новых глав «Мертвых душ», от чистого ли сердца вошло, вырвано ли прямо из жизни живой, не придумало ли в обольщении, не вымучено ли там и то и другое, что как-нибудь там, от нечистого, ни повыскреблось сомнительного, даже дрянного из-под притупленного и уже часто, часто спотыкавшегося пера.
Сомнения он прогонял, как умел, читая молитвы, однако сомнения возвращались толпой, точно стая голодных собак, разрастаясь, как грозовые грозные черные тучи разрастаются в зной над раскаленными за день степями. Противоположные чувства в непримиримом раздоре сцепились в душе, не отпуская друг друга, как два обреченных на смерть врага, которые держат друг друга за горло у карая скалы, так что если один полетит, так и другой свалится непременно за ним: он переживал глубоко, иступленно и безумное счастье наконец– то оконченного труда своего, и безумную боль неудачи, он одинаково верил и в свое нешуточное окрепшее зрелое мастерство и в постыдное неумение пользоваться своим мастерством, как замыслил, на верное благо ближних своих, потерявших под ногами тропу, он с одинаковой убежденностью знал, что именно он своей самой искренней правдой, настоявшейся густо в его одиноко страдавшей душе, кем-то призван озадачить и возродить великое множество тех, кто опрометчиво позабыл о душе, о ее прямом назанчении жить в любви и добре и кто по этой забывчивости погряз глубоко в земной суете, что именно он обречен звать к достойной, истинно человеческой жизни без гордыни, без лени, без лжи, как не сомневался и в том, что именно он, по слабости истощенных, источенных, когда-то в юные годы на многие побрякушки и глупости разбросанных сил, не способен вытолкнуть это великое множество душ из наезженной колеи, он страдальчески себя убеждал, что всё, что ни есть на земле, устроено высшей благостной силой на благо и поучение всем, и непоколебимо был убежден, что так не может, так не должно, что так позорно так жить, ка эта смутная жизнь завелась на беспутно кружившейся и всё же великой Руси. Одна мысль сменялась другой, одно чувство едва возникало, как тотчас с той же страстностью, врывалось другое, так что мысли ми чувства терзали друг друга, не зная пощады, и ни одной мысли, ни одному чувству никак не давалась победа.
Его истощила эта борьба. Его жизнь превратилась в мученье. Ему необходимо было хоть какой-нибудь выход найти, однако едва лишь удавалось нащупать подходящую дверь, как только он жадно хватался за медную ручку ее, чтобы с силой потянуть на себя, как обнаруживал на той стороне беззубую жадно ждущую смерть.
И жить он с этим адом не мог, и не хотел умереть.
Он вдруг встал, точно натолкнулся на стену, стиснул ладонями смятенную голову и охриплым болезненным голосом страдальчески
Вымолвил то, что выносил, что испытал на себе:
– Писатель современный, писатель комический, писатель испорченных нравов должен от родины находиться вдали, ибо славы пророку в отечестве нет.
Стены комнаты отступили и смазались. Вместо стен на него наползали знакомые тени. В растревоженной памяти всплывали горькие речи. В уши так и бились слова:
– Отдай мне!
– Вы измените правде, и ваше искусство погибнет!
– Мозги набекрень!
– Твои знакомые меня встречали вопросами, правда ли что сошел ты с ума, вот они как о тебе!
И все эти речи надо было отшвырнуть решительно прочь, и тогда можно было бы снова идти своей тесной, своей неприютной, непроторенной тропой и с горячей любовью попытаться высказать людям всё то, что в своей душе выносил за эти десять тяжелых страдальческих лет и не думать о том, каких ещё гадостей, браней, паскудств накричат и нашепчут ему, вызвавши на пристрастный, неправедный суд не поэму его, а его самого, беззащитного автора, однако ж он с тревожным упорством всё искал и искал, что было правдой и в этих, может быть, слишком пылких, слишком поспешных, может быть, и облыжных речах, потому что всюду правда была, и по этой причине не способен он был этих глумливых речей отшвырнуть, не в силах был улыбнуться победно, хотя победил, и лишь еще больше понурился весь, и беспомощные глаза печально глядели перед собой.
В самом деле, какое право имел он так высоко апомышлять о себе? Разве они – не та же гордыня? Какой он в самом деле пророк? Ему ли браться воспитывать многих, когда до сей поры не воспитал чередом и себя самого? На что же, на что же решиться ему?
Скорбно сжав рот, подергивая нижними веками, Николай Васильевич бесшумно двинулся дальше, точно скользила по комнате чья-то неуловимая тень.
Разумеется, очень и очень о многом знал он получше других, видел пристальней, видел верней, не шутя понимал и глубже, пронзительней охватывал мыслью, убедиться в истине этого мнения слишком пришлось уже множество раз, однако это ли знание – главнейшее свойство пророков и тех, кто призван громкое слово сказать?
Нет, помилуйте, пророки ему представлялись иными. Всех смертных своих современников пророки превосходили не грозной силой ума и, уж конечно, не многим познаньем, иные не ведали почти ничего из того, что знал наизусть заурядный университетский профессор, замучивший не одно поколенье студентов, не сумевших ничего унести от него, тогда, как неодолимой, всех и вся заражающей силой пророков была несокрушимая вера в свою правоту, была честность кристальная, была незапятнанная ничем чистота. Истины не искали они. Они без сомнений, без колебаний знали её. Истина сама собой открывалась твердой вере и святости, им одним, и, может быть помимо ума.
А он-то? Лучше ли, непорочней ли, чище ли многих беспутных, осквернившихся своих современников? Разве не добывал он истины в муках? Разве сама собой представала она изнуренному в поисках, доходящему до отчаянья сердцу?
Глухо и сумрачно стало на исхудалом лице, и обмякли беспомощно острые плечи.
Однако Господь послал же ему этот истинный дар насквозь проникать чужие, для иных и прочих закрытые наглухо души?
Это правда, несомненная правда, Господь послал ему этот истинный дар, и по этой причине свою душу он тоже видел навылет, и по этой причине никак не мог увидеть в себе иных черт несгибаемого пророка, даже без сомнения зная, что он в самом деле пророк.
И выходило по смыслу терпеливых раздумий и горьких сомнений, что справедливы те грозные речи, и не могло правдой не быть, что пишет он сущий вздор, способный забавлять и смешить, не западая, как гвоздь, в самодовольные души, а после этого, что ж ему остается на свете?
Он все колебался, он все искал, он все последней правды не в силах был отыскать о себе, а нужнее всего была нужна ему эта последняя правда.
Ну, положим, он издавна обнаружил в себе, что получил много, даже слишком много от Бога, однако эта высшая милость разве предоставляла право на самомнение, на гордыню или на то, чтобы взять от жизни хотя бы на песчинку побольше других? Решительно нет, высшая милость особенных прав не дает! Кому много дано, с того много и спросится, и он много и спрашивал сам, прежде, чем спросят с него, добиваясь понять, много ли лучше других, благородней и чище, возвышенней духом, и, придирчиво, пристально глядя в себя и так же придирчиво, приидругих, если не наихудший из всех, и потому всё, что ни выпало на долю его, он должен терпеливо сносить как должное и справедливое наказание. Всё!
Однако именно мысль, что он наихудший из всех, позволяло надеяться сделаться лучше, и, может быть, по этой причине он был далеко не хуже других, возомнивших, что они и выше и чище других, может быть, он просто-напросто ужасно устал, как всегда уставал от большого труда, который недаром же называл рвами страждет душа, и оттого-то так тяжело, что не ведал, не находил, куда себя деть, как позабыть себя хоть на миг?
Может быть, он всего-навсего болен, может быть духом от усталости изнемог, оттого и не находит нигде и ни в ком утешения, даже у Бога?
Господи, не перед людьми, а перед Тобой должен быть истиный путь наш, и если мы чисты, если хотя бы отчасти правы перед Тобой, кто из людей может нас опорочить и заклеймить поганым клеймом наше честное имя? А скорби? Но уже если сам Ты сказал, что душа очищается только скорбями, как же нам оказаться без них? Где же величие духа показать человеку, как не в минуты невзгод? Скорби повсюду, все скорбят, на кого ни взгляни. О, спаси, укрой, осени щитом Твоей святости, проведи сквозь эту ничтожную, пугающую тревогу цело и здраво, со внесением богатых сокровищ в испытанную бедами душу!
Бедная мысль не сидела на месте и металась, как он. Дого он думал, что последнюю правду о нем знает служитель Господу, каким всегда был Матвей, в это верил, и грозного слова с трепетом ждал, и дождался на днях, а этот суровый служитель Матвей чем-то вдруг выходило, оказывался похож на беспутного старого Челли.
«О, как нам нужно глядеть и глядеть ежеминутно в себя!
Многого и многого мы в себе не видим, и почти всего, что в нас дурного есть. И благо тому, кто сидит над трудом, который невольно способен несколько освятить человека и, оторвавши его от всего, что кружится во вне, обратить на себя самого…»
Его растерянно блуждающий взгляд, случайно задержался на старом, покоробленном, из парадных покоев, убранном шкафе, который многозначительно, молча дремал в тесном простенке между двумя невысокими окнами. Отливая темными стеклами, уставилась на него глухая бесчувственная коробка из дерева, притаилась, словно бы ожидая чего-то. Были наглухо сомкнуты крепкие створки, хранившие его оконченный, многозначительный труд, но и сквозь них он вдруг явственно завидел огонь.
Николай Васильевич отворотился поспешно и закрыл руками лицо.
Не видеть бы ничего, не думать, не знать.
Он готов был к любому исходу, однако там, под замком, таился его завершенный и как будто всё еще не завершившийся труд, и что при худшем исходе может статься с его ненаглядным, любимым, в слезах и муках рождавшимся детищем?
В нем вдруг пронеслось:
«Неужели сегодня? Неужели конец?..»
Но он по-прежнему жил и страдал, и жизнь с извечным упрямством мечтала о бесконечном продолжении жизни, и не успел он решить, что именно нынче свершит, как слепая надежда робко затлелась в душе, нашептывая ему, что возможно еще всё переделать и тем, не подвергнув себя испытанию, что-то наладить еще, передвинуть, перерешить.
Ему бы собраться в дорогу, увязать свой дорожный мешок, сложив туда щетку да крем для волос, натянуть сапоги на медвежьем меху, поплотней завернуться в жаркую шубу.
И зашелестел, заспешил одинокий, печальный, чуть слышимый, однако отчетливый голос:
– Долго ли наделать самых глупых ошибок, когда засидишься на месте? Дорога так же необходима, как хлеб. Уж так странно устроена голова, что нужно вдруг иногда пронестись несколько сотен верст и пролететь расстояние, для того чтобы одно впечатление менять на другое, духовный свой взор уяснять и быть в силах обхватить и обратить в одно то, что нам нужно, что необходимо душе. Не говоря уж о том, что из каждого угла чужих стран взор наш видит новые и новые стороны бедной России и себя самого и что в полный обхват можно обнять ее, может быть только тогда, когда оглядишь всю Европу. Дорога освежает тело и дух. О, если бы и теперь всемилосердный Господь явил надо мной свое безграничное милосердие, столько раз уже явленное, когда я думал уже, что не воскреснут истаявшие силы мои, и не было, казалось, физической возможности им воскресать! Но воскресали они, и свежесть вновь вливалась в душу мою! О, если бы и на этот раз силы и свежесть воротились ко мне! Иногда так необходимо бывает сняться и сдвинуться с места, когда заслышишь душевную потребность к тому. Тогда бывает тяжело без дороги и может окончиться тяжкой болезнью. Вот что иной раз бывает для человека дорога.
Еще два года назад…
Полно, два ли года?…
Словно бы уже целая вечность пронеслась и былое кануло в Лету.
Остановясь, склонив голову, он скривил в сомнении губы и с раздумьем подергал кончик острого носа, точно бы на одну только эту потребность и данный ему.
Впрочем, к чему и какие могли быть сомнения?
Он подвинулся несколько в сторону, спиной приладился к краю стола, точно присел на него, готовясь с удовольствием вспоминать, говоря сам себе:
«Хорошо же, вот тебе будет дорога!..»
Перед самой Москвой стряслась с ним неизъяснимая, странная и вместе с тем обыкновенная дорожная встреча, каких он с уловками хитрыми, с всевозможным старанием сторонился всегда, не желая навлекать на себя ни внимания, ни тем более праздного любопытства, и какие ужасно любил, когда они завязывались как-нибудь сами собой, позволяя оставаться в тени, однако же выставляя перед ним всего человека, каков ни на есть, каким вылепился в глуши и мохом оброс в своем уголке.
Утром позадержался он в Туле. Кривоногий смотритель, выставит круглый живот, точно щит, самым решительным голосом объявил, что нет лошадей.
Заслышав этот решительный голос, он даже поверил ему, Что ж, можно было и подождать, не все же лететь, как стрела, в пыли и под гром бубенцов.
Он напился чаю в Петербугском трактире, прошелся окрестными улицами, полными пыли и лохматых бездомных собак с репьями на поднятых кверху хвостах, и воротился в трактир, не обогатившись ни одним наблюдением, так что начинал понемногу сердится за то на себя, что прахом пустил еще один день, раскутился, словно дни для него не имели числа и цены.
Лошадей по-прежнему не было, что скорее всего говорило о том, что ожидался проезд генерала. В трактире тоже не было никого, хотя время неторопливо подбиралось к обеду. Обедать ему пока не хотелось. Погадав, погадав, не отобедать ли все же на случай, что, чего доброго, не остаться голодным, если вдруг подадут лошадей, не справляясь с его аппетитом, или повременить, поскольку, уж когда натолкнулся в дороге на неудачу, так теперь долго не подадут, да еще в самом деле не наскакал бы какой-нибудь генерал со своей подорожной, которой открываются даже те лошади, каких, казалось, и вовсе не существовало до генерала на свете, он стал бродить туда и обратно по чистому, еще влажному полу, присыпанному опилками, еще пахнувшими смолой, опустивши голову несколько набок, заложивши руки назад, обдумывая начинать ли тотчас печатать все, что написалось в Одессе, слыша, что слишком желалось именно этого, точно бы поскорей развязаться да к третьему тому приступить готовить себя, времени жизни остается все менее, того гляди отправишься в путь, не довершивши труда, или пообождать, отправиться, как мечталось в Одессе, навстречу Жуковскому, послушать его, хотя и не самого верного, не самого разумного, но все же глубокого и чуткого слова, от которого всегда отыщется поучиться чему, да порассмотреть все написанное еще раз до последней строки, да пообдумать, повзвесить, мало ли что, и от этих двух мнений, которые никак не уступали друг другу, подобно баранам, уткнувшимся лбами, задымилась и заклубилась в душе безысходность, от которой никуда не сбежишь, хоть беги во всю прыть.