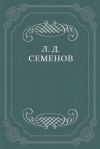Читать книгу "Совесть"

Автор книги: Валерий Есенков
Жанр: Историческая литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
И вновь отодвинул, подлец! Усталому автору надобно, изволите видеть, пуститься на юг, холодновато в Москве, то да се, без него сестренка жениться не в силах! Да что юг! А в самой-то Москве? Разве как должно трудилось в бестолковой первой столице? Тоже поизрызено перьев…а дело всей жизни…Ведь именно дело всей жизни, ведь хоть это-то он сознавал! Однако ж и сознанье того, будто вершит дело жизни, уже не подвигало его беспрестанно вперед и вперед!..
Нет горше и верней доказательства истины, в какой он барахтался сточной канаве, в какой он завалялся грязи. Пороки, небрежение, лень забрались и со всех сторон одолевали его!
Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива!
Он кривился и мотал головой. Что-то взлохмаченное моталось по мутной округлости самовара. Он с болезненным удовольствием уставился на изломанное свое отраженье, с мстительным чувством размышляя о нем.
Что за рожа, Боже ты мой! Ну, Андрей совершенно Иванович, этот Тремалаханского уезда, беспримерный байбак, сукин сын!
И скособочился, чтобы выставиться еще отвратительней, чего и достиг: пятно на мглистой округлости давненько не чищенной меди, безобразно задергавшись, расплылось в ширину.
Хорошо… уже почти хорошо… однако ж можно и лучше…
В каком-0то самозабвении скорчил он самую мерзкую харю и вывалил, себе на горчайший позор, свой длинный острый язык, издевательски изворачивая гибкий, до ехидства насмешливый гаденький кончик.
Вот это так так, это было как раз!
Безвольный подбородок, бесформенный рот, бесцветное личико мозглявого испитого кретина, пустые глазенки какого-нибудь иссеченного бессердечным отцом идиота и эта груда волос, как будто у лешего, торчавшая дыбом.
Он увлекся, начиная принимать представленье всерьез, и все злоязычнее становились колючие мысли, какими себя он казнил. Уже становилось безоговорочно, абсолютно понятным, отчего никогда, то есть почти никогда, не трудился он по влечению сердца, а вечно заставляя себя, понуждая к перу, насилуя свою раскисельную волю.
Так все и было, конечно. Оттого-то иные годам к сорока обзаводятся собранием сочинений чуть не в сорок томов, а он кое-как вытащил из себя четыре жалкие томика и уже десять лет делал вид, что созидает, творит величайшую поэму свою, а в действительности отлынивал от нее все десять лет, пользуясь самым малым, малейшим предлогом, отлынивал и без предлога, ноги иззябли, насморк, желудок шалит – что за нелепый предлог!
Этакой шельме следует быть посмирнее!
Отложивши тетрадь, он самым тихим, самым кротким, самым непритязательным голосом попросил переменить самовар, чуть не отвесивши низкий поклон, так что широкотелый служитель трактира смерил его съеженную фигуру презрительным взглядом, нехотя принял за черные ручки остывший уже самовар и неспешно, словно нарочито замедленно вытащил вон.
Так же тихо и кротко, в ожидании чая, обошел он кругом грязноватую залу, разглядывая низкий, в мелких трещинках потолок и серые стены в водянистых потоках, в брызгах вина.
Отвращение так и толкнуло его. Ему хотелось воздуха, света. Все еще сохраняя крайнее смирение наипоследнего грешника, подступил он к окну, за которым ковыляла неспешно, с ленцом, обыкновенная русская жизнь.
В этой жизни пристрастно, настойчиво, пристально отыскивал он уже много лет, с той самой минуты, когда приступил ко второму тому поэмы, что-то живое, одушевленное, свежее, хотя бы один единственный слабый намек, который надоумил его, позволил наконец разглядеть, угадать, уловить обострененным чутьем, что она все вертиться, переменяется, пусть хоть нехотя, туго, с трудом, однако ж повертывается куда-то, уж если не прямо вперед, как мечталось ему, так хоть в сторону, лишь бы не стыла прогнившей колодой на одном и том же истоптанном болотистом месте!
Ему слабейшей черточки бывало довольно, чтобы в дживых подробностях воскрешать картины настоящей, прошедшей или будущей жизни, ему случайной встречи в пути доставало подчас, чтобы выступил быт и нравы сословия, он по нечаянно заслышанной фразе умел отгадать настроение, образ мыслей, а подчас и отношения между теми, кто говорил.
Ему бы хоть слабую тень от намека!
И он с неистовой жадностью впивался во все, что ни попадало в жизни навстречу, всякую черточку, шапочное знакомство, бурчливое восклицанье, несколько мелкой дробью просыпанных слов, и с замиранием сердца, тревожно, взволнованно ждал: вот наконец, наконец перед взором его обрисуется то, что до сей поры виднелось ему лишь в одной пылкой фантазии сочинителя, в воображении желавшего послужить благу отечества, в мыслях сознавшего свое собственное ничтожество, в мечтаньях того, кому нестерпимо смердело это ничтожество и кто усиливался сделаться лучше, хотя бы самая слабая тень, хотя бы всего только тень от промчавшейся тени, и не было бы границ его счастью, и с самой стремительной скоростью полетел бы, окончился бы весь второй том, и о третьем можно бы было мечтать без боязни, и в бешенстве споро и с живостью подвигавшегося труда уже не мнилось бы снова и снова ему, что погряз в бесконечных в неистребимых грехах.
Это он знал, в этой истине тверже стали был убежден, и в кратчайшие миги страстного ожидания или мелькнувшей удачи все воспрянувшее его существо наполнялось безоговорочной верой, что нет на нем, что и быть на нем не могло никакой, ни малейшей вины, что это какие-то чуждые, посторонние силы несметными глыбищами громоздятся на трудном, взгорном, каменистом пути, который избрал, и вдребезги разбивают его вдохновенье.
С такой-то жадностью выглянул он из окна и в то же мгновенье преобразился: птичий нос сделался вдруг любопытным, осмысленным, ищущим, как будто сгоравшим от нетерпения повынюхивать кое-что, лоб изгладился от глубоко залегавших морщин, из-под коротких ресниц стремительно сверкнули на свет Божий глаза.
Но уже через миг вновь он поник, помрачнел, решительно не увидевши ничего из того, чего бы не видел тысячи раз: посреди площади торчал безмозглой дубиной вечный блюститель порядка, которого нигде тем не менее не видать, поодаль пробирался украдкой измазанный краской русский мужик, фризовая шинель уже вкривь и вкось валила из окрестного кабака, по разбитым камням мостовой нещадно скакали и скрежетали колеса, в давней луже, оставленной давно позабытым дождем, возились грязнейшие до самых макушек мальчишки, отовсюду лезли в глаза неопрятные стены домов, которые окрашиваются обыкновенно у нас лишь к проезду через город самого государя, а часто ли через города проезжает сам государь.
Он с брезгливостью отворотился и с хмурым опустошенным лицом принялся шагать от дальней к ближней стене, заложивши руки назад, уткнувши голову в грудь.
Темные мысли с новой силой набросились на него. Одно и тоже находил он вокруг, все и всегда одинаково, как и в вечные времена, а он-то как поступил, он-то оставил «Мертвые души», которые в живых образах… да что толковать!
Со скукой и нехотя отправился он присутствовать на свадьбе сестры, у теплого моря поискать вдохновенья, поболтать у Отона с радушными одесскими жителями, чтобы через месяц-другой, этак пообжившись, понежась, может быть, потихоньку приняться обдумывать, ну а там передумывать последнюю фразу пятого абзаца первой главы, на котором застрял, о чем, бишь, этот непобедимый абзац?
Он ненавидел себя, он ни сострадания, ни жалости к себе не испытывал, в его возмущенной душе бушевала одна неутолимая злость: оне, вишь, поиззябнут в добротном каменном доме с двойными, уконопаченными, на смерть оклеенными зимними рамами, оне позакоченеют вблизи натопленной печки, они позастудят ноги на претолстом ковре, к тому же несколько поослабли здоровьем, а поэма еще подождет год-другой, пока их благородие автор изволит пообогреться, проскакавши туда и обратно не то пять, не то шесть тысяч русских, никем не измеренных верст.
Так и напряглись от жала этих сарказмов, так и напружинились заложенные за спину руки.
Надобны каленые, жгущие, изрыгающие пламя слова, чтобы байбачество, а затем и непроходимую пошлость, рожденную этим байбачеством, выжигать без пощады, без жалости, чем ни попало, карикатурой, сатирой, надругательством, немилосердным попреком и, в особенности, уж давно и это сделать пора, примером жизни, а он сбежал из Москвы, перепуганный загодя лютыми холодами еще далекой зимы.
Он омерзительно-гадок. Он ничтожен и слаб.
Обнаруживши это, он с наслаждением обрушивал на себя обличенья, так что сделалось отвратительно видеть себя, так что пропало желание жить. Он бы голову расшиб о грязный камень стены, если бы втайне не верил твердо в себя, а что-то странное так и науськивало надбавить еще и еще, и он надбавлялся, находя самым полезным лекарством от собственной грязи это пачканье и топтанье себя, пока не дошел до предела: уже отвратительней, гаже, паскудней он и не знал никого, чем он сам.
Что ему оставалось?
Решительно ничего!
Оставалось всего без остатка переделать, наново перестроить себя, и внезапно в этой глупейшей дороге на юг обнаружилась благодатная цель: он проедет, он промается эти тысячи немеряных верст, чтобы еще поглубже в душу свою вперить внутренний взор и наконец обнаружить в себе самый корень неистрнебимых порок своих, а там, в благодушной теплой Одессе, он вплотную приступит к себе, ухвативши самый корень пороков и наконец поочистит себя, как добрый хозяин по весне очищает свой хлев.
Еще косоротясь от омерзения, с волосами, упавшими на лицо, он увлеченно решил, что, видно, придется начать с ничего, с ровного места, с пустой пустоты, ибо ничего здорового, доброго и живого в его душе не нашлось, как он ни впивался в себя.
Сначала возвращений на этот план не нашлось никаких, и он с ощущением первого проблеска света представил себе, какая несметная уймища самой тяжкой, однако же благодатной работы поджидает его впереди, чуть не тотчас за калужской заставой, едва минует шлагбаум. Его так и переворотило от богатырского размаха этой работы. Он изумился той смелости, с какой брался за любое гигантское дело, едва очерк этого дела представлялся уму.
Тут он почувствовал, едва приметно, еще слишком слабо, но все же почувствовал, что нет вовсе справедлив был к себе, что, должно быть, копошатся таки и в нем какие-то здоровые соки, которые не дозволяют отступиться от цели, где-то в неведомой глубине его существа таится некий несгибаемый стержень, если не махнул еще вовсе рукой на себя, как на безнадежно погубившего всю свою жизнь подлеца.
Ему начинало даже казаться, что позаигрался слегка и хватил-таки лишку в своем покаянии, подобно загулявшему на дороге казаку, заложившему в кабаке уже не одну только свитку и сапоги, но к ним и штаны. Должно быть, не в той мере он непригляден и черен душой, как размалевал сам себя, ослепленный страстью хулить. Видно, за чистую монету надобно принимать далеко не все укоризны себе, какие взлетают на ум и срываются с языка.
И он потрезвее взглянул на себя.
Тотчас кое-чему представились резонные оправданья. Главное, все решительней обозначалось в уме, что не открывалось возможности окончить поэму в Москве, поскольку Москва явилась тем городом, в котором умирало его вдохновенье.
Он спросил себя, как спросил бы любого другого:
«Что общего нашел ты во мне с омертвелой Москвой? Что похожего на бахвальство ее, которым так и пышет она, не думая сделаться лучше? Что похожего на увлечение новизной, в котором нового не больше того, как одни современные формы и мода? Что похожего на приличную пылкую пустоту ее праздномыслия? Разве во мне в самом деле столько байбачества, сколько скрывает она в ежедневной своей беготне, под видимостью наинужнейшего дела, разумея развитие мыслей о будущем, производство обширных бумаг, распространение бессмысленных предписаний бог весть о чем? Разве люблю я гомон ее бесконечных пи ров? Разве попираю кого бы то ни было чином и званием? Разве о себе одном помышляю в своих беспредельных трудах? Разве тревожусь несметно обогатиться, нажить себе экипажи, дома? Разве на первом месте во мне эгоизм? Разве не от московской нерастаявшей черствости пустился я наутек под предлогом лютой зимы, до которой неблизко еще? Разве пришла бы мне в голову мысль покинуть ее, когда бы я мог в ней предаться труду моему?»
Он с нетерпением ожидал возражений, однако помедлив с приличным достоинством, собеседник его согласился:
«Все это, пожалуй, что так…»
Вновь пораздумался и ухмыльнулся не без злорадства:
«И то, в своем отечестве не бывает пророка, ты иногда повторяешь эти золотые слова, но где ж это видано, что прозревавший века метался с места на место лишь оттого, что соотечественники слабовато понимают его и даже не понимают совсем?…»
И он, в свою очередь, пораздумался, перебирая в мыслях многославные жизни прошедшего, и нетвердо спросил:
«Разве Данте не был половину жизни бездомным скитальцем? И разве не метался по всей Европе несчастный Вольтер?…»
Собеседник его хохотнул, сверкнув шельмовато глазами:
«Ну, эти, с этими все может быть…А Шекспир? А Мольер? Или вот еще Гете в немецкой земле? Разве Гете метался из города в город, чтобы подыскать подходящее место, где бы благополучно окончился „Фауст“?…»
Пожалуй, довольно трудно было на эту закавыку отыскать возраженья, и сомнения понемногу к нему воротились, покусывая, пожаливая его, и он уже ощутил их несносную горечь, однако ж на сей раз сомнения не одолели его, просветлевшим рассудком он жадно искал, за какой бы клочок ухватиться ему, пока наконец не проклюнулась любимая мысль:
«Долго надобно думать, надобно бежать от насиженных мест и скорбно глаза отвратить от мирского, чтобы новое, смелое выражение выжить и постигнуть священную тайну искусства умом, всей душой…»
Однако ж его собеседник не захотел так легко отступить:
«Ну, брат, коли дело на вечные тайны пошло…»
Тогда он перешел в наступление:
«А что дала мне Москва? Какой свежий, пышущий жаром движенья вопрос приготовила она для искусства? Все эти толки о славном прошедшем России? Все эти сплетни об европейских делах? Это глубокомыслие на пустейшей, но преважной физиономии военного или статского генерала? По мерке устава сшитого уланского ротмистра? Натянутую улыбку чрезвычайно моднейшей красавицы? Или пылающий лик преуспевшего шелкопера, о котором вдруг прокричали в газетах, что он новый Гете да вместе и новый Шекспир? Уж не с этой ли публики писать мне портреты, когда о живом человеке тоскует перо? А если уж с них, так каким образом против воли не понабраться перу той бесцветности, какая этим оригиналам вошла в плоть и кровь? Где перу обрести прозорливость и глубину?…»
Казалось, на такого рода запросы невозможно было найтись возраженьям, и, в самом деле, его собеседник малодушно смолчал.
Все сделалось решительно ясным: незачем было ехать вперед, и незачем было возвращаться назад.
Он метался по зале трактира все быстрей и быстрей, поминутно меняясь в лице, и оба собеседника в нем силились изо всех сил перещеголять один другого ядовитой язвительностью довольно не новых своих замечаний.
Его бесила внезапная безысходность. Он душил ее страшным усилием воли, и жажда труда понемногу распространилась в душе. Он еще опасался студеной Москвы, однако уже потянуло воротиться назад, просто так, потому что вовзратная дорога была много короче тысячеверстной дороги на юг. Он ощутил, как в его колебаниях, в его беготне источается бесценное время, точно струится струей, переливаясь за дверь. Вся поэма вдруг предстала в уме во всей своей необъятности, а жизнь просыпалась, как зерно из худого мешка, так что, даже позажавши прореху рукой, он не успевал довести свой труд до конца, не просыпавши все содержимое в нем до последнего зернышка. Поездка на юг представлялась невозможной, невероятной, безумной, однако в ожившей его голове с быстротой молнии пронеслось, что нет возможности и воротиться назад: внезапное его возвращенье с половины пути вызовет новые шумные толки о его капризной, неровной, болезненной, шаткой натуре, и вновь налетят на него как будто нечаянные допросы, что и как именно приключилось в пути, не повстречал ли кого, не понадумал ли что-нибудь странное, давно ли призывал к себе доктора, исправно ли желудок варит, не приставить ли дюжину пиявок к затылку, а он промолчит, и не ничего не поймут, и раздуются новые толки, или решится всю правду сказать, что в дороге захотелось пера, и те вовсе ничего не поймут, поскольку им неведома жажда пера, и наплодят, как хорошая сука щенят, такую кучу самых невероятных историй, что он задохнется, как в туче пыли, и вновь потеряет охоту пера, повсюду встречая эти уклончивые глаза, эти беспокойные притаенные ахи и вздохи, эти окольные сострадания, адресованные ему. Как не взбеситься? Как в другой раз не сбежать черт знает куда?
Труд оставленный, труд неоконченный гнал в противоположные стороны. Он то бродил, то присаживался на что-то, то разглядывал машинально картинки, расклеенные по стенам, уже не запрашивая у смотрителя лошадей, потому что не ведал, в какую же сторону пуститься ему.
На юге, истомленный долгой дорогой, рисковал он упустить много времени, прежде чем наберется силы приняться за труд.
Казалось, последним здоровьем и самой даже жизнью рисковал он, пустившись в Москву.
Дорога на юг становилась почти ненавистной. Добравшись едва-едва до Калуги, он вдруг почувствовал себя совершенно разбитым и уже не шутя начинал опасаться, что повалится где-нибудь в смертельном недуге через первую тысячу верст, и тогда досужие люди отыщут в дорожном портфеле необделанные им лоскутки и в небрежном, непросеянном, неоконченном беспорядке поднесут его труд весьма не бойким на размышленье читателям, и вокруг его бесславного имени поднимется новый, уже непереставаемый гвалт, и необделанное его сочинение внесет новую распрю и новый раздор и в без того раздраженные наши умы.
Москва тоже не ладилась к его душевному строю. В Москве продолжали потихоньку шептать, что у него, то ли от самомнения, то ли от долгих толканий по растленной Европе, к сожалению, тронулось что-то в уме и вовсе иссякло перо.
В покое, в мирном участии, в теплом дружеском понимании нуждался он пуще воздуха для труда своего, а покоя, участия, понимания не находилось ни в оставленной сзади Москве, ни в каком-нибудь прочем, ближайшем или отдаленнейшем, месте.
Ни в какой стороне он не видел просвета. Вся его жизнь представлялась нелепой, и если он еще сносил кое-как эту горькую, эту несносную дрянь, так это лишь ради того, чтобы окончить свой труд, а там в тот же день умереть.
Как всегда, он нуждался в совете. Для совета оставался один человек, самым искренним чувством которого он бы мог вполне доверять. Он приказал нанять обывательских лошадей. Через какой-нибудь час притащились две тоскливые клячи и запряглись кое-как. Он стиснул под мышкой портфель. Лакей вынес его чемодан. Мещанин в потертой поддевке кулем взвалился на облучок. Клячи пораздумались несколько и нехотя сдвинулись с места. Колокольчик забрякал с заунывной тоской.
Он отправился в Оптину пустынь, верстах в сорока от Калуги, где его всегда ждал Порфирий, давний приятель, веселый монах, Ю ясность духа наживший такую, что ему всегда бывало полезно видеть и слышать его.
Отчаянье несколько поотступило, сменившись ровным, однако ненастным расположением духа. Уже свечерело. Расходясь понемногу, накрапывал дождь, дремотно постукивая о кожаный верх, однако ему не спалось. Коляска тряслась на разъезжанных колеях. Что-то скрипело и охало. Ямщик полусонно молчал. Клячи едва перебирали ногами. Он жался в угол черного неспокойного ящика. Ослабевшее тело качало и било о зыбкие стенки. Мысли путались и брели кое-как:
«Коляску подсунули дрянь, по дождю никогда не доедем, на свадьбу сестре подарить, а раненько стемнело, опрокинет, опрокинет, подлец, вот уж осень совсем, отчего…»
Вдруг врывалось с тоской:
«Порушила жизнь, измотала…»
Он отдергивал грубую полотняную занавеску, выглядывал, хоронясь от своих мыслей, в окно.
Черные поля да кусты совались с угрюмым видом в глаза. Черное небо висело над самым верхом невысокой коляски. Колокольчик бренчал как сквозь сон.
Он отворачивался от этой невеселой картины, прятал лицо в воротник и пытался уснуть, однако повторялось опять:
«По самому сердцу прокатило катком…»
В самом деле, он явился на свет полумертвым, и его первый крик скорее походил на слабый писк комара. Его отходили, однако ж он болел беспрестанно, и нежные сердцем, перепуганные родители окружали его бережливой любовью, так что он рос в тишине, среди страстно любящих душ, долго не зная о том, что где-то вдали грохотал остервенившийся мир, власть над которым утверждал Бонапарт, сверкали жалом штыки, свирепела картечь, стонали и корчились в предсмертных мучениях изодранные в клочья живые тела, увечные трупы гнили в тысячах братских могил, над которыми рыдали сироты и вдовы, калеки молили о подаянии под окнами всех европейских домов. Он же видел одни милые, одни добрые лица. Никто не повествовал ему о грохочущем мире, никто не приготовил его. Папенька сам скрывался от этого мира в чувствительной прозе Карамзина. Маменька, никогда ничему не учась, не читала газет. Папенька с нежностью ворковал ему чудные сказки. Маменька с еще большей нежностью накармливала пампушками и ватрушками его хилое тело и не отпускала с глаз своих дальше родного плетня. Тело кое-как поправлялось, а душа в бездумном блаженстве продремала все детство, не испытывая все девять лет ни слабейших тревог, даже не подозревая о том, что тревоги существуют на свете. По долгим зимам он любил глядеть на огонь, когда широкую печь вволю натапливали желтой соломой. Летом часами просиживал на открытом балконе, с которого глазам его открывалась дивная роскошь жаркой земли, заставляя его обмирать, неотрывно глядя на то, как громадное солнце блистало в томительном полдне, как плавилось бездонное небо в его спокойном ясном жару, как покоился папенькин сад, укутанный в зелень, как тянулись пруды, обращаясь в изогнутое стекло, брошенное сверкающим изумрудом в темную зелень, как открывались за садом бескрайние дали, где стога, золотая пшеница и пыльные змеи белых дорог, где струилась безмолвная Голтва, пламенея под солнцем расплавленным серебром, где стояли светлые хутора и темнели раскиданные на просторах левады, где царили тишина и покой, только глазу не видимый жаворонок звонко звенел в вышине и в траве беспрестанно стрекотали цикады.
Такой прекрасной, такой очаровательно-безмятежной впервые узрел он природу земли, такой в его душе она сбереглась на всю жизнь, и никаких иных радостей не желалось ему, лишь погружался он в свое вдохновенное созерцанье, которое нарушалось лишь тем, что изредка в безмолвии тишины, откуда-то раздавалось его слабо произнесенное имя. Тогда что-то темное шевелилось в душе от этого странного зова, от ужаса перенималось дыханье, и он бросался в беспамятстве прочь от тихо зовущего сада, и лишь вид человека, попавшего вдруг на глаза, изгонял этот страх, а вместе с ним сердечную сушь.
Кроме этих странных, тайных предвестий, более не стрясалось с ним ничего. Его не коснулись ни брань, ни побои, которые сплошь и рядом выпадают на долю несчастных детей. Он знал одни нежные руки и слышал одни мягкие, мелодичные голоса, которые вырастили его таким ласковым, таким кротким, со свободной безмятежной душой.
Тогда отвезли его в школу, в Полтаву, и оставили там одного, и чугунными кулаками ударила в его мягкую душу судьба. Вокруг захрипели гневные крики, засвистели беспощадные розги, то тихо, то громко заплакали те, кто стоял на коленях, попирая горох или соль, а те, кто оставляем был без обеда, истекали голодной слюной, готовые предательством, подлостью или любым другим средством купить черствую корочку хлеба, вокруг затрепетали, сжимаясь в комок, безвинные слабые дети, не смея прямым взглядом взглянуть на учителя, готового и за взгляд отпустить тумака.
Он впервые познал человека и познал бессердечным и злым. В этом кромешном аду он жил послушным и тихим, истязания не прикоснулись до него самого, он лишь ощущал на своем собственном теле чужие удары и резкую боль, он лишь трепетал и сжимался, когда железные пальцы учителя изворачивали спиралью чье-нибудь беззащитное ухо, лишь всякий миг урочного времени он с подступающей тошнотой поджидал, что вот, в сей именно миг, неизвестно за что, на него упадет, обожжет и тут же раздавит на месте. Он бы бежал, как дома бегал от тайно зовущего сада, однако ему приказали смирно сидеть, не выходить никуда и слушаться старших, и он слушался старших и неподвижно сидел, понурый и слабый, не имевший сил ни на что.
От такого сиденья брат его помер, а он изнемог. Его вернули домой исхудалым и бледным, и целый год колебался он между жизнью и смертью, десятилетний ребенок, не вынесший обыкновенного школьного ужаса, который выносил чуть не каждый русский хороший образованный человек.
Домашней любовью и лаской его все же поставили на ноги, лишь скорбная складка с той ранней поры проступила вкруг плотно сжатого рта, и немая мольба на дне прежде времени посерьезненных глаз, и безответный запрос: что же есть человек?
Тогда его отправили в Нежин, в гимназию высших наук, и вновь оставили одного в казенном, неласковом месте, где он пришлушенно, опасаясь жестоких насмешек, безутешно рыдал по ночам, хотя в Нежине педагоги не дрались, а лишь неустанно сеяли в бедную голову серый пепел маленьких слов, которые не удавалось с первого раза запомнить, даже после уроков затвердить наизусть, потому что не удавалось их смысла понять. Ни у кого не находилось для него окрыляющих слов, и он тупо разглядывал ровную стену или одиноко бродил в пустом коридоре, лукаво сказавшись больным. Товарищей отталкивала его золотушная внешность, как ни ждал он от них сострадания и капли добра, его хилое тело вызывало презренье в здоровых деревенских телах, и на него глядели как на чудище или урода, прозвавши его таинственным карлой, тогда как он не был урод, и он уже в те дни, всеминутно помня ласковый родительский дом, предовольно узнал, что наш мир должен быть не таким, а иным, вовсе не похожим на этот. Этого мира, в котором он считался урод и таинственный карла, видеть он не хотел.
Он зашевелился в темном углу и подумал, что было бы, может быть, лучше всего, если бы он помер тогда от тоски, как брат его помер в Полтаве: по крайней мере, он уберегся бы от того, что судьба ему приготовила напоследок.
Уже настала беспросветная осенняя ночь, уже все предметы вокруг растворила беспроглядная темень, и лишь невидимо скрипели колеса в ночи, да мерно чавкали копыта усталых коней.
Он высунулся по самые плечи в окно и громко окликнул возницу:
– Скоро приедем, любезный?
Любезный решительно ничего не ответил, нисколько не видимый в темноте, так что невозможно было с определенностью утверждать, все еще сидел ли возница на возвышении козел, или когда-нибудь на дороге пропал.
Покорившись необходимости, вновь забился он в угол. Клячи вставали несколько раз и замирали надолго, усиливая его подозрение, что он давно без возницы и порядком сбился с пути. Он задремывал, пробуждался и ждал терпеливо, когда же из тьмы выступит гостеприимный монастырский приют, однако лишь на рассвете представились глазу знакомые контуры колоколен и стен.
На радостях вложил он сонному вознице в кулак лишний рубль. Возница проснулся, как-то уж слишком медлительно отпряг своих лошадей, на одну из них взобрался верхом, другую прицепил поводом за какой-то ремешок при седелке и ленивым шажком поплелся восвояси, почти тотчас уснув на ходу, сгорбивши спину кулем.
Он снес дорожный свой чемодан и портфель в тесный, однако ж уютный номерок монастырской гостиницы и отправился в келью Порфирия.
Чем далее продвигался он двором и узкими переходами, тем в душе его все приметней росло умиление. Работники вставали уже на дневные работы, на него взглядывали приветливо, на миг разгибая склоненные спины, и на молчаливый поклон отвечали с уважительной, тоже молчаливой неспешностью, ласково поглядывали востроногие юные служки, монахи здоровались учтиво и дружелюбно, колокола сзывали к заутрени с приглушенной в тумарне, но светлой умиротворяющей благостью. Во всем царили кроткая человечность и мир.
Он стукнул в дубовую дверь.
На стук глухо ответили изнутри.
Он вступил с легким сердцем, с приветливой улыбкой, начисто позабыв о своем.
Навстречу ему поднялся с колен творивший молитву Антоний, товарищ Порфирия, тоже монах.
Он с почтительным поклоном подступил и сказал:
– Благословите, отец!
Антоний обогрел тихим сочувственным взглядом и осенил его истовым неторопливым крестом, под конец коснувшись перстами плеча:
– И ныне, и присно, и во веки веков.
Поцеловав его белую руку, он спросил почти весело, радуясь искренне, что ступил наконец на тот берег, где чувствовал себя в безопасности и после самых тяжких, самых немыслимых бурь, пережитых в миру, где так полезно душе отдохнуть и набраться мужества для нового плаванья посреди утесов и льдин:
– Где брат наш Петр?
Антоний просто ответил:
– Его взял Господь.
Не понимая еще, он уже понимал, у него потухли глаза, улыбка веселости сползала с лица, и щемило холодными пальцами сердце. Более он не успел ничего испытать, торопясь расспросить, разузнать, допытаться: «А как же я без него?», однако было удушливо стыдно, что в такой миг подумалось вдруг о себе. Он пожалел, что не успел увидеть Порфирия, да и сожаление тотчас промчалось, оставив одно леденящее чувство, что смерть одинаково милостива и одинаково беспощадна ко всем. Он следил, как на лице Антония двигалась благообразная борода, до него долетали рокочущие сдержанным басом слова:
– … ибо не велел Господь предаваться кручине. Не оплакивайте и вы кончину его, но радуйтесь, ибо душа Порфирия была чиста и нашла приют свой в Царствии небесном…
Часто и он повторял те же слова утратившим близких своих и впадавшим в кручину, однако в тот же миг утешение было напрасным: невозможно было утешить его. Представлялось, что окончательно, безвозвратно потеряно все, что было близко душе. Слова Антония звучали бессмысленно, пусто. Он слышал одни гудящие звуки, все стискивал и стискивал зубы, словно от этих звуков разбаливались они, и не знал, как выдержать этот внезапный удар, обрушенный на него, опасаясь, что в самом деле потеряет рассудок.
Стоя перед ним в длинной рясе, сцепивши белые пальцы на животе, Антоний говорил ему с ласковой грустью:
– …примером для нас, многогрешных. Предсмертная болезнь его была тягостна, он же принял ее со смирением. Лик его многожды искажался сильными муками, однако он не издал ни единого звука. Когда же смертная боль отпускала его, он переводил несколько времени дух и говорил со мной едва слышно, но голосом твердым и внятным. Он меня утешал в моей горькой печати. Разум его оставался с ним до конца, но говорил он не всегда понятное мне. Единожды говорит: «Стены у нас надежные, в аршин толщиной, умели зодчие в древности класть кирпичи, верно, знали они, как нужны человеку прочные стены». А то произнес сокрушенно: «Нехорошо на юру, знобко так, без имен надобно жить…» Я было склонился над ним, да он к сказанному ничего не прибавил, быть может, уснул. Много размышлял я над сими реченьями, а до сего дня темен для мя вещий их смысл…