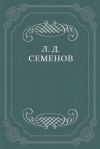Читать книгу "Совесть"

Автор книги: Валерий Есенков
Жанр: Историческая литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Антоний постоял перед ним в суровом молчании, виновато сгорбивши могучие плечи, может быть ожидая, что он ему этот смысл прояснит.
Он понееволе стал слушать внимательней, распознавая вещий смысл последних размышлений Порфирия, и было понятно, что означало, что всем нам надобно без имени жить, а вот крепких стен не находилось в душе у него, и не держали все прочие стены ее.
Антоний же продолжал удрученно:
– Ближе ко дню своему он поведал, что трижды во сне являлся к нему лет за шесть до того почивший послушник наш Николаша и рек ему будто, чтобы готовился к исходу из жизни земной. Ну, я думаю, он к исходу из жизни земной был приготовлен всегда, потому и сие возвещение встретил спокойно, как подобает всякому человеку. В канун же кончины своей получил он от троекуровского затворника Иллариона рубашку. В той рубашке он и скончался через немногие минуты после приобщения святых тайн…
Поймав наконец передыщку в неторопливой речи Антония, он слабо спросил:
– Где могила его?
Антоний молча кивнул, этим движением позвав за собой, и он двинулся вслед за Антонием, ощущая непонятную тяжесть в спине, едва переступая словно бы ватными нечувствительными ногами, несколько раз споткнувшись на ровном, а в дверях ударившись головой о косяк. Чувства угасли, лишь с тупостью непонятной продолжали видеть глаза, уши тоже слышали что-то, однако же все вокруг представлялось расплывчато и нестройно, звуки же долетали как будто издалека. Эти слабые звуки и нестройные тени сознание продолжало ловить, по давней привычке все вбирая в себя, что ни всунется на пути, в непоколебимом своем убеждении, что и малая, вовсе микроскопическая пылинка, придет час, пригодится ему под перо.
Спина Антония виделась мясистой и бабьей, старая ряса, должно быть, уже сильно давила под мышкой. Антоний придерживал рясу рукой, открывая крепкие каблуки кожаных домодельных сапог, подбитые толстыми стальными подковками, гремевшими по вытертым до блеска дубовым тесинам, из которых был выложен пол, он даже подумал, что шляпки гвоздей источились от времени и слабо держали стальные пластинки, и даже соображал, не понадежней ли было Антонию призагнуть гвозди крестом.
С левой стороны обогнули они монастырскую церковь. У белой стены чернели тяжелые плиты и сквозные кресты на могилах прежних настоятелей пустыни. Колокола все гудели над головой, и звучание меди в этом месте слышалось жестко, оттого, может быть, что он различал, как старинный металл ударяется о металл же.
По тесной тропинке они двинулись один за другим. Тропинка вилась кое-как в поблекшей траве. С каждым шагом надгробия становились все проще. Пахло осенью, пахло вчерашним дождем.
Антоний указал на низенький холмик, вновь одним кивком головы, точно не мог говорить.
Холмик сиротски осыпался. Во внутрь могилы опустившейся осыпи редко пробивалась молодая трава. Гранитная плита накренилась и треснула пополам.
Безмолвно, безвольно поник он над тем, что ему осталось от верного друга.
Прерывисто доносились колокола. Серый день колебался, то и дело темнея. Антоний куда-то исчез.
Он долго читал, едва понимая слова:
«На сем месте погребено тело монаха Порфирия Петра Александровича Григорова. Из дворян елецких, конной артиллерии подпоручик, поступил в Оптину пустынь в 1834 г., трудился по изданию и печатанию душеполезных книг. Постригся в 1850 г. 47 лет отроду и в 1851 г. марта 15 мирно почил о Господе сном смертным в надежде воскресения в жизнь вечную».
Вот и встретился он…
Сорок семь и еще один год, сорок восемь всего исполнилось лет…
Он теребил поля серой шляпы, ветер шевелил его длинные волосы, холода он не слыхал, глаза перебирали слова:
«… из дворян елецких…поступил в Оптину пустынь… постригся…в жизнь вечную…»
Он передвинул взгляд свой, пытаясь разглядеть верх граниной плиты, словно и на верхе было начертано что-то, и вдруг уткнулся взглядом в Антония, который топтался по ту сторону холмика, до того не ведая, что же делать с собой, что широкое лицо от беспомощности виделось глупым.
Он увидел это лицо, встрепенулся и только тут ощутил нестерпимую боль.
Вдруг вспомнив о чем-то, поднявши больные глаза, он сдавленно, хрипло промолвил:
– Благодарю вас, брат мой, с Богом ступайте, а я к вам после приду.
Антоний тяжело удалился, вихляя широкими бедрами, косолапо ступая, с дребезжанием, режущим душу, чиркнув поодставшей подковой о камень.
День засерелся ровнее.
Он присел на скамейку, сооруженную при чьей-то соседней могиле, весь согнулся дугой и долго сидел со шляпой в руке, слыша то шелест, то мерную скорбь далеких колоколов.
Опустевшая душа его поседела.
Он видел свои черные сапоги и увядшие листья под ними. Трава густо пробилась у подножия чьего-то креста.
Что-то было странное, страшное в этой траве.
Он пригляделся.
Трава никла от тяжелых капель дождя, висевших на толстых стеблях ее не стекая: так над могилой любимого мужа никнет вдова.
Ему сделалось больнее и горше от вида этой поникшей вдовы и он жалобно вдруг попросил, чтобы Порфирий, на поддержку ему, на братский совет, поднялся из ветхого гроба, обещая год своей жизни за час свидания с ним, лишь для того, чтобы со всей откровенностью, со всей прямотой, не доступных другим, поведать о том, что с «Мертвыми душами» у него позапуталось все, как не запутывалось еще никогда. И уже бессмысленно, бессвязно шептал:
– Неодолимой цепью прикован я к своему… Мир бедный, неяркий, вот что ведомо мне… на все века избы курные…пространства обнажены, все обнять, все вместить…эта бедная могила твоя… а места мне нет…
Сиротливая безнадежность слышалась в этих словах, и подумалось вдруг безотчетно ему, что конец его близок, не за тем ли даже кустом?
Эта мысль о близости смерти нисколько не задела его отзвучавшую душу. В душе его не шевелилось больше желаний. Все желанья его отгорели, невидимым дымом ушли. Стал накрапывать дождь, мелкий и скучный, покрывая сыростью волосы, руки, лицо, а он все сидел, наблюдая, однако не в силах понять, отчего зашевелилась и сильнее поникла трава.
Двое богомольцев в сыромятных кафтанах громко протопали мимо него, торопясь под навес. Маленький, шустрый, худой, с холщовой тощей котомкой на узкой спине, подгонял толстяка, неспеша шагавшего с толстой палкой в руке, выговаривая высоко и задорно:
– Шагай, телепень, переступай, нето поизмочит нас вдрызг.
Эти слепые слова точно мелким горохом просыпались рядом, не задевая его.
Он поднял голову, поглядел во след удалявшимся богомольцам и ощутил, что несчастен он страшно и совсем, совсем одинок.
Словно бы ближе раздались намокшие звуки кеолоколов, словно бы панихиду служа по нему. Медный длинный раскатистый говор тупо резал стонавшее сердце. Ласки, ласки с каким-то тоскливым отчаяньем захотелось ему и совместных дружеских слов, однако уже и заплакать сделалось не с кем ему, он так навсегда и остался таинственный карла, урод, один-одинешенек должен был он брести неизвестно куда, с застылым навеки лицом, на три прочных запора замкнувши скорбящее сердце свое.
Он еще постоял над безмолвной могилой Порфирия:
«…почил о Господе сном смертным в надежде воскресения в жизнь вечную…»
Ноги его совершенно промолкли в тонких сапогах без подков. Он пальцами шевелил, постукивал сапогом о сапог, однако страшился уйти. Он кому-то без надежды сказал:
– Ничего.
И время от времени думал, чтобы значило это одинокое слово, пока Антоний не тронул его слабо и вежливо за плечо:
– Вы, сударь, промокли, пойдемте-ка, дождь.
В самом деле, по лицу Антония струились ручьи.
Он с покорностью пошел вслед за монахом в небольшую гостиницу пустыни. С каждым шагом, отдалявшим его от могилы, Порфирий представлялся все живей и живей, а в дверях уже стоял рядом с ним.
В его тесной горенке имелись стол, стол и приготовленная кем-то постель.
Он сел на этот несколько в сторону отставленный стул, забывши сбросить шинель, уронил на этот стол свою измокшую голову и облегченно заплакал.
Однако ж не о покойном Порфирии плакал он безответно.
Душа Порфирия уже вкушала блаженство, оплакивать ее было кощунством, ее уделу можно было только завидовать, но вот он сам достоин ли такого удела?
И потому плакал он о себе.
Скупая могила отошедшего в вечность монаха словно бы убедила его, что кончена жизнь, и ему стало больно, стало стыдно за то, что свою жизнь он, в противность Порфирию, оправдать не сумел, что благодати небесной так и не заслужено им, как он ни бился, как ни исправлял поминутно себя.
Он промотался по жизни бессмысленно, не унизившись до пошлого существования многих, не возвысившись до истинной жизни иных. Своей беспокойной душой он лишь возвысился в неотступных мечтах оживить своим чудодейственным словом поникшие души своих соотечественников, он лишь трудился до обмороков, до опухавших от неподвижности ног.
Что же он заработал себе?
Лицо его сделалось мокрым. Соленая влага заползала в открытый беспомощно рот. Он глотал эту влагу нервно и зло, точно хоть этим решился себе отомстить, словно эта соленая влага могла служить ему в наказанье, ибо любое наказание заслужено им и потому не может не быть справедливо. Какими именно прегрешеньями навлек на себя наказанье, он определенно не знал, однако ж не сомневался ничуть, что грехи его были особенно тяжки, поскольку поэма его, в какой уже раз, перестала расти, следственно, более тяжких грехов и быть ни у кого не могло, иначе нельзя бы бло понять, отчего его назначенный на возрождение замысел никакими усильями не воплощался в живое тело творения.
Это сознание неминуемой справедливости убивало его. Все более жгучие слезы бежали из глаз. Одни только слезы и утешали его, каким-то образом наводя его тревожную мысль на закон, который неминуемо следовал из его наказания. Суровый этот закон царствовал всюду, во всем, что ни есть на земле, предупреждая о том, что каждого ожидает суровая, страшная кара за земные деянья его, что за все содеянное здесь, на земле, когда-то придется по полному счету платить.
И вот он был наказан за то, что скверно исполнил дело всей своей жизни, на которое был предназначен судьбой, однако немилосердная кара ожидала так же и тех, кто глумился над ним, не умея понять ни его самого, ни любимого творенья его, выжатого капля за каплей из лучших соков души.
Тут и Порфирий стал сквозь слезы являться ему. Он видел монаха в монастырской печатне. Порфирий набирал священные письмена. Длинные волосы были схвачены тонким кожаным ремешком, чтобы не мешали кропотливой работе. Прозрачные веки сосредоточенно были опущены. Зеницы, бугорками передвигаясь под ними, неторопливо оглядывали наборную кассу. Исхудалые пальцы ловко выхватывали свинцовые столбики букв. Продолжая свой труд, Порфирий с удовольствием говорил:
– Большое счастье – хорошая книга. Слава Богу, нашел я его. Вот и людям приготавливаю такое же счастье.
Вкладывал столбик, оглядывал понемногу выступающий текст и хорошо улыбался ему, пошевеливая усишками и тощим клинком бороды:
– Хороший человек – книжник всегда, это так. Невозможно, брат мой, читать, читать век свой, а после того вдруг напакостить ближнему. Пакость – дело некнижное, потому и пакостники – все сплошь невежды, и пакостит тот, кто ничего не читает, кроме газет.
Тут Порфирий взглядывал на него синим глазом:
– Возьмите меня – жил шалопай шалопаем: дворянский сын, офицер, то есть сызмала женщины, карты, вино. Здоровья пропито было неисчислимо. Чести загублено картами, совести сколько положено в них – словами невозможно сказать. Прекрасным же полом изгадился весь, до верха волос.
Порфирий поправлял на лбу сползавший ремень, и тонкие руки сновали спорее:
– Да, Николай Васильевич, брат мой во Христе, не смотрите на меня с недоверием, все, что сказал вам, чистейшая правда. Это нынче стал я ровным, спокойным, словно весь осветился, а в прежней жизни моей куда как метался, не ведая места себе. Одним словечком умел ближнего своего прожечь до кровавой дуэли. Дуэлей этих случилось не мало, и пуля моя всегда настигала живую мишень. Ну, страшились меня, многое молча сносили, чтобы понапрасну под верную пулю не лезть. А в душе-то моей все одно была маета. Все как-будто злобилась душа на людей, непонятно только за что.
Окончив абзац, любовно оглядевши его целиком, Порфирий выбирал столбик побольше, для новой заставки:
– А дойдешь до наипоследнего мрака, спрячешься куда ни то от разврата людей и давай что ни попало читать. Не ведаю, зародился ли я таким по природе моей, точно сказать не могу, однако книги всегда очищали меня, после книг, как после бани, чист выходишь и свят.
Порфирий шевелил с недовольством бровями, и рука сердито отшвыривала ненужную, по ошибке попавшую литеру:
– Вот, заболтался я, нехорошо.
Замолчав, Порфирий работал ровнее, в такие минуты он ему не мешал, не выспрашивал ни о чем, только в полном молчании любовался глубоким лицом и твердой сноровкой все еще сильных и цепких пальцев его и немного жалел, что не смог сыхмальства приспособиться к подобному ремеслу, которое не только не терзало души, а еще умиротворяло ее и давало ей новую силу. Ему вот нет с такой легкостью давался его нескончаемый труд, и он думал тогда, что когда-нибудь этот томительный труд безжалостно уничтожит его.
Тем временем Порфирий светлел, глаза легко перебегали к кассе, к набору, к листу, без ошибки повиновались верные руки, так что он тоже светлел и чуть двигал машинально рукой, точно бы этим легким движением немного помогая ему.
Вдруг Порфирий тем же ровным, спокойным уверенным голосом:
– Пишущие о жизни всегда понимают нечто неведомое, иначе из какой надобности им бы стало писать? И вот почитаешь, посмотришь и увидишь себя точно голым. Ум вырастает, как мозоль на руке, уплотняется, что ли. Проще, прямее, глубже смотришь вокруг. Правильней видишь людей и себя. Грешны мы, это верно, известно давно. Так ведь, я полагаю, не по своей охоте грешим, не по влечению сердца, не по сласти греха, горек он, грех-то, это истина ведома всем. Грешим большей частью от глупости или по причинам текущей жизни грешим.
Продолжая свой труд, Порфирий на миг одаривал светом своим чистейших, прямо ребяческих глаз:
– Книги учат прощать, пониманием, верно, то есть, я думаю, тем, что узнал, из какой причины исходят поступки людей, и после того не можешь или не смеешь ненавидеть или сердиться на них. Ваши книги, брат мой, в особенности, даже и очень, без лукавства правду сказать.
Тут, на время оставив набор, с уважением оглядывая молчаливого своего собеседника, Порфирий вытягивал руки перед собой:
– Вас я давно привык уважать за талант ваш, коим славится отечество наше. Природа слишком скупа на такого рода людей. На свет такого рода людей природа производит веками, то есть по одному, много-много два или три за столетие, зато такого рода людей и помнят века. Знатность, богатство, минутная слава – все это хлам, суета, вот как обрезки бумаги, перед истинным талантом – просто ничто, как перед книгой те же клочки. Вы, я гляжу, ценить себя подчас изволите низко, ровно какое затмение находит на вас, А это неверно, нехорошо. Имя ваше не промелькнет да погаснет, как шутиха-снаряд, не рассыплется беглыми искрами в прах, не канет без памяти в Лету. Жить ему вечно, в этом вы мне поверьте, да еще какие века!
Выбравши палец почище, Порфирий осторожно почесывал им в бороде, обдумывал что-то, покусывая палец боковыми зубами, произносил наконец:
– Что-то не уразумею я, брат мой… точно бы нет в вас покоя, полноты, равновесия духа…точно не вами писаны ваши же книги…
Потерев тем же пальцем ладонь, Порфирий взглядывал ему прямо в глаза:
– Нехорошо это, брат мой, нехорошо.
Он морщился, щурил, однако не прятал глаза:
– Да, но многое, многое писано скверно, как не видать.
Прихлопнувши в ладони от удивления, Порфирий светло улыбался ему:
– Ваши книги сотворены вами, так как вам этак и положено мыслить об них, должно быть, и сам Господь весьма не доволен Твореньем своим, ибо всякое созидание многотрудно, это уж так.
Мысль о несовершенстве земного жила в нем и нисколько не поразила его, однако ж сравненье представлялось чрезсерным, и он с подозрением вглядываясь в монаха, не шутит ли, не издевается ли над ним, серьезно напоминал:
– Слыхали, что обо мне пишут журналы?
Перевернувши страницу оригинала, Порфирий вновь принимался за кассу, он же, болезненно морщась, в душе страдая и мыкаясь неистребимым несовершенством своим, глухим уже голосом повторял:
– Сквернейше пишут журналы, брат мой, похуже меня разве только нынче Булгарин, да и тот, не в пример мне, хотя бы сам себя на все корки хвалит, а я…
Порфирий поглядывал на него с укоризной и, держа нужную литеру на весу, готовясь вставить на место, покачивал головой:
– Так что же, что скверно пишут журналы? Сами вы знаете: глупость одна!
Он возражал, слабо отмахиваясь похолодевшей рукой:
– Не утешайте меня, брат мой, я верю журналам. И в глупости много истинной правды понасказали они обо мне, что ж заноситься и правды не слышать. Горька она, эта правда, однако ж никогда и не бывает правда сладка.
Наморщась, Порфирий бормотал, в каком-то слове переменяя буквы местами, исправляя ошибку свою:
– Что ж ты, милая, вошла не туда.
Он же продолжал отрешенно, пристально вглядываясь в себя, не фальшивил ли он, в самом ли деле не заносился в себе:
Чем горше правда, тем лучше, вернее на пользу творящего духа, и многое, многое в себе разобрать помогла.
Порфирий вдруг сильным движеньем рассыпал набор:
– Вы сами себя заставляете верить, брат мой, однако не верите им, не можете верить и не должны. Каждый человек живет своим разуменьем. Никто его не наставит, никто за него не решит, как ему жить. И силы душевной нельзя ни у кого призанять, нам свою силу надо искать, то есть, я хочу сказать, вы должны в себе вашу силу увидеть, она же в вас есть, ого-го!
Распрямлялся и сдергивал с себя ремешек, так что прямые волосы упадали с обеих сторон и лицо становилось серьезней и словно бы уже, как нож:
– А уж когда нам охота слушать кого, так надобно слушать немногих.
Свертывал ремешок и совал в карман своей рясы и золотистые искры вспыхивали в синих глазах, и добрый рот широко улыбался:
– Хотите, я вам одну историю расскажу? История эта приключилась со мной.
Он волновался, страстно любя все истории, в которых ему виделась жизнь и виделся сам человек:
– Хочу, говорите скорей!
Порфирий приглаживал волосы худой широкой ладонью и бережно снимал с груди домотканный передник:
– Эта история и поставила меня в жизни на самое нужное место. Быть может, она-то и даст вам понять, что в жизни книги и что их творец, человек.
Лицо Порфирия делалось ласковым, добрым, каким никогда еще не бывало при нем:
– Однажды стояли мы лагерем летней порой. Мне случилось дежурить. По этому случаю я один стоял на линейке. Прислуга, как и положено по инструкции, была по местам, фитили курились у заряженных пушек. Вдруг вижу: с большой дороги своротила коляска. Коляска катила прямо на батарею. Остановилась в шагах десяти от меня. Из коляски живо выпрыгнул молодой человек невысокого роста, кудрявый, с быстрыми умнейшими пронзительными глазами. Молодой человек ко мне подошел, почти подбежал и слегка поклонился: «Позвольте узнать, говорит, где я полкового командира могу отыскать?» Я отвечаю: «Их превосходительство отсюда верстах будет в трех, в деревне в другой». И принялся изъяснять, каким путем проехать к нему. Молодой человек вежливо поблагодарил меня за услугу и хотел удалиться, однако вдруг я почувствовал симпатию необыкновенную и спросил: «Извините меня за нескромность, я желал бы узнать, с кем имею удовольствие говорить?» Молодой человек отвечал мне кротко: «Пушкин». Я так и вскрикнул: «Какой?» Молодой человек отвечал, уже улыбаясь чему-то: «Александр Сергеевич Пушкин». Я красный, дожно быть сделался от восторга, уши горят, руки нелепо так по воздуху машут: «Вы – Александр Сергеевич Пушкин, наш поэт, наша гордость, честь, слава, совесть, автор „Фонтана“ и „Людмилы“?» Он засмеялся, показывая белейшие зубы. Я же гаркнул по проаву дежурного офицера: «Орудие! Первая – пли!» Выстрел гоянул. «Вторая – пли!» Грянул второй. Тревога сделалась. Офицеры, солдаты высыпали на плац. Прискакал командир батареи, разузнал и тотчас известился, в чем было дело, и принялся грозно этак меня распекать, по своей привычке не слезая с коня, тогда как я офицер. Пушкин просил его меня пощадить, однако это не помогло. Меня отправили под арест. После ареста я тотчас же вышел в отставку. Моя прежняя жизнь в одно мгновение мне опротивела. Я сложил с себя светское звание и отправился в монастырь. В монастыре печатаю с помощью божией книги, каковым занятием и уничтожил в душе моей все сомнения. Убежден я, что правильно поступил и что иначе поступить я просто не мог. Примирился я с жизнью, всегда весел и бодр, могу это сказать о себе. А без Пушкина, без той канонады где бы я, что бы я теперь был?
Останавливался и вдруг говорил с возмущением:
– А вы-то пораздумайтесь только, брат мой, вы же пишете их, эти книги, которые я-то имею возможность только печати предать! Вам ли не уладиться с жизнью! Вам ли вечно веселым и бодрым не быть! Вам ли в журналах искать чужого ума об себе!
В ответ он с большим сомнением качал головой:
– То-то и есть, что пишу. Это, брат мой, ужасная ноша душе, и снести эту ношу может разве святой… или уже тот, кто совсем себя потерял, креста на ком нет.
Порфирий глядел, пришел в изумленье:
– Писатель служит доброму делу. Возле писателя и все становится чище, ежели он, разумеется, совесть не растерял. Желаете сделаться еще лучше, выше, добрее – так с Богом, на многую пользу читателям вашим, однако и попрекать вам нечем себя!
Слезы его наконец истощились. Он очнулся и вытер лицо, которое показалось ему нехорошим и дряблым, вытер тоже нехорошим, измятым платком. Он ощутил себя стариком, которому жизни оставалось немного. Поздно, поздно что-нибудь делать с собой, если прежде ничего не успел, и было бы лучше всего конец жизни провести в тишине и покое, где нынче единственно не водится грех и где бы и он наконец не грешил, однако ж и это не далось бы ему, как далось простому монаху и книжнику, нашедшему утешительное дело свое, он же до этаких лет все не знал, что ему делать с собой и долгое дело его приносило ему терзания неизбывные и тяжкую муку души.
Едва подумав об этом, он вполне ощутил свое безмерное горе, и дух его исчерпал свои силы, иссяк, бессилие оковало его, рукой шевельнуть, передвинуться представлялось ему невозможным, да и шевелиться, двигаться он не хотел, а сидел с опущенной головой, уронив непослушные руки нас стол.
Вот притащился он к Порфирию за советом, как жить, а Порфирий в могиле уже, и он вновь предоставлен себе одному, и вновь в противоположные стороны потянули неотвязные мысли о том, как ему поступить.
Он хотел бы писать, хотел бы бросить написанное. Он должен был ехать на юг и без промедления возвратиться на север, в Москву. Он знал, что должен подняться, двинуться куда-то пойти, иначе эти несогласные мысли непременно одолеют его, высосут без остатка всю его волю, однако сидел точно камень, оставленный при проезжей дороге, по которой взад и вперед мчаться вскачь счастливые путники, самая необходимость подняться разбитому телу представлялась неисполнимой.
Этот состояние полнейшего онемения ему было знакомо слишком давно, поскольку не раз доходил он до тех крайних пределов отчаянья, когда самая смерть улыбалась беззубо, маня избавленьем от бед. Годами учился он стряхивать подобное онемение с тела, с души. Для вида он словно бы поддавался ему, продолжая сидеть неподвижно, бессильный и согбенный, как дряхлый старик, приткнувшийся на завалинке такого же ветхого домика, брошенный беспечными внуками, позабывшими подхватить его под руки и с бережливостью и почтением отвести дедушку в дом, однако понемногу сначала, затем уж настойчиво, с твердостью себе говорил, что ему во что бы то ни стало необходимо подняться, напоминая себе, что и прежде победа всегда оставалась за ним, уверяя себя, что он все же сильнее всех необъятных несчастий своих.
Онемевшее тело начинало понемногу опоминаться, не так уже невозможным представлялось встать и уйти.
И вот уж он принялся понемногу сдвигать пальцы рук и вдруг стиснул все пальцы в кулак.
Лицо его мучительно напряглось.
Он все сидел, как старик, потерявший надежду на жизнь, но слабое тело уже начинало потихоньку повиноваться ему.
Тогда он решительно встал и стал умываться.
Вода освежила его и придала ему сил.
Он заметался по тесной каморке. Все нестерпимей хотелось избыть ненавистные свои колебанья. Пора, пора было выбрать свой путь. Воля приготовлялась исполнить любое решенье, оставалось решить что-нибудь, однако решение все ускользало, как прежде, и неопределенность маяла его до темна. Тогда он завязал распустившийся галстук и почти бегом побежал к настоятелю.
Отец настоятель принял любезно.
Он со смирением принял благословенье и сорвавшимся голосом произнес:
– Отец мой!
От долгого молчания голос прозвучал едва слышно. Он поспешил возвысить его. Получалось нестройно и с хрипом:
– Выехал я из Москвы, направляясь в Одессу, думая на берегу южного моря поправить шаткое здоровье мое, однако же тяжек мне этот путь, продолжать его истощаются силы, затмился мой дух. Укажите, что делать грешному мне?
Отец настоятель примирительно улыбнулся:
– Когда путь ваш начат, с именем Господа продолжайте его.
Он ушел, готовый ранним утром отправиться в Василевку, но готовности этой не достало даже до близкого вечера. Казалось, никогда прежде не приключалось над ним такого расстройства. Множество раз оставлял он свой начатый труд и сломя голову бросался в дорогу, в жадным намереньем понабраться в ней сил и с новой энергией далее двинуть перо, едва воротившись домой, и вот брошенный труд его звал, а он по какой-то причине должен тащиться в обратную сторону, бог весть на какое долгое время отодвигая его.
Он иззяб в полутемной гостиничной келейке, освещенной только лампадой, тоскливо трепетавшей в углу. Жуткая тишина погребала все звуки. Ему чудилось, что уже никогда не воротиться он к труду своему, если без промедления не окончит его, но ему было указано именем Бога, что он должен ехать туда, куда начал свой путь.
Он сложил чемодан и постарался не думать о необходимости возвращенья в Москву. Он повел себя так, точно и не плелось в его душе никаких колебаний, мужественно вчитывался в благодатные тексты Евангелия, раскрывая в разных местах наугад, или творил благодарственную молитву, голосом громким, чтобы вернее ободрить себя, испрашивая милости об одном: собрать его силы на труд.
Однако и душа по-прежнему обожженно пылала. Все ей чудились страшные катасрофы в долгой дороге на юг, а там, как на грех, и на юге с «Мертвыми душами» непременно должно что-то стрястись.
Он отмахивался от леденящих предчувствий, но от его беспокойных усилий предчувствия становились сильнее, временами обращаясь в панический ужас, так что он упадал ничком на постель и с головой зарывался в подушки, точно верное спасенье его таилось в подушках.
По причине этих мучений он не заснул во всю ночь. Бессонница измотала его. Лицо осунулось и поблекло, точно перед тем он долго и тяжко болел. Жалко обвис заунылевший нос. Темные тени залегли под глазами.
Он исповедался после утренней службы и вновь пришел к настоятелю.
На этот раз лицо пастыря показалось ему недовольным.
Он замялся, хотел повернуться, чтобы, не сказавши ни слова, двинуться вспять, однако ж новых толков, новых смятений перепугался пуще всего и чужим голосом выдавил из себя:
– Отец мой, вчера я сказал вам не все.
С чуть приметной иронией отец настоятель прервал его речь:
– Увидеть вас нынче я не надеялся, однако ж во всякое время готов оказать вам услугу. Слушаю вас.
Он заторопился, всем телом подавшись вперед:
– Да, разумеется, абсолютно понятно, мне необходимо следовать в родные места, а после в Одессу, потому что хилое тело мое не выдержит испытаний зимнего холода и я умру прежде времени, не исполнив предназначенья, это я правду сказал, однако же долг завершить без промедления чудесный мой труд меня призывает в Москву. Труду моему, как ведомо вам, отдал я многие годы и слишком боюсь помереть, не окончив его. По этой причине вновь испрашиваю совета у вас: поведайте мне: каким при таких обстоятельствах образом должен я поступить?
Снисходительно улыбаясь, отец настоятель принялся уговаривать повышенным голосом человека, которому в земной жизни открыто решительно все:
Не такого рода ваш труд, чтобы его возможно было исполнить в одном каком-нибудь месте. Не все ли равно в таком случае, в какую сторону направитесь вы?
Он видел с отчаяньем, что и в этом месте нисколько не понимают его, и такое непониманье, когда, может быть, решалась судьба, с такой силой будоражило и без того раздраженные нервы, что он готов был в голос кричать, однако ж, затрачивая на это, казалось, наипоследние силы, сдержал свои страсти перед служителем Бога и почти вкрадчиво изъяснил:
– Точно, вы правы, мне трудиться возможно везде, однако же предчувствую я, что в этот приезд не напишу в Одессе ни строчки. Я знаю: моему предчувствию разумного истолкования нет, но что-то внутри меня говорит, что в эти месяцы смогу успешно трудиться только в Москве.
Оглядев его с сожалением, отец настоятель ответствовал твердо:
– Что ж, воротитесь в Москву, да благословит путь ваш Господь.
Он был рад чрезвычайно такому совету, отстоял обедню почти в веселом расположении духа, моля Господа дать ему многие силы на подвиг труда, и пошел проститься с Порфирием, может быть, навсегда.
Обнажив голову, вновь читал он надгробную надпись:
«…погребено тело…сном смертным…»
В кладбищенской тишине, среди пониклых берез вдруг смрадным тленом пахнули обыкновенные эти слова, так что вновь задрожали наболевшие нервы, и ледяная Москва представилась склепом, в котором он, лишенный света и воздуха, замурует себя, если воротиться в Москву зимовать. А что «Мертвые души» тогда?
Он никуда не поехал: «Мертвые души» вновь не пустили его.
Наутро, вовсе не глядя в немые глаза настоятеля, он попросил другого совета, отчего у отца настоятеля нахмурились кустистые брови:
– Сын мой, душа ваша, пребывает в тенетах диавола. Отриньте его. Образ божий снимите и сделайте то, что заслышите в душе своей по велению Господа.
Он придвинул скамейку к киоту и взял икону попроще.
Икона сказала ему, что он должен отправляться в Москву, где станет писать беспрерывно, ибо не терпит ни малейшей отсрочки несчастная и великая поэма его.
С благоговением поставил икону на прежнее место, он отправился к настоятелю и сказал:
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!