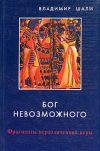Читать книгу "Мокрая вода"

Автор книги: Валерий Петков
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Митяй
Митяй родился хилым, с явными признаками недоношенности. Пяточки норовил вместе соединить. Сказался дефицит кислорода: специфика работы будущей мамы. Хоть и жалели её, позже в легкотрудницы перевели.
Прогнозы, что пацан своё нагонит, – не оправдались. К четырём месяцам стало ясно – не добирает. Вскоре закончилось молоко у мамки. Считай, что и не было. Перешли на заменители. Злобным цветом пожара расцвела на тельце аллергия.
Лежал он в пелёнках, тихий, молчаливый, морщинистый «старичок». Словно прислушивался к чему, или ждал какого-то особенного сигнала. Даже не гукал. Силы берёг.
Врач приходила, старушка белоголовая, коротко стриженная. Выписывала какие-то лекарства. Целую полку уставили пузырьками, косые рецепты торчат сбоку, под этикетки подсунутые.
Отец мотался, доставал что предписано. Всё было по блату.
Мамка только тихо плакала, а отец ходил мрачный. Выпьет полстакана водки, и курит весь вечер в коридоре общажном, у радиатора отопления.
Тревога поселилась в семье.
Невыспавшиеся. Оглушённые. Какая, там – радостная суета!
Вызвали из деревни тётку, двоюродную сестру отца, набожную Акулину. По-простому называли её – тетя Киля.
Небольшого роста. Крепкая, ладная, на толстых ногах. Ухватистая в работе. Глаза лучистые, небесной синевы, по-детски распахнутые. Настоящая деревенская женщина. В тёмном, одета аккуратно. Глянула на Митяя и заплакала, добрая душа. Раскачивается, глаза кончиком косынки утирает:
– Господи, прости – люди твоя! В чём душа жива! Крестили? Спасать надо ребёночка!
– Да – всё никак. Мы же – в комсомоле! – ответил отец. Отвернулся досадливо.
– Обезумли! Надо же! Метрон! Трамваем бы ещё обозвали! – ругалась тётка.
И увезла с собой в деревню. А там – своих детишек – четверо. Три сына и дочь.
Первым делом окрестила. Батюшка едва не выронил, из купели приподнимая, ждал, когда водица с синеватой, морскатой попки соскользнёт. А после сказал:
– Хитрован будет. С мыслями – потаёнными. Не по возрасту, – в нём – сурёз. Будто годов семьдесят, не ме́не! Другой бы изорался, а этот – молчок!
Потом договорилась она с соседкой, молодайкой, кормящей дочку, что будет и его прикармливать. Молока-то, как у бурёнки справной. Тока – дои́, успевай. Деревня! Не городские – гончие поджарые, с вешалки спрыгнули!
А перед этим к своей груди тихонько приложила, пока никто не видит. Снова себя мамочкой почувствовать. И чтобы контакт был с ребёночком – настоящий. Примета такая.
Вечерами же – в тёплый навоз лошадиный его до головёнки закутывала. Лошадь животное чистое, на овсе вскормленное, от него только польза. Такие вот «процедуры-ванночки». После в отваре чистотела ополаскивала. Аж кожа скрипит, когда вытирала, тряпицей льняной оборачивала, самотканой, чтобы тельце дышало. Уложит на грудь большую, как в люльку, с улыбкой всё – в радость, дело-то знакомое, привычное, и душа заходилась, словно свой первенец вернулся. Видать, соскучилась, давно, не нянькала, а внуков ещё надо дождаться. Выпускать неохота, Митяй спит уже, а она всё ходит в большой комнате, напевает про волков злых, но не страшных, лисиц хитрых, но не злых, вечных страдальцев зайчишек, ворона мудрого, немногословного, конягу-труженика.
Митяй повеселел. Мамка его звонила часто – всё расспрашивала. Благо у тётки почта – через шоссейку перейти. Тут же было доложено, что дело пошло на поправку.
Прилетела мамка, гостинцы привезла тётке, еле чемодан допёрла. Взяла Митяя на руки, а он вдруг – как пукнет, аж сам вздрогнул от неожиданности.
– Эк, дёрнул! – обрадовалась тетка. – Как его забирает! Щас улетит на ракете!
Развернули его, он ножками дрыгает, как на велосипеде. Глаза весёлые, пропала из них голодная дрёма. Песни поёт на своём собственном языке.
– Ты погляди, – искренне радовалась тётка, показывая складки на локотках, – перевязочки какие! А щёки-то – головёнка раскачивается! От мы его, козьим-то молочком поправим! – Лбом – круглым, большим, белым от косынки – забодала, запричитала:
– Дубки, дубки…
Засмеялся Митяй заливисто, с удовольствием, аж слюнка прозрачная изо рта пролилась на сторону. А мамка ещё громче засмеялась и забрала с собой в Москву.
Когда Митяй подрос, решили отдать его в круглосуточный садик. Походил он некоторое время. Как-то два сорванца, дождались, когда он уснёт, взяли кружки и стали переливать воду из одной в другую. Терпеливо, долго переливали – прирождённые пакостники, хоть и малолетки.
Митяй возился во сне, вертелся, чмокал губами и – сам не зная как – описался.
Скандал. Ему было стыдно, он не понимал, как это могло случиться, а коварные пацаны хихикали, не признавались. Девчонки презрительно крутили носиками, хмыкали, косичками мелькали. И от этого, почему-то было особенно обидно.
Не выдержал Митяй, схватил большого гуттаперчевого верблюда и стал бить по голове обидчиков. Сначала одного, потом другого догнал – лопаткой игрушечной. Поднялся рёв, пацаны испугались. Возмущённые родители настойчиво попросили убрать Митяя из группы: мол, семья неблагополучная, надо срочно принимать меры.
Пришлось маме опять с тёткой договариваться.
И пробыл Митяй в деревне до самой школы. Чужой – среди своих. Стоило тётке отвернуться, тут же его, как самого маленького, начинали братаны жучить и доставать. Обзывались обидно: – «батюшка – говно», «конина из-под жеребины», а то и просто – «говяшка». Но уличным пацанам в обиду не давали.
Дрались сообща, молча, с остервенением.
Спина к спине. До первой крови. Но проходило несколько минут – и опять вспоминались со смехом давешние дразнилки. Хотя и попадало братанам за это при случае, если тётка вдруг услышит, но Митяй рано понял: – надо надеяться только на себя. И – никаких слёз! Не давай повода! А лучше – сразу – ответь. Пускай наваляют. Стой – до последнего! Он рано потерял ощущение боли и опасности. Словно шторка опускалась на глаза, туман пеленал голову, и он отчаянно лез на рожон – жилистый, вёрткий, как намыленный жгут, беспощадный не по-детски. Темноволосый – в отцову казачью родню. Только вот – росточком маловат – чуть выше среднего.
Весь день на речке пропадал. Загорел до черноты. Кликуху деревенские дали – «Копчёный». Так он с ней и пошёл в эту жизнь.
Пацаны постарше отловят, за руки-ноги раскачают и с обрыва в реку! Ужас! Глаза открывает – вода мутная, несёт стремительно! Барахтается, всплыть пытается, за жизнь свою сопливую борется. Старшие тут же – следят, чтоб не унесло далеко, не захлебнулся бы ненароком.
Снизу, со дна, прохлада будоражит, а всплывёт, и вода – всё теплее, сверкает под солнышком!
Быстрина изгиб делает и прямо на отмель, на мелкий песочек, галечник разноцветный. Стекает мокрая вода с тела, с прилипших к ногам трусов. Темнеют от влаги камешки, ярче становятся, но тут же высыхают на жарком солнце, блекнут. Глаза сощуришь, они слипаются от воды. Запах от реки, прохлада от кустов ракиты. Дышится полной грудью. Житуха!
Камешек на отмели нашёл с дыркой – «куриный бог». Повесил на шею на бечёвке. На счастье, как местные говорили. Куда-то он потом затерялся, да так и не нашёлся.
Однажды окружили его в конце пустынной соседской улицы трое. Подловили, когда был без братанов. Видно, хотели на кулачках одного испытать.
– Ну чё, говноед, засранец, жук-навозник, воняшь тут по всей нашей улице.
Митяй побелел. В прыжке, не теряя времени на разговоры, головой въехал в лицо самому рослому, да так, что у самого кость лобная заныла. Тот закрыл лицо руками, присел, завертелся. Второму, не мешкая, отвесил обидную, хлёсткую пощёчину. Третий убежал. А Митяй постоял немного и ушёл. Брёл так, пока в сознание не вошёл, не понял, что кулаки надо разжать.
После этого его стали приглашать на разбираловки в разные концы села. Он шёл охотно. Сразу схватывал суть. Наводил резоны. И перестали ему навозом в глаза тыкать. Не то, чтобы побаивались – уважали. И старшие пацаны на свой пляж разрешили Митяю приходить, загорать. Это был особый шик. Разговоры, сигареты.
Однажды они залезли с братанами на разорённую в коллективизацию колокольню. Далеко видно – до горизонта. Наверху – прель, запахи необычные. И гнёзда, где птицы высиживали в таинственном полумраке птенцов. Грудка тёмная, горлышко – светлее. Пёрышки переливаются зеленоватым. Глазки – чёрные, блестят бусинками. Дышит, живёт. Взрослые птицы волнуются, предупреждают:
– «Скриииии» – скрывайся! Не подходи к гнезду!
Смелые, а сами-то – с ладонь взрослого человека, тельце вытянутое, клюв небольшой, блестящий.
– Ласточки? – почему-то шёпотом спросил Митяй. – Вишь – хвост вилкой.
– Стри-и-и-жи. Похожи только на ласточек, – тихо сказал старший брат Иван. – Вырастут, свалятся однажды с купола, сразу на крыло лягут, и два года будут потом летать без посадки!
– И не спят?
– Не-а! И во сне летают, – ответил Иван с завистью. – У них же всё есть! С облака пьют, солнцем греются, мошку ловят на лету, скорость большая! Чё еще надо? Счастье, как говорится! – Иван зажмурился от удовольствия.
Митяй потом часто вспоминал колокольню, острые лучи солнца в прорехах купола, как сноп белого света. А главное – удивительных стрижей, которые вот так, запросто, не ударившись о землю, парят, и им хорошо в высоте! Распрями руки в стороны, падай с крыши и – пар! Тишина над миром. Нет ни врагов, ни друзей – один ты, как в момент рождения. Летишь уверенно, потому что знаешь, куда надо лететь! Туда, где все родились. Время потом перетасовало, а в памяти – то – первое осталось! И все к нему стремятся: хотя бы ненадолго вернуться, сил набраться, вспомнить себя, и уверенно лететь дальше, не ведая страхов и головокружения.
На зоне они к нему прилетали в злые, чёрные как чефир ночи. В лёгком забытье, на неразличимой меже сна и дрёмы. Митяй только вспоминал:
– «Скриииии!»
А может, примерещилось в вонючей духоте? Птицы и дети – под защитой Бога. И нечего им тут, в «хате», на зоне – делать!
К осени яблоки за пожаркой поспели, бесхозные, ничьи. Сочные, бокастые, кисло-сладкие, хрустят, сопротивляются. Чужие – они слаще ему казались. Митяй аж зажмурился от удовольствия.
А в этот момент подкрался сзади пожарник по фамилии Рябов. Толстый, вечно сонный. Лицо и впрямь – рябоватое, словно во сне воробьи поклевали, наделали мелких ямок.
Схватил его Рябов и поволок в пожарку. Посадил на стул и начал выговаривать: мол, безотцовщина, хулиганщина.
Дверь у него за спиной – не вырвешься. Метнулся Митяй, а тот как даст ручищей по голове. В ушах зазвенело. Застонал Митяй, сдёрнул конусообразное, красное, ведро со стенда, да как по ноге заедет козлу этому вонючему! По кости попало. Завопил – тот, схватился за ногу, а Митяй убежал.
Дошло до председателя колхоза.
И хоть Рябова не особенно уважали, но делу дали ход.
Приехала мама. Выслушала всех, всплакнула, допоздна с тёткой о чем-то долго говорили, а наутро – увезла его домой, на родину: на лавочку в метро и в коммуналку, перенаселённую очумелым людом и детишками.
Так он и болтался в метро: с лавочки – в дежурную. Поднимется наверх, эскимо купит за двадцать копеек, на солнышко вприщур глянет, ослепнет ненадолго, и назад. В метро – спокойней, привычнее. Ну и что же, что шумно, зато – родней, всё до пылинки знакомое!
Отец к тому времени стал выпивать по-настоящему. При работе машиниста – как скроешь? Заснул, станцию проскочил. Станцию своей мечты, как говорила мама. Спутался с какой-то женщиной, из столовки. Всё – наперекосяк.
Приходил домой пьяный, буянил. Доказывал, что он отличный машинист. Грамоты доставал, хвастался, нёс хмельную околесицу:
– У меня же профессия в руках! Я же – профессор в своём деле! Зачем меня так – в кувет! Я ж без метро – не жилец!
Больно было Митяю, и мамку жалко до слёз. Он заранее чувствовал приближение ссоры. Хитрил, прятался за шкаф, орал там, падал на пол, пытаясь отвлечь родителей от скандала. Но они, словно слепоглухонемые, – не понимали его хитростей. И друг друга перестали понимать.
А он вдруг ощущал остро, что виноват. В том, что он есть на белом свете, мешает взрослым, занятым родителям, что не может остановить ссоры. Пугался этой неожиданной злобы, в двух самых близких и дорогих людях. Откуда? Когда случилась эта дурацкая подмена?
Болело внутри, разрывалось от страдания. От того, что не смог отогнать тучу скандала, которая накрыла их всех большим, душным пологом. Задыхаются они под его тяжестью, трепыхаются, вырваться хотят, а он обволакивает, пеленает волю, гасит сопротивление.
Понимал свою бесполезность Митяй. Чудилось ему, словно он чужой – зашёл с улицы, а на него посмотрели вежливо, да и спровадили: – иди, мил человек, без тебя тут разберёмся!
Он прижимался к мамке – она же слабее отца! Смотрел на неё снизу:
– Ну, гляньте, какой же я – чужой, посмотрите внимательно, люди мои родные! Одумайтесь!
Отец говорил:
– О! Уцепился за мамкину юбку, тоже мне – мужик!
Митяю хотелось обнять отца. Вдохнуть несмываемый запах метро. Но отец бросал обидную фразу, булавку предлагал, – к юбке пришпилить мамкиной. Чужим становился, словно специально – отодвигался. И пропадало у Митяя желание быть к нему ближе, прилепиться и радоваться, что у него такой отец.
Возненавидел Митяй скандалы. Предпочитал тихий разговор.
Так и действует лучше, и прислушиваются повнимательней. Он это скоро понял.
Митяй помнил ужас того дня, когда им сказали, что отец – погиб на работе.
Узнал позже – прыгнул под поезд, с мостика, на переходе. Всё рассчитал, знал, что сделать, чтобы без осечки.
Перед этим приходил домой молчаливый, мрачнее тучи. Думал о чём-то сосредоточенно. Складка на переносице, как траншея. На вопросы Митяя, что-то отвечал кратко, глухим, неживым голосом.
Неожиданно поднимал на Митяя глаза – серые, глубоко посаженные. Словно лампочки небольшие включались где-то в тёмной бесконечности тоннеля. Сразу и не определишь, что они там осветили – далеко очень. И от этого становилось необъяснимо тревожно и страшно.
Митяя тянуло к нему, и он не знал, отчего это? Просто оттого, что тот – его отец? И только он один мог объяснить сыну, как мужчина мужчине, самое важное правило, без которого дальше невозможно жить и дышать, Митяй ему поверил бы без всяких оговорок.
В чём могла быть его тайна? Выходить на работу каждый день, водить поезда, гордиться – не тем, что незаменим, а своей полезностью для людей. Какая – невероятная ответственность!
Может, этой ответственности он и не выдержал, надломился, не рассчитал силы. Но он же – взрослый, значит, надо было стоять! Терпеть и стоять, как солдат на посту. Сам же – говорил!
* * *
Приехала тётка Акулина. С порога запричитала в голос, до жути:
– На кого ж ты нас покинул, Серёженька-а-а! Посмотри, как жена плачет, сыночек!
Осиротил ты нас, Серёженька-а-а-а! Бросил – сирых одних – в чистом поле!
У тётки похороны шли нескончаемо. Муж, дядя Демьян, работавший пастухом, умер в пятьдесят лет. Крепкий был с виду, не болел, не жаловался никогда, но сгорел в одночасье – что-то с лёгкими. То ли на земле поспал около стада, застудился, то ли от самосада злющего, который сызмальства курил немерено.
Вскоре два младших сына ушли, обоим по двадцать пять было. Один в аварии разбился на «Жигулях», возвращяясь из райцентра, второй заступился за соседку, которую пьяный муж за волосы таскал. Отбил её, а мужичок поддал ещё, ночью вызвал в проулок, пырнул ножом. Пока скорая помощь приехала, довезла до райцентра – так на столе и умер.
И сейчас тётка всех помянула, слезами полила обильно все могилки – от деревни родной до самой Москвы.
И стало горе – общее, не забываемое. Долго шепталась с отцом Георгием – долгогривым, бородатым, припудренным первой сединой, в рясе, с лоснящимися прорезами сбоку, с небольшим животиком, словно кто-то кулачок снизу подтиснул.
Поп подробно расспрашивал тётку, маму, морщил высокий, с залысинами лоб, поправлял окладистую, кудрявую, хмурился. Те умоляли, чтобы отца отпели по-христиански, по чину. Ведь уныние, самоубийство – первейший грех.
Неожиданно произнёс явственно, сочным, поставленным баритоном, безоговорочно:
– Пусть будет – несчастный случай на работе! С Богом!
Достал замусоленную толстенькую книжицу из кармана. Загнусавил молитву заупокойную. – Сергия… Раба божия? – дивился Митяй. – Какой же отец раб? Сильный, работящий был. Бог – рабовладелец? Или отец мог только у Бога быть рабом, а у других – нет? А мы, все, тоже, что ли, – рабы? У Бога?
– Путалось всё в голове, не складывалось.
– А ведь Митяй тоже мог бы стать пастухом, как дядя. Табуном лошадиным, не таясь, любовался бы. И не ведал бы про город ничего. Так – издалека, в телевизоре, вечером, засыпая. Приезжал бы иногда – зимой, в гости к родне, и скорее – домой. В деревне – хорошо!
Коротать ночь у костра. Рядом собаки – сильные, умные, верные.
Стадо спит. Картошка пропеклась в золе, хрусткая, пачкает губы. Долго не остывает, обжигаясь, глотаешь, и нет ничего вкуснее!
Мотыльки вьются, хороводят, напоследок перед гибелью ткут невидимую шёлковую материю, пляску последнюю исполняют. Или сигналы кому-то посылают в темноту?
Родное всё, знакомое. Ночь, день, запахи, звуки. Спокойно от этого, несуетно.
И так – каждый год. И всё – вмещается! Всему место находится, ничто не пропадает, а плодится, поспевает. Умирает, но и рождается!
* * *
Забился дома в угол. Плакал тихонько, чтобы никто слёз не увидел. Не хотелось ему на кладбище ехать. Не хотелось удостовериться, что отца закопали, и это – насовсем.
Тесно, проходы узкие, втиснулись бочком, гроб над головами приподняли, чтобы за острия металлических оградок не зацепиться.
Пробрались к свежей яме кое-как, тело всколыхнули, обеспокоили.
Сбоку, из-за бруствера показалась она бездонной, как Тартар, про который он на уроке истории узнал. Гроб темнел сверху узенькой, коричневой дощечкой. У Митяя закружилась голова, он испугался, что сейчас упадёт вниз, пробьёт крышку и окажется в цепких объятьях, один на один с мёртвым отцом.
Голову поднял – деревья стоят равнодушные, листва еле шевелится.
Он схватил пясточку желтоватой землицы, сухой, сочащейся между пальцами, сжал её покрепче. Земля просыпалась вниз, припудрила бессмысленные кружева на крышке гроба. Стенки могилки осыпаются, насекомые какие-то ползают по подрубленным корням.
– Деревья оплетут гроб новыми корнями, сожмут, обнимут навсегда, и отец сможет приходить только во сне, – подумал Митяй.
После похорон ушёл в дальний угол кладбища, шептал тихо, присев на чужую лавочку возле ухоженной могилки:
– Папка, зачем ты это сделал? Как мы без тебя? Как же так? Бросил нас! Почему? – слизывал слёзы, а они копились на верхней губе, горькие, как лекарство.
Его искали долго, настоящий переполох получился. А мамка схватила его в охапку, заплакала, увлажнила ему щеку, шею такими горячими слезами, что Митяй не выдержал, словно растворился в этой обжигающей влаге, и сам заплакал в голос. Так они постояли в обнимку, не зная времени.
Поминки были. Кутья, бульон с пирожком. Водки выпили. Лица слегка разгладились, помягчели. В центре стола стоял на пустой тарелке стакан водки, накрытый куском хлеба, приборы – словно отец сейчас войдёт, вытирая руки полотенцем, кинет его на спинку стула и поест с аппетитом, неспешно, так что вкусно со стороны смотреть, и слюнка прибежит перед обедом, как бывало прежде.
– Он же от водки, может, и погиб, – глядел Митяй исподлобья на прозрачный стакан. – А теперь вот… и нет отца. Зачем же налили водки?
* * *
Пришла зима.
И стали Митяя донимать чирьи, фурункулы и карбункулы – это когда несколько злых корней внутри разрывают тело, раскалёнными гвоздями, да так, что температура с ног валит и шею не повернуть. Всю зиму дрожжи жидкие пил. По дороге из школы заходил в бакалею, выпивал стакан за двадцать копеек. Опротивели – донельзя, но – к лету прошло, только вся шея, как полигон на манёврах, изрыта была глубокими траншеями исковерканной, перепаханной кожи. Поэтому не любил раздеваться при людях.
Унижение и нищета, давили Митяя к земле, и не шла учёба, не лезла в голову, потому что рядом сидели весёлые, ухоженные детишки, при хороших, заботливых родителях, чистенькие, правильные. Всё – на месте, ровненько.
Митяй – тоже чистенький, только в стиранном-перестиранном, подштопанном, перешитом-перелицованном.
Он чувствовал, словно клеймо на теле под всеми этими тряпками несуразными, – «нищий»! И не смыть его ни в какой бане самой злой мочалкой, потому что – внутри, в самой серединке тавро коричневое, несмываемая отметина – пропечаталась.
Толстых с детства невзлюбил. Чудилось в этом благополучие, сытость и усыпляющий достаток в чужом, враждебном доме.
Цеплялся за малейшую возможность с ними подраться, повздорить.
Его сторонились. Некоторые заискивали, подхалимничали, «угощать» пытались: яблоко, конфеты, но ещё больше его раздражали, потому что понимал Митяй – с барского стола эти дары, не от сердца.
Грустный Новый год. Большая еловая ветка, немного игрушек, мишура, подарок казённый с двумя мандаринками, и маленькой шоколадкой. А за окном светятся другие окна: праздничные люди, гости. В праздники хуже всего – совсем некуда себя деть.
И друзей настоящих не было, разве что Лёнчик, стриженный наголо, двоешник. Голенький – и кликуха, и фамилия!
Брат его старший сидел в тюрьме. И наколку он первый сделал из класса, и курить начал раньше всех. Пацаны его побаивались и держались в стороне, памятуя о брате, который может вернуться из тюряги в один прекрасный день. Хоть и ненадолго, потому что рецидивист, а всё равно – опасно.
Не верил Митяй словам, никому не верил. Пустое это, туфта. Непослушный был. Слушал нравоучения, но не слышал, не выходил из горестной задумчивости, в каком-то столбняке находился.
Многое научился понимать, но бакланить, попусту болтать не любил. Отмалчивался, хмурился. Предпочитал действовать скоро, жёстко, молча.
Однажды мама суп куриный приготовила.
Прозрачный, красивый. Кружочки жёлты мерцают, плавают, морковка вспыхивает оранжево, лапша маминого приготовления – красота! Вкусно! Потом увидел в мусорном ведре, под раковиной, голубиные перья. Блёклые, скомканные влажной тряпицей. Кошка Муська часто ловила голубей, тащила их домой. Благо крыша – вот она, руку протяни к лестнице пожарной из комнаты в коммуналке. Они и на окошко присаживались, любопытствовали, косили оранжевым глазком, вертели головёнкой.
– Значит, мама сварила суп из Муськиного голубя? – Отобрала у кошки добычу?
Дико ему показалось, неправдоподобно. Спросить постеснялся.
Не хотел обижать.
Сначала решил – вывернуть суп этот, сразу ставший сиротским и горьким, – в унитаз! Да голод любого обломает. Присолил слёзками, бисером мелким крупного помола, но съел.
И осталась эта унизительная заноза внутри, никак не выдернуть и не забыть. Саднит и ноет, до звериного рыка доводит, до затмения умопомрачительного. На всю жизнь в той самой шкатулке, куда он все обидки складывал.
И не убывала она, не уменьшалась, и не закрыть – не выкинуть, топорщится колючее нутро.
* * *
Он был уже настоящим забиякой. Только еще больше озлился на всех и вся. Не от зависти, от безнадёги.
Он рисково вылезал из окна, подтягивался на руках, полз по жести к слуховому окну, линяющему лишаями старой краски.
На чердаке лежал припудренный пылью хлам.
Связки старых книжек, учебников. Он листал их. Здесь ему было интересно читать, играть в слова, переделывать их: каблук – «калбук», диагональ – «дионагаль», автобус – «аболтус». Рассматривал карты, размышлял о пёстром ковре мира, в котором множество разных стран, дорог, морей и океанов, людей и языков. Трудная, но радостная жизнь, наполненная доброй усталостью, тёплым домом, вкусной едой и добротной, удобной одеждой, которая нравится и годится на разную погоду.
Патефон в коричневом дерматине.
Пачка старых пластинок бурых конвертах из обёрточной рыхлой бумаги, словно йодом накапали на неё. Дырка в центре, кружок синий, красный. «Тачанка», Лидия Русланова, Шульженко – «Синий платочек». Шипела, крутилась пластинка, чёрная, как гудрон. Толстая игла двигалась, прижималась к тусклому глянцу, извлекала из толщи времени мелодию.
Чудилось, что вклиниваются какие-то неведомые, необъяснимые голоса из запредельной дальности. И было немного странно и жутковато, потому что он не знал – что им ответить, тем, невидимым в тяжёлой, угольной, ископаемой толще старой пластинки. Может быть, это было важно, и они спрашивали, посылали сигнал, ждали, а он безмолвствовал, обрекая их на неведомые страдания, так и не оказав помощи?
Здесь же нашёл прозрачный шар. Внутри наклонилась к жёлтому пляжу пальма, море ленивыми белыми барашками набегало на песчаный берег. Солнце в зените. Весёлый мальчик на спине дельфина. Всё это замерло в прозрачном желе, разбавленноем крохотными пузырьками.
Что-то было в этом шаре, кроме видимого глазу. Что? Что ещё было в этих пузырьках, без чего нельзя жить весело, празднично, в радость? А без чего нельзя – жить? Без мамы, еды, воздуха, солнца, красивой яркой одежды, денег? Чего ещё?
Одна пластинка называлась «Луна и мозги». Начиналась она с залихватского гитарного перебора, потом томный женский голос, манерничая, проговаривал:
– Как нынче чудесно! Луна-то как сияет! Интересно – есть ли жизнь на Луне?
Мужской голос, лишённый всякой романтики, грубовато отвечал вопросом на вопрос:
– А мозги у тебя есть?
Потом шёл долгий, нудный разговор на две эти важные для собеседников темы. Митяю становилось неинтересно, он отвлекался, представлял Луну, как большую таблетку валидола на маминой тумбочке, но только серую, пыльную. Не дослушав, он менял пластинку на заряженный бодрой энергией «Марш авиаторов», ясный и чёткий, как фигуры пилотажа в синем небе. А ещё выше – стрижи!
Однажды, в полнолуние, глядел Митяй в узкую прорезь вверху окна камеры, и резанул его вселенский, знобкий холод одиночества. Вспомнил пластинку бестолковую и подумал:
– Может быть, Луна – место ссылки самых отъявленных одиноких душ? Вечные поселя! Или души только на Земле могут существовать?
Голуби косили чёрным глазком, в оранжевой радужке, вертели головёнками настороженно, перебирали красными сафьяновыми лапками. Радужным оперением поблескивали. Потом успокаивались. Гуркали деловито, будто ядрышки негромкие перекатывали, делились новостями, которые принесли ему, разглядев с высоты своего полёта только самое важное.
От стрижей, пролетающих на родину – в Африку, или в Германию, к острым шпилям старинных кирх. Послушать, взволноваться и ринуться в необъятное, как рокочущая, яростная музыка органа, – бездонное небо. Стрижи – души лётчиков? Кто же ещё такой простор выдержит и не задохнётся?
Тишина приходила к звукам, словно это был первый день мира, и шуметь и разговаривать ещё не придумали, словами лукавыми играть – не научились.
Он становился тих и задумчив. Если бы кто-то сейчас его увидел – не поверил бы, что это тот самый пацан, который на пустыре за гаражами не испугался «один на один» выйти и победить на кулачках боксёра-разрядника «Опору». Витёк Опорышев, хам и оболдуй, отбиравший копейки у малышни, наглел с каждым днём и созревал неизлечимым нарывом для какой-нибудь беспросветной глупости, чтобы получить прописку на зоне. Весь двор болел за Митяя, и он – не подвёл.
Изустные рассказы о его подвигах гуляли по району. И прибавлялись приводы в местный отдел милиции. Он слушал всю эту ушещипательную ерунду от толстых блондинок в несуразной ментовской форме, презирал их и думал:
– Курицы-женщины в перьях! И чего они все – блондинки? Тёмных что, не берут в ментовку? Эх, кабы не мамка – меня бы только и видели!
Тётка приехала, покупки сделать перед школой. Пошли по магазинам. Его взяли.
Насмотрела платьишко Дусе, дочке своей.
– А вот давай-ка на Митьку примерим, – предложила тётка. – У него такие же габариты! Ну, может, – попа помене. – И лезут к нему с этой – коричневой… тряпкой несуразной. А он стал драться. Разозлился. Так было обидно. И убежал. Стыдно было перед тёткой, но остановиться, успокоиться уже не мог: вертел им кто-то невидимый, и не совладать!
– Ну, чисто – волчонок растёт! – сокрушалась тётка, мрачнела, на маму боялась взглянуть.
Мамка, рано постаревшая, молчала, смотрела сухими глазами и ничего впереди не видела. Что она могла поделать? Тут – мужчина должен поговорить строго. На место поставить, уверенно, без нажима, раз и навсегда образумить. Да нет его – мужчины, и вряд ли заведётся. Кому она теперь – с «довеском» нужна, молодая старуха.
* * *
На лето уехал в деревню, к тётке, помидоры, огурцы собирать. Десятый ящик за работу отдавали, расплачивались. Митяю не нравилось это занятие. Он уже себя взрослым считал – восьмой класс закончил, с осени в ПТУ должен был пойти, в «кабловку», как местная шпана окрестила училище.
И вертелась вокруг него Зиночка. Толстая, рыжая, нос шелушится от солнца. Румяные щёки вмиг вспыхивают пожаром от одного взгляда, так что все конопушки изнутри светятся, поспевшие в одно мгновение, на глазах. А глаза – зелёные, большие, плутоватые.
Тоже гостила у родни, откуда-то с Урала приехала. Постарше была – в десятый перешла. Сиськи рвут платье, – тесное в подмышках. Хи-хи. Ха-ха. Смеётся без конца и без повода, только что на спину не заваливается – так смешно! Дура!
Как за стогом сена оказались? Вечером, уж все разошлись, пыль улеглась, коров по дворам развёл пастух. Прохлада вместе с пылью на дорогу опускается.
Целовались, мусолили влажно, горячие губы. Митяя дрожь пробирает, а она на коленки встала, спустила рывком с него штаны, в руку взяла, сжала несильно и неожиданно для Митяя – поцеловала. Так – самую малость, губами слегка прикоснулась. Как электричеством кольнула.
И тут – фонтан вырвался ей в лицо!
Смеётся она, заливается, остановиться не может, так её смех разобрал.
Лицо косынкой вытерла.
Митяю – стыдно, неловко. Худобы своей, штанов этих старых, выцветших, что всё так неудачно.
– А мне говорили – гроза всего района! Ладно! – сжалилась она. – Айда на речку. Пришли. Речушка в этом месте спокойная. Разделась она, купальник пёстрый, соски, выпирают, словно шарики железные от тёткиной кровати привинтили к груди, дразнятся и манят – возьми в обе горсти, сожми крепко, разомни, пусть мягше станут. Только всё наоборот – ещё крепче они становятся!
Митяй глаза отводит, стесняется, а руки, как и не его – сами тискают.
Искупались, на другую сторону речки заплыли.
Зинка, будто русалка речная, плещется, кончики волос намокли, потемнели.
– Пойдем – сушиться, – предложила. – И бегом в баньку ближнюю. Только пятки белые сверкают в сумерках. Вода с неё капает, словно китиха на берег выползла. Запыхалась. Митяй – следом.