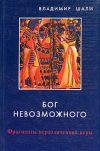Читать книгу "Мокрая вода"

Автор книги: Валерий Петков
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Боб
В тот день, как обычно, сдал смену на Замоскворецкой линии, а добираться надо было на Юго-Запад. На – «Юшку».
В кабине за смену надоело – тесновато. Форменку в пакет убрал, майку надел, вошёл в вагон. Фирменный, «Красная стрела – 75 лет». «Сердца́ столиц соединяя» – слоган такой бодрый. Над дверью – «Москва – Санкт-Петербург». А если он обратно поедет? Будет путешествие из Петербурга в Москву?
Народу! Будто в сауну попал. Каждый пассажир, как лампочка, выделяет тепло. Девять миллионов человек в день – иллюминация. Перед самой войной чуть больше тысячи за сутки перевозили: рекорд был установлен! Сейчас от «Проспекта Мира» до «ВДНХ», теперешняя ВВЦ, установили какие-то фантастические агрегаты, которые воздух охлаждают, и очищают, – экологически чистые и влажность не увеличивают. Нигде в мире таких нет, а у нас есть.
Мало пока, но будут на всех ветках.
– Только вот – когда? Пока же – вентиляционные шахты торчат там и сям в самых неожиданных местах. Жабры метро.
Только вошёл в вагон – сзади ка-а-ак двинули, – ойкнуть не успел! А ещё втискиваются, плечом буровят, ввинчиваются упорно, как таракан под край обоев.
Какой-то мужик соседа задел. Тот его сходу послал. Немолодой, видно, что работяга, «гегемон» из советских передовиков производства.
Пальцы плоские, работой раздавленные, с трауром под ногтями. Туфлишки не чищенные со дня покупки, авоська с «тормозком» обеденным.
– Понаехали! – брызжет слюной через редкий редуктор оставшихся в пасти пеньков.
– Я тя – в Рязань родную счас отправлю! – отвечает – второй. – С-с-с-котина! – Шипит, как шланг дырявый.
Второй сапог – до пары – к первому.
Сцепились, чубы сивые у обоих, а как пацаны, никакой солидности. Так на перрон и выкатились, собаки драные!
Люди за спиной забурчали, завозмущались, завозились. Тётка не разобралась, что к чему, заблажила: – «Понаехали – чучмеки!». Культурная такая, москвичка, значит.
Таких уже не переделаешь. Видел я настоящих рабочих, – не чета этим!
Пожалел я о своём легкомысленном поступке – чего в кабине не поехал?
В тесноте, да не в обиде – это неправда! Все обиды от неё возникают рано или поздно. Весь вопрос – насколько долготерпения хватит тесноту переносить, а оно не бесконечно, так уж мы устроены.
Пока терзался – «прибило» моё усталое туловище к женщине небольшого роста.
Волосы русые, длинные, как туман, лицо прикрывают, – русалочьи; только пышные, духовитые, – словно в свежую копёнку уткнулся, даже дыхание, перехватило.
Белая блузка, воротничок приоткрыт завлекашно, небольшая грудь виднеется, девчоночья, как две птахи: – лишний разок глянешь, спугнёшь – упорхнут.
Стоит, глаза в пол потупила. На руке две царапинки маленькие – розу в вазу ставила или кошка прицапнула коготками, играючи? Нет, думаю – всё-таки кошка оцарапала. Но почему для меня это так важно?
Ничего не слышу, и все люди будто отодвинулись и уже не мешают, не отвлекают. Словно я, кончиком карандаша в точку вошёл, утончился, сосредоточился.
Молчим, а я будто невзначай ищу возможность прикоснуться. И дурь с тем скандалом уже улетучилась, неважной сделалась.
Кто же она? Под глазами – первые «лапки» уже обозначились, как след синички на свежевыпавшем снежке. Лицо бледное, слегка удлинённое. Глаза карие, большие. Не славянское лицо, не здешнее. Но и не восточное. Французское, скорее. В Москве, в метро! Не замужем, – что-то мне подсказало внутри, уверенно, что это именно так.
Стоим оба, не дышим, повернуться нельзя – некуда, да и не хочется. Наоборот, возмечталось вдруг, чтобы притиснули, да посильнее!
Чуть-чуть сместились в сторону друг от друга и замерли. Игра такая – для взрослых? Жалость к ней, беззащитной, во мне поднялась в три человеческих роста, как заборы на Рублёвке. Кто она, для чего здесь?
Вспомнил уничижительное бабушкино выражение про соседку-вековуху: – «Ей же и супу некому сварить! Каждая кочерыжка о счастье мечтает!». Робин Гуд! Вон их, сколько вокруг – тьмы и тьмы. Жалелки на всех не напасёшься, их же на десять миллионов больше, чем мужиков.
Вагон то качнёт, то тормознёт – ничего необычного, метро. А мы на одном расстоянии, как два магнита с одной полярностью, изредка соприкасаемся, как бы невзначай, выпуклыми местами – куда их девать. У меня животик небольшой уже наметился: работа, в общем-то, сидячая. Подтянул я, прибрал животик-то свой, труднее дышать стало. Объём ведь – несжимаем!
Пантомима или танец? Сумбур в голове, а я в тот момент и не вспомнил, что жена дома, сын. Затмение, наваждение.
– Чужая жена – лебёдушка, своя – полынь горькая!
И желание во мне – горячей волной, даже неприлично: что, – думаю, – как пацан!
В башке крутится: – а, что, если – спросить: где выходите, на какой станции? И боюсь, вдруг скажет – на следующей, а это не моя остановка! Ну и что? Да – ничего – потерять жалко!
Слегка нас развело. Вижу – руки она опустила. В одной сумка белая, простая, без выкрутас, вторая рука висит вдоль тела – кажется, возьми ее за эту мягкую руку и выходи! Ощути тепло, доверчивую податливость.
А езды мне всего четыре остановки до «Театральной» осталось. Странно: – при резком торможении – не кидает нас на людей, застыли, как привинченные к полу! Сейчас, выйдем, наклонюсь к ушку и спрошу – как зовут, красавица? В меру развязно: – мол, и не такое видывали, но чтоб – безотказно, наверняка закадрить. Ловелас со стажем!
И, не сговариваясь, поворачиваемся к выходу. Я и не спрашиваю ничего. Всё вроде и так ясно. Парное катание, танцы на льду! Не раз замечал – муж с женой поссорятся, и двигаются, рядом молча: лица злые, улыбаются натужно, и вроде чужие с виду, и вроде бы и нет!
Обязательная программа!
И мы с ней так же. Держусь за поручень, её голова как раз мне в подмышки, секунду –
И прикоснёшься! Волосы дурманят, по плечам рассыпались. И смех мне почудился явственно, тогдашний – в тоннеле, звонкий, переливчатый, как вода на перекате.
– И птица, может, и не птица – вовсе! Кто она? Сирена морская, ставшая в метро Алконостом – символом тоски и одиночества?
Присела на плечо, и тотчас больно сдавило грудь. Улетела вскоре, крыльями овеяла и унесла спокойствие далеко, безнадёжно. Тоска угнездилась в душе, как на жёрдочке, помертвели глаза, блеск и живость утратили, белые стали, как сало, и безразличные к чудесному, пёстрому многоголосию жизни.
А вокруг обычный тарарам метро. Вагон, духота, пот по ложбинке спины стекает ручьём и впадает в то место, где спина теряет своё благородное название.
И приключился со мной – форменный «столбняк»!
Рот открыл, спросить хотел – выхо́дите? Но в горле спёкся ком. Пошевелил губами. Она поняла, хоть и не расслышала, улыбнулась уголками рта, морщинки еле приметные обозначила и кивнула, согласилась, молча – да, вот, выхожу. Глянула вроде мельком. Глаза с искоркой, выразительные, глубоко в меня заглянула…
И столько в этом взгляде! И Бог и чёрт, и мольба о помощи, и просьба пощадить. Ну да – за столько лет ожидания жизненный уклад уже выработался, как расписание в интернате, а я в него вторгаюсь. Кто такой, по какому праву? Не дай бог разрушу! Но и хочется ей, с другой стороны, чтобы пришёл мужик, разобрал бы этот серый забор, кособокий от времени, спалил его в костре. Чтобы на золе той седой, как на удобрении, выросло новое, крепкое, – надолго, основательно. Прижал бы к себе, обнял, чтобы поняла – можно на него опереться. И едва уловимый мужской запах после работы. Семья, одним словом. И всё это – в доли секунды, на уровне подкорки, интуитивно, то, что с генами передаётся веками от женщины к женщине и так отшлифовалось, что и одного беглого полувзгляда достаточно.
«Баба – она щипком жива»!
Вроде бы – чуть-чуть надо, но в чём сложность тогда? В том, чтобы это «чуть-чуть» было каждый день! Нужна любовь, а её – нет. Где ты, – суженый, ряженый, для кого я родилась, росла, хорошела и расцветала, берегла себя и мечтала? Что во мне не так, где глаза ваши, мужчины? Не цените! Почему? Неуверенность зарождается, крепнет.
И вместо любви появляется ненависть, – столько усилий, а всё – впустую!
Ребёнок мог бы спасти, но нет его. И вот нерастраченная нежность дарится кошкам, собакам, а в ней самой разрастается – крайний эгоизм, на грани помешательства. И, если, вдруг, после долгого ожидания приходит любовь, то это сначала кажется женщине покушением на её привычный эгоизм: сразу – в штыки! Просто так не сунешься. Вон как ощетинилась ёжиком! Только что не фыркает от возмущения, защищаясь!
– Охмурила злая принцесса Финиста, чарами, увела чужого, женила на себе, а девица раз за разом пёрышко отсылает – вдруг суженый, сыщется, одумается, вновь своим обернётся. Простое с виду, без затей, а на самом-то деле – далеко не всё так просто!
Доля её скрывается на том пере неказистом, а что есть важнее?
Нет сильнее жажды, чем любимого сыскать, и тут никакие железные каблуки, трижды стёсанные, железные посохи, троекратно изломанные, – всё не впрок! Всё страшнее дальше-то! Леса дремучей – застят дорогу мраком, ёлки гуще – цепляют одёжку ветвями, раздевают, высокие – неба не видать. И волк уж из сил выбивается, сердобольный, помочь пытается – серый зверюга. Погибель на каждом шагу. Пок-а-а-то – оно, счастье, сложится! И неведомо – сложится ли? И как верить надо, чтобы перебороть, преодолеть, заполучить заветное. Поди – помотайся по свету: – само не свалится к ножкам, как пальчики не складывай, да не заглядывай в глубины зеркала на святки!
Попотей, заработай, заслужи! Не унывай, слёзки собери в горсточку, закопай под кустом и – без устали начинай, сызнова!
Вышли – вместе на «Театральной». Ничего не вижу, двигаюсь как на автомате. Она идёт медленно, я поотстал немного. Загадал желание: повернёт на «Охотный ряд», – подойду, телефончик-номерочек попрошу, ну, а там – ля-ля-тополя!
Хотя и не люблю такие «заходы на пробеге». Бывало в жизни, конечно, но неохота повторять эту клоунаду.
Она тем временем на переход к «Площади Революции» пошла, – на Арбатско-Покровскую линию. Даже сзади видно – потерянная она, какая-то, двигается чуть заторможено. Или мне хочется, чтоб она не спешила?
Гипнотизирую со спины – оглянись, сразу кинусь к тебе.
Соколом по ступенькам взлечу, одним прыжком догоню! Не оглядывается, но идёт медленно-медленно, словно ждёт и манит – подойди же, спроси, сотвори глупость во благо! По лестнице поднимается грациозно. Влево-вправо, влево-вправо. Да. А у меня – ступор.
Толкают меня со всех сторон, шипят, а я и не чувствую, стою – улыбаюсь. Люди смотрят странно. Потом глаза опускают, словно догадываются, что я «не в себе». И стыдятся, что узнали, и стесняются этого открытия, и дальше – бегом! Мало ли в метро двинутых и блаженных – нарвёшься ненароком, потом не расхлебать!
* * *
Сколько стоял? Наверное, долго! Пришёл в себя.
Иду по переходу от «Театральной». Длинный подъём, как шершавая, потрескавшаяся спина бегемота, карабкаешься на неё. Два тоннеля впереди – влево и вправо, словно мощный затылок и скруглённые уши.
Вот и перрон – «Охотный ряд». Уф-ф-ф! Триста сорок шесть шагов насчитал с эскалатором. Зачем считал?
Надо вернуться. Ещё не поздно! Догнать, спросить, разузнать всё – где живёт, кем работает, что вечером делает. Может, на чашку кофе пригласить? Куда? К ней напроситься? Поезда только – у-у-у-ух – в разные стороны. Тугодум ты, Боба, говорю себе, главный тормоз на весь московский метрополитен!
В вагоне присел.
И тут щёлк – рифма:
Эскалатор ползёт,
Нас с тобою везёт.
Лишь за поручень крепче держись.
Только вот ведь беда:
Уезжаю я вниз,
В подземельную жизнь,
А ты – вверх от меня!
Навсегда?!
Даже в школе не было опытов! Тискались, чмокались, встречались, но вот стихов – не было! Одноклассник – Дима, задавали ему по строчке, он записывал, потом складно так рифмовал. Я его дразнил – «акын московский». Девчонки повизгивали от восторга, за ним табунком ходили, в рот заглядывали. Он-то это всё демонстрировал для Нельки Проценко. Мне это не очень нравилось, я тогда боксом и лёгкой атлетикой увлекался.
Как шутили одноклассники: – чтобы в нос дать и грамотно слинять!
Вот значит, какое потрясение на меня «наехало». Даже рифма прорезалась!
* * *
Костёр сильно дымил, три большие головешки крест-накрест горели плохо. Вставать и ворошить не хотелось: не холодно, а для декораций и так сойдёт. Тревожно было как-то.
Боб это заметил, засмеялся, взял со стола веточку укропа, протянул Василичу:
– Съешь! Нечисть – отваживает.
Тот машинально взял. Резковатый, терпкий вкус волокнистый стебель застревает в зубах. Подзавял, пока везли в такую даль.
Боб между тем взял большой фонарь, ушёл в сторону поля, что за лесочком. Вскоре вернулся, принёс несколько серебристых веточек: – полынь!
«Трава окаянная». И другое её название вспомнили, ставшее зловещим после взрыва, – «чернобыль»
Боб протянул Василичу две веточки:
– Вот. Если, Варя тебя спросит – что в руках: полынь или петрушка? – быстро отвечай: полынь! – Брось её под тын! – громко выкрикнет она и побежит мимо. И тут-то надо успеть бросить эту траву ей в глаза: русалка тебя не тронет. Если же ответишь: «Петрушка», – закричит она: «Ах, ты, моя душка!» – набросится и будет щекотать, пока не упадёшь бездыханный. И станешь вурдалаком, лешим, мужем русалочьим.
Василич посмотрел поверх костра. Впереди, по дальней кромке леса мелькнула чёрная тень.
Она просторным пологом развевалась на лету, и была похожа на солдатскую плащ-палатку.
Почудилось какое-то движение сбоку. Показалось, что от реки всколыхнулась бестелесно и тихо подплыла русалка Варя. А жених её вечный, Саня, тоскует, примостившись невесомо на ветке, и вот они друг перед другом, а встретиться – не получается.
Было ли видение, или то усталость да рассказы голову заморочили? Взрослый разум Василича сопротивлялся. Какие – русалки? Бред!
Свежесть наползала от реки. Сон пропал. Слух, зрение, мысль – всё работало чётко, ясно.
Из переднего кармана куртки Боба выглядывало серо-коричневое пёрышко, с едва заметными тёмными поперечинами полосок. Он перехватил взгляд Василича, взял перо в руки:
– Сова, её одёжка. Ночью охотится, а под утро возвращается к себе на болото. Перо обронит, и тот, кто его найдёт – будет счастлив.
– Так просто?
– Знаешь, когда произойдёт что-то невероятное, потом удивляешься – как всё просто! Чудо, оно – из простой мелочи рождается, и его только в последнее мгновение приметишь, и дивишься – как это прежде не замечал? Будто шаг сделал в сторону от привычного, лупу взял в руки и разглядел подробно, до прожилок, волосков, как хоботок у бабочки, когда она нектар пьёт, – счастье!
Вот есть мечта: ты её лелеешь, вынашиваешь трепетно – не дай бог примять краешек, какой от неловкости, пальцами грубыми цапнуть, приукрашиваешь ерундой всякой. И в один прекрасный момент надоедает вся эта возня! Махнёшь рукой, сперва расстроишься, что жизнь стала скучной, без искры, потом потихоньку забудешься. Даже досада иной раз посетит – вот, мол, взрослый, а повёлся на сказку!
И вот в этот самый момент – хлоп – свалилось на голову!
Загудела голова, как пустой барабан! Ты уж и не чаял, а оно – вот так, не, спросясь!
И стоишь, улыбаешься дурнем, и готов всем советы бесплатные раздавать – «Как дождаться счастья»! Гляньте – это же так просто!
Боб помолчал, потом произнёс
– Истинность чуда в благости, которая нисходит, если ты в это уверовал, а не в том, что ты это не можешь объяснить вот ЭТО – здесь и сейчас.
Боб вновь замолчал. Спрятался в бесконечные тоннели воспоминаний. Щёлкнул зажигалкой, блики заплясали по лицу, тёмные тени. Закурил, затянулся глубоко. Задумчивость была на лице вперемежку с мальчишеским выражением – почему?
* * *
С той поездки произошла во мне резкая перемена. Дома – всё невкусно, не в радость, скорей бы на работу. А там – голова всё время одним забита: вдруг она сейчас в вагон входит?
Или на эскалаторе, их вон – полтыщи, держится за поручень, грустит, может меня – высматривает?
Стал на остановках из кабины, выглядывать, выискивать. Беспокойный, сам не свой.
Даже на замечания нарывался от коллег, мол, внимательней надо. Один раз девушку, на неё похожую, довёз в кабине до соседней станции. Словно проснулся во мне. Со всеми инстинктами охотника, преследователя, самца.
На станцию въезжаем, например, – идёт, какой-то мужчина, по мобильнику разговаривает, улыбается, а у меня первая мысль: – может, это она вот сейчас ему звонит!
Хоть и не знаю точно, а ревность сильнейшая!
Или во-о-н тот: читает эсэмэску, лыбится от того, что помнит, скучает без него хорошая, милая женщина. Его женщина, не моя! А я всё равно к себе ситуацию примеряю.
Занятное ощущение. А на самом-то деле – скандал, потому что наперекор работе.
Вскоре перестали одного в рейс отпускать, подсаживали ученика.
Только – нет её, будто и не было вовсе. Тихий я стал, молчаливый, в себя всё гляжу и простить не могу – что же это я так нескладно!
Может, вот она – единственная, и – прозевал. Само плыло, а я варежку разинул! И тоска, и радость – ничего подобного со мной прежде в жизни не бывало.
Словно цветок расцвёл среди ночи, в неурочное время, хоть не ждал ты его, не гадал, увидеть не мечтал. И рад этому нечаянному везенью, и не знаешь, как им распорядиться. Красотой совей, притянул он тебя, заворожил, омолодил, но и напугал до смерти, а ты ничего поделать не в силах! И не спасёт тебя веточка чертополоха, не отмахнёшься крапивой от наваждения, преследуют чары горькой полынь-травой. Чертовщина эта днём и ночью, и ты – уже и не ты вовсе.
* * *
Кажется, я всегда мечтал быть машинистом метро. В детстве мама купила книжку-раскладушку: страницы толстые, рисунки на всю страницу. Маленький мальчик путешествует по Москве. И на одной страничке он в вагоне метро: спиной ко мне, коленками, на коричневом диванчике, высоком, пружинистом, на фоне чёрного большого окна, в деревянной раме; наверху – круглый белый плафон – донцем воздушного шарика. Смотрит, чуть повернув влево красивую русую головёнку, в темноту, во мрак тоннеля, с восторгом и удивлением. Под картинкой – текст. Запомнил навсегда. Даже в армии, ходишь, бывало, на посту, два часа как-то надо убить, – и спляшешь, и споёшь, мысленно; и там вспоминались эти строчки, из детской книжицы:
Только сел,
Только две ириски съел,
А уже – приехали!
Ого! Две ириски съесть – это три минутки! Вот это скорость! И мальчишка на картинке – залюбуешься! На таких ребят – надо бы равняться и брать пример, правильный паренёк!
Потом повели всем классом на экскурсию на ВДНХ. Музыка гремит, люди, как на праздник, сюда приходят. Глянул на входе: наверху – рабочий и колхозница сноп пшеницы над головой подняли! Все – золотые! И они, и сноп. А их – другие рабочие поддерживают снизу, плечи подставили. Одного узнал!
Точно – он! Вот, думаю, пацан вырос и стал знатным рабочим, передовиком и орденоносцем. Ну, конечно же, – он! Только повзрослел. Лицо волевое, мужественное, как у всех героев, таких в жизни почти нет! Может, один-два, скульпторам позировать.
Они и существуют только как символ, рождённый художником, чтобы призывать – будьте правильными, всё делайте правильно! Будь они с изъяном – им не поверят.
ВДНХ – место, где осуществляются мечты. А это и есть – счастье!
Я хотел водить поезда и посвятить этому свою жизнь! В какой момент это пришло ко мне? От «правильного» мальчика в книжке-раскладушке? Его потрясение передалось и мне, или там, на рисунке, во мраке за окном вагона, было скрыто для меня тайное послание, и мой детский ум, настроенный на волну таинственности и загадок, принял эту депешу из будущего, как самую важную на всю дальнейшую жизнь? Ни на секунду не мечталось, как обычно мальчишкам, – стать лётчиком, военным, пожарным, спасателем, пограничником. Всех этих людей везу я – по хитросплетениям тоннелей метро, и мне не страшно, я знаю про них всё, уверен – не заблужусь!
По 12-14 часов в сутки, по одному и тому же маршруту.
Стать ответственным за тысячи – жизней.
Расписание поездов, рекламные объявления и разные надписи в вагонах и на вагонах, в тоннелях, перегонах. Техническое обслуживание эскалаторов, ярко освещённые станции, пустые поезда – мгновенным промельком, без остановок. С каким секретом спешат они, в какой лабиринт, к каким скрытым переходам?
Это послания! Стучат вагоны, нумерация, код, отметины, – бессмысленный набор для не посвящённых и не принятых в НАШУ структуру. Посторонним опасно это знать, и ни к чему, а я могу узнать многое! Даже по интервалам летящих мимо поездов: я же буду знать шифр и выполнение расписания в точности – первый сигнал сверхсекретного послания.
Жди дальнейших кодов!
Будь готов!
Есть! К приёму – готов!
Поэтому учился охотно, добросовестно. Даже бывало – закрою глаза и зримо представляю себе: тоннель, несётся горящей стрелой поезд, точно – к цели, к станции; и знаю – что сейчас я, Борис Иваныч, машинист – должен делать, сидя в кабине.
– Да! Правильно, всё точно! Именно так! – справедливо нахваливаю сам себя.
И понял ясно – такая работа мне нужна, моя жизнь – должна принадлежать метрополитену, он уже послал мне знак.
* * *
Родители – вечные труженики. Отец слесарем начинал на большом комбинате.
Толковый был, хваткий. Предлагали стать мастером, надо было только в партию вступить. Поотнекивался, от него и отстали. Сорок два года отдал родному заводу, знал всех и вся, и его знали. Сейчас на пенсии.
Мама в другом цехе проработала больше тридцати лет. Хозяйственная, домовитая, тоже – деревенская. Так что я из семьи лимитчиков, по рождению – москвич.
Откладывала мама от невеликих заработков. Раз в месяц отправляли посылки матерям, бабушкам моим. В деревне – что? Водка, да селёдка ржавая, да леденцы, нафталином провонявшие, мохнатые от махорки.
Я помню эти фанерные ящики, добротно сколоченные отцом, обшитые сверху. Суета радостная – целое событие. В субботу шли на почту. Бланк заранее заполнялся дома. Запах горячего сургуча, тягучего, как патока, коричневого. Лопаточкой его размазывают, он противится, плохо ложится на концы бечёвки. Металлическая круглая печатка въезжает в густеющую на глазах кашу, только успевай вдавить.
А мне видятся пиратские бутылки с ромом, запечатанные сургучом. Первая «толстая» книжка, которую я прочёл, – как водится, – под одеялом и с фонариком – «Приключения Робинзона Крузо»…
«Химический» карандаш на верёвочке. Окунёшь в посудинку с водой – чернила. Надо было по ткани аккуратно написать адрес, это доверяли маме.
По дороге обратно заходили в магазин, покупали продукты, и мама готовила обед.
Для заправки брала банку томатной пасты. Половина шла в шкварчащий на сковородке лук, а вторую я разводил водой и пил. Вкуснее, чем теперешний томатный сок!
Жили в коммуналке. У соседей с двумя дочками – четырнадцать квадратных метров, двенадцать метров у нас. Диван-кровать с вечера раскладывали, и оставался проход узенький у двери. Я, чтобы пройти ночью в коридор, должен был через родительский диван пробираться. Почти двадцать лет так «сосуществовали».
Поехали с отцом однажды осенью, я уже в десятом классе учился, к его сестре, в деревню, где она жила и работала учётчицей в колхозе: после техникума – направили. Подсобить ей с уборкой урожая. Управились, пообедали, взрослые. Едем назад, электричка пустая, только мы – вдвоём на весь вагон.
– А моей-то родной деревеньки уж и нет! – сказал вдруг отец. – Бурьян выше головы. Что фашисты не одолели, руководители извели! Совнаркомы, Агропром, избранники – слуги народа! Землёй завладели, ни бельмеса в земле не понимая! Стреножили, связали руки-ноги партийным словолитием. Обленились люди, плюнули, в пьянство впали от тоски и пустоты, растеряли уважение и культуру в обращении с землёй. А эти-то, руками водители – пенсии себе персональные намерили за славные дела свои по развалу страны!
Оседлала чума наш народ и погоняет. А ты вот убеди меня, не помыкай, не распоряжайся, как холуём! Я же сам на смерть в разведке шёл, под пули, не дай бог, если что, – и опять смогу, но не как баран в неведомую овчарню!
Куда-то они исчезли на время, пока лихие девяностые свирепствовали, а сейчас смотрю – опять в телевизоре мелькают. Морды – гладкие! И никакие они не слуги, а форменные – господа. Ещё и родословными обзавелись, в церковь вдруг стали ходить.
Отец смотрел на закатное солнце за окном электрички.
– Будь моя воля – до школы всех детишек в деревню бы отправлял. Да и позже – не зазорно. Соху увидеть, лошадь, корову живьём, чтоб понятно было, – что хлеб растёт не батонами. Заколосится, на твоих глазах, и ты вместе с ним растёшь, и цену ему уже знаешь, булку вон – не выкинешь в мусорное ведро. Названия трав, деревьев, птиц. Поле, лес, речка, луг, ночное. Бок нежный у лошади погладить. Пяточками босыми по земле побегать, зарядиться от неё. Это же добрая, живая энергия, потому что всё вокруг живёт, сосёт её – титьку. Главная, правда – Родина! Наша и твоя Родина. Не с картины художника, даже пусть и – самого замечательного.
Думал ли я об этом, когда пацаном по проулкам носился? Нет, конечно! Может быть, и у руководителей наших, тоже детство в деревне прошло, не все же – в городе росли! Тогда почему такое отношение хамское?
Пожар закатный полыхал во весь горизонт! Долго смотрел отец, до слёз.
Стучали на стыках колёса электрички, вытатакивали дробь очередями, раскачивался вагон. Перелески мелькали, промзоны, – неухоженное всё, кособокое, разрозненное: немыслимые железяки, раскуроченного инопланетного корабля, ржавеющего на заднем дворе цивилизаций.
Помолчал отец, достал бутылку вина, сдёрнул железными зубами, пробку сплюнул её в ладонь с горечью:
– Самая страшная контра – внутренняя! Как плесень! Откуда завелась, а пойди – выведи! Сколько извёстки понадобится, пока стенки станут белые!
Больше к этой теме он ни разу не возвращался.
* * *
Мама терпела до поры бытовые неудобства, но иногда в сердцах говорила отцу:
– Вступил бы, в партию, давно бы дали квартиру! Ну что – убудет от тебя?
Он только отмахивался, молча, не спорил, и мы ждали своей очереди.
Отец отработал на стройке сто пятьдесят часов, в выходные дни. И там к месту пришёлся – просили остаться, бригадиром сразу предлагали. Такой вот, мастеровитый человек, ко всему руки умел правильно «приложить». А тут соседка пришла, поплакалась:
– Съе́дете, а ко мне подселят опять кого-нибудь, незнамо кого!
Пожалел её отец. За других-то легче ему было просить. И отселили соседку в новую квартиру, а мы в этой остались, теперь уже двухкомнатной. Ремонт сделали.
Я был поздним ребёнком. С учёбой меня особо не контролировали, но я видел, что родители работают, и тоже – работал, чтоб не стыдно было. И любили они меня, конечно. Я это понимал, хотя слов таких и не произносилось. Жил с этим, а по-настоящему позже понял, в армии.
После дембеля три дня погулял – и за учёбу! Сперва – помощник, через полгода – машинист.
* * *
Вот так почти два десятка лет пролетело, как состав «на девяносто», на максимуме. С чего же сейчас – опротивело? Номер отбываю – через силу. Застыла стрелка, ушла радость, как вода в песок.
И заканчиваю как-то смену. В отстойнике жду команды – надо подать – на конечную станцию. Пролетел, рядом состав, и в окно с той стороны явственно кто-то костяшками пальцев постучал: мол, открывай! Повернулся в ту сторону и вижу: мужичок худощавый рванул вперёд, нырнул под створки, в нише. Там ворота – огромные, по слухам, тоннель прямо в Кремль. Да ещё и со старинными «коридорами» где-то пересекается. Двинулся я, медленно, чтобы успеть затормозить, если что. Показалось-привиделось? Зарябило в глазах после смены, за рычагами?
Езжу своим чередом, а сам – мысленно к тому мужику возвращаюсь – каким ветром его занесло в этакие места? Случайного человека сразу бы отловили.
После полуночи в метро – другая жизнь: пьяные, бомжи, люд специфический. Припозднившиеся пассажиры, с ужасом глядят на эту «разлюли малину». На станциях объявляют:
– Движение закончено, просьба освободить платформу!
Наряды милиции, как перед футбольным матчем, – усиленные.
– Выходим, граждане! Быстренько, быстренько – поспешим, метро закрыто! Освободите вагоны, выходим!
Вход в метро тоже милиция закрывает. Ключи – у них и у дежурной по станции, два всего ключа.
В одном вагоне обнаружили мужчину. Улыбается рассеянно, руками разводит, ничего не говорит. Вывели, милиция подошла:
– Кто такой? Документы – предъявите!
Молчит, плечами пожимает – не помню! Смотрит куда-то поверх голов, глаза пустые, бесцветные, рыбьи. Отражение есть, а мысль – не светиться. Волос почти нет – пух белый дымится ореолом, подбородок скошенный, безвольный. Сколько лет – не определить, застрял в каком-то младенческом состоянии тихой блажи.
И не здесь со всеми, и не в себе – пришелец. Откуда, куда путешествует, из какого тоннеля, в какое.
Где его душа бродит, с ним ли она сейчас, или оставила оболочку, а сама путешествует налегке. Отбилась и никак обратно прибиться не может, успокоиться. Выглянула, полюбопытствовать, а тут – поезд! Подхватило, листком лёгоньким, закружило, невесомым облачком. Понесло на перрон, заплёванный под ноги безжалостные, ветерком припечатало, к жвачке выплюнутой приклеилась, и – никак! Стонет, а не слышит никто. Спешат, в камень втаптывают, плееры-наушники в ушах, не замечают, не достучаться.
Вызвали бригаду, отправили в «дурку», а он и не понял. А у меня – сострадание? Жалость? Потому что себя на его месте представил и словно в вечность заглянул, а там – про́пасть – бездонная, мрак, оцепенение. Скорее – назад! Кто же застрахован?
Раньше бы мне этот «пассажир», что он есть, что его – нет. А тут вдруг сильно призадумался. Может, это какой-то особенный знак – мне послан?
А, если вдруг, разом – все люди исправятся? Дойдёт до их исковерканного нынешней жизнью сознания, что всё в Библии – Правда! Тогда к чему – Бог? Каково ему? Заново переписывай то, в чем веками убеждали, и не исполнялось! Сколько всего надо сделать, чтобы это новое правильно встало на место! Какой противовес придумать, куда сложить зло?
И чем реально заполнить пространство, оставшееся от вселенского зла?
* * *
Толстенные, герметичные «затворы» на переходах медленно закрываются. В этот «замок» ночью не проскользнуть, даже мышкам, которые завелись в магазинчиках наверху.
Пустые, резервные составы проносятся мимо платформ, гудят-ревут, предупреждают:
– Отойди от края! Не стой близко! Опасно для жизни!
Ночь на поверхности, город спать укладывается, а в метро – шум, как в часы пик: обслуга принялась за дело!
Уборщицы, электрики, путейцы – вон сколько нянек! Почти сорок тысяч в метро трудится. Чистят, скоблят «коня», к утру готовят.